Метаморфозы телепесни
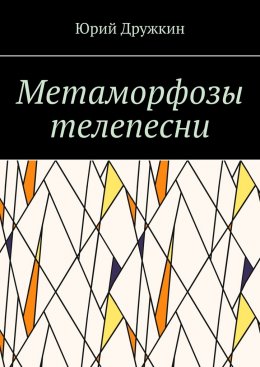
© Юрий Дружкин, 2025
ISBN 978-5-0067-7868-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Светлой памяти моей жены Ольги Дружкиной посвящается
МЕТАМОРФОЗЫ ТЕЛЕПЕСНИ
«Метаморфозы»? Это слово и само по себе выглядит как довольно рискованная заявка: слишком много ассоциаций, слишком много темных смыслов и серьезных контекстов тянет оно за собой…
А «телепесня» – что это такое? Новый песенный жанр? Новая форма культурной деятельности? Особый вид телепродукции? И достаточно ли долго существует и развивается это явление, чтобы с ним могли произойти какие-то «метаморфозы»?
Как явствует из названия, речь пойдет, как минимум, о двух вещах – о песне и о телевидении. Точнее, об их взаимодействии. Сколь глубоким и интенсивным представляется это взаимодействие, обнаруживается уже в самом термине «телепесня», где два понятия – песня и телевидение – сливаются в одно слово. И действительно, если мы всерьез хотим говорить о телепесне, то, тем самым, утверждаем, что дело не ограничивается практикой активного использования песни на телевидении. Речь идет о появлении на свет особого социокультурного феномена, обладающего своими особенными чертами. А слово «метаморфозы» указывает на то, что у этого феномена есть уже своя история, на протяжении которой он не раз менял свой облик. И своя пред-история. То, что произошло с песней на телевидении, было подготовлено целым рядом процессов и обстоятельств, имевших место ранее.
У этой предыстории есть разные аспекты, некоторые из них мы выделим особо: технологический – телевидение как особое техническое (информационное) средство, социологический – телевидение как особая форма массовости. И с этим нам тоже придется как-то разбираться. Есть и третий аспект, едва ли не самый важный – культурологический. Телевидение, помимо прочего, есть особая культурная среда, особый культурный контекст, особая система культурных ожиданий и культурных норм, культурных смыслов и культурных ценностей. Здесь сложились и свои традиции, и своя мифология. Телевидение как культура – плоть от плоти культуры своей страны, своего народа. Хотя, конечно, есть не меньше оснований говорить об универсальных (общемировых) особенностях и тенденциях развития телевизионной культуры. Сразу оговоримся, что в данной книге речь будет идти о взаимодействии отечественной песни и отечественного телевидения. Отечественное телевидение – особый культурный поток. Отечественная песня также есть особый культурный поток, со своей технологией, социологией, культурными нормами, ценностями, мифами… В какой-то момент песенный и телевизионный потоки потоки соединились, их «воды» смешались.
Однако нет ли здесь натяжки? Не пытаемся ли мы искусственно притянуть друг к другу совершенно разные по своей природе вещи? С одной стороны, песня, как текст культуры, как музыкально-поэтическое произведение, как жанр. С другой стороны, телевидение, которое, если и имеет отношение к песне, то лишь как особая среда ее существования, как особое, появившееся лишь в ХХ веке, пространство ее бытия. Тут-то и возникает очень непростой, интересный и чрезвычайно важный вопрос об отношении песни со своей средой, с пространством своего бытия. Феномен телепесни лишь обновляет и в чем-то заостряет этот вопрос, имеющий длительную историю и чрезвычайно важный для жанра песни во все времена. И, прежде чем говорить о современной ситуации, нам придется погрузиться в прошлое.
Сколько существует песня, столько существует ее отношение со своей жизненной средой, отношение столь же фундаментальное и существенное, как и отношение к своей среде любого живого организма. И в этом смысле, песня действительно очень напоминает живой организм. Она точно также умеет гибко приспосабливаться к среде, меняясь сама. С другой стороны, она, как и живой организм, умеет менять среду, приспосабливая ее к себе. Последнее не столь очевидно, а кому-то может даже показаться спорным. И в этом стоит разобраться.
Земля и песня
Едва ли не самая древняя среда существования песни — природный ландшафт. Природа – исходное пространство песни, память о котором она сохраняет по сей день. Стало привычным использование слова «пространство» не только для обозначения физического пространства, но и вообще любой сферы, где действует тот или иной тип отношений или взаимодействий («экономическое пространство», «политическое пространство», информационное пространство» и т.п.).
Отталкиваясь от расширенного понимания пространства, можно определить ландшафт, как относительно устойчивую содержательную организацию пространства. Чистое «пространство» есть лишь возможность разных способов такой организации. Чуть конкретнее – ландшафт есть структура среды.
Всё же этого не достаточно. С «ландшафтом» всё сложней. И интересней.
Для начала обратимся к примеру вполне прямого, не метафорического толкования этого слова: «ЛАНДШАФТ – 1) общий вид местности; 2) картина, изображающая природу, то же, что и пейзаж; 3) л. географический – природный географический комплекс, в котором все основные компоненты: рельеф, климат, воды, почвы, растительность и животный мир – находятся в сложнейшем взаимодействии, образуя неразрывную систему. (Словарь иностранных слов. М. «Русский словарь» 1990).
Среди этих трех смыслов к нашей теме ближе всего географический, опирающийся на понятие «система». Именно он в значительной мере проясняет тот факт, что ландшафт (в прямом, в буквальном, а не переносном, не метафорическом и не философском смысле) является одним из самых древних текстов культуры. Примеры, подтверждающие такое понимание, общеизвестны.
– Для архаических сообществ характерно тотальное включение всех значимых элементов местности проживания в структуру мифа. Все элементы ландшафта и ландшафт в целом наполняются смыслами, становятся носителями преданий и т. д. В значительной мере благодаря этому миф материализуется и становится непосредственной средой обитания. Связь ландшафта с мифом не прерывалась никогда.
Эта черта сохраняется в более поздние времена. Так, в народном сознании (и как следствие в народных песнях) исключительное значение имеет Река (Дон Иванович, Терек Горыныч, Волга-матушка и т.д.). Известная аналогия между рекой и песней, текущей как река, указывает на то, что и сама река в определенном смысле является как бы песней – бесконечно текущим текстом культуры, бесконечно несущим свои смыслы, как поверхностные, так и глубинные.
Нечто аналогичное происходит с горами (вершинами и ущельями), равнинами, полями, лесами, болотами, а также дорогами.
– Если архитектурный ландшафт правомерно рассматривать как текст культуры (а для этого есть все основания), то это относится в равной мере и к собственно постройкам, и к земле, на которой эти постройки стоят. Таков, в частности, ландшафт Московского кремля Кремля. И не только. Архитектурный ландшафт – это укорененный в Земле, неразрывно с ней связанный развивающийся гипертекст. Человек, попадающий в контекст ландшафта становится одновременно и его читателем, и его частью (включается в него). Значение прихода на эту Землю и стояния на этой Земле может забываться. Но время от времени об этом почему-то вспоминают.
– Укорененность в земле многих священных текстов (Библия), писаний и преданий, а также мифов (Олимп). Идея паломничества несет в себе идею путешествия к Тексту и внутрь Текста (к священной Земле как к священному Тексту). Существенна сама возможность попадания внутрь Текста как целостного Мира. В этой логике сотворение Мира (Земли и Космоса) естественным образом понимается и как сотворение Текста (Космос и Земля как Текст). Ландшафт, таким образом – часть этого большого Текста. Базовый текст культуры стоит на земле, вырастает из нее и одновременно врастает в нее, питается ее соками и в ответ насыщает ее своими смыслами. Естественным следствием этого является «землеукорененность» всей культуры.
Такое понимание ландшафта от вышеприведенного географического отличается, прежде всего, тем, что здесь мы имеем дело с одухотворенным ландшафтом.
ВЫВОД ПЕРВЫЙ: ЛАНДШАФТ ЕСТЬ ТЕКСТ
Древнейший текст (архетекст), ландшафт одновременно и древнейший гипертекст, и прототекст, порождающий из себя все остальные культурные тексты. Ландшафт в его единстве с человеком, с человеческим сообществом можно рассматривать в том числе и как архетип самой культуры. Впрочем, делая такие утверждения, не будем забывать оговариваться: «в определенном смысле».
В определенном смысле справедливо и обратное: ТЕКСТ ЕСТЬ ЛАНДШАФТ. Основания для такого утверждения есть – генетические, структурные и функциональные.
– ГЕНЕТИЧЕСКИЕ. Если ландшафт не просто метафора культуры, а архетип (архе-текст), то вся культура в значительной мере восходит к нему, неся в себе существенные характеристики своего источника. Это означает, что момент подобия текста или текстовой системы с ландшафтом должен пониматься не как простая аналогия, а как подобие, обусловленное происхождением – ГОМОЛОГИЯ. (В рамках эволюционной биологии гомология интерпретируется как сходство, обусловленное происхождением).
– СТРУКТУРНЫЕ. Как и ландшафт, текст культуры (особенно художественный) образует живую систему, где все находится во взаимосвязи. Органическая целостность ландшафта и органическая целостность художественного текста в значительной степени определяет особенности эстетического восприятия и того и другого. Мы нередко воспринимаем ландшафт (не изображенный, а реальный) как художественное произведение, получая эстетическое наслаждение.
– ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ. Речь, прежде всего, идет здесь о взаимодействии человека и текста. Чем сложнее текст по своей внутренней организации, чем меньше в нем искусственного и чем больше живого, тем сильнее проявляется сходство текста с живым ландшафтом. Так важнейшим моментом полноценного (интенсивного) художественного восприятия является своеобразное «погружение» в текст, «вхождение» в него, попадание внутрь. Психотехника интенсивного художественного восприятия предполагает включение всего тела в процесс взаимодействия с художественным текстом. Воспринимая произведение, мы находимся не только вне его, не только созерцаем его со стороны, но и попадаем внутрь, становимся его частью. Этим воспроизводится архетипический механизм взаимодействия с реальным ландшафтом, когда человек непосредственно включается в ландшафт и тем самым оказывается включенным в текст, становится элементом этого текста, наполняется смыслами этого текста.
Два симметричных утверждения: а) «ландшафт в определенном смысле есть текст» и б) «текст в определенном смысле есть ландшафт» таят в себе нечто большее, чем их подобие. Их действительное отношение хорошо объясняют известные слова: «Земля еси – и в землю возвратишься». Хотя уместно было бы вспомнить и о круговороте воды в природе. Внутреннее родство ландшафта и текста определяет собой непрекращающееся их взаимодействие.
Есть факты просто лежащие на поверхности. Один из них – устойчивое «присутствие» ландшафта и его элементов в системе художественной реальности. Поэзия и проза, живопись, кино… Везде, где это технически возможно, ландшафт проникает в систему художественной образности. Огромное число таких примеров дает и песня. Отдельная и гораздо более сложная тема – влияние ландшафта на особенности формообразования. В частности, в музыке.
Взаимное тяготение, взаимопроникновение (диффузия), взаимодополнение и взаимонаполнение ландшафта и культурного текста проявляют себя весьма многообразно. Приведу пример из собственного опыта. В начале восьмидесятых годов, став участником так называемого фольклорного движения, я имел возможность пережить то, что переживали тогда многие другие его участники. Мы смогли почти физически ощутить взаимное притяжение Земли и Песни. Проявлялось это двояко.
С одной стороны, выучивая все новые песни, осваивая по мере сил, исполнительские традиции, мы обнаруживали, что остается чувство неудовлетворенности если не осуществить еще одно важное действие. Оказалось, что песню обязательно нужно спеть в естественной природной среде, стоя на земле, лучше рядом с рекой или другим водоемом. То есть, включить песню в ландшафт.
С другой стороны, оказываясь в природной (ландшафтной) среде, мы испытывали некую неполноту ее восприятия, недостаточную включенность в нее нас самих, если мы не озвучивали ландшафт исполнением известных нам народных песен. Здесь важен был и звук, специально адаптированный к особенностям открытого пространства. Мы с помощью этого звука как бы расширяли пространство своего присутствия внутри ландшафта. Куда долетал звук, там были и мы сами. Для проникновения в песню был нужен ландшафт. Для проникновения в ландшафт нужна была песня. И то и другое было нужно для полноты ощущения жизни. Из этого опыта развилось общее устремление за пределы города, к природе, к земле. И некоторые из нас это стремление реализовали.
Можно сказать, что с помощью песни происходит актуализация культурной природы ландшафта, он оживает и раскрывает себя как текст. Сама песня, таким образом, есть не просто текст культуры, а такой текст, который делает текстом все то, к чему прикасается. Можно сказать еще и так: песня несет в себе миф, и все, что приходит с ней в соприкосновение, становится частью мифа и раскрывает свои мифологические горизонты. Встреча Песни и Земли есть встреча двух миров и двух мифов.
Пространство, чтобы стать освоенным, человеческим должно быть организованным, структурированным, то есть превратиться в ландшафт. Но этого недостаточно. Ландшафт не станет очеловеченным, если в нем не будет человеческих (культурных) смыслов, если он не будет текстом и не будет связан с иными текстами, если не будет происходить его взаимодействия с системой культуры.
Справедливо и обратное: текст не будет живым и не будет ассимилирован (присвоен) человеческим сознанием, если не найдет своего места в пространстве сознания и в пространстве жизни.
Если есть пространство и есть ландшафт, то имеет смысл говорить и о территории – культурной территории. В этом смысле можно говорить о территории рока, территории панка, территории гитарной песни. Можно говорить и о территории телепесни. Можно также говорить и о тех, кто эти территории «населяет». На территории, как правило, кто-то живет и что-то делает. Ничья территория означает, что её можно захватить, сделать своей. Можно говорить о территориальной экспансии и даже территориальных «войнах». Территория отличается тем, что она ассоциируется с идеей населения. Кроме того становится существенным момент пограничных отношений и взаимодействий. Речь также может идти о развитии территорий (не только в плане их роста или уменьшения, но и усложнении жизни внутри территорий). Кроме того, территории могут делиться (территориальная целостность) или объединятся. И это, по-видимому, тоже не только метафора.
Свои территории есть и у песен. И не в метафорическом, а в буквальном, географическом смысле. И даже современные процессы глобализации никак не отменяют это принципиальное обстоятельство. А для традиционного фольклора сказанное – непреложный закон. Здесь территориальную привязку имеет и определенный вариант распева той или иной песни, и манера исполнения, и способ звукоизвлечения и многое другое. Песня и Земля в этой культуре составляют единое целое.
И дело не только в том, что песня приходит на определенное место, обживается, обустраивается, приспосабливаясь е его условиям. Есть и обратный процесс: любой природный ландшафт имеет свою звуковую составляющую, как бы порождает свою интонацию. Лес звучит не так, как поле, ручей – не так, как водопад. И даже тишина в этом контексте есть особого рода звучание, как пауза в музыке – особого рода звук. Если же «соскользнуть» отсюда к вещам менее очевидным и связанным тонкой творческой игрой восприятия, то мы согласимся и с тем, что пруд «звучит» не так, как лежащий в поле огромный камень. Да и каждый камень звучит по-своему…
Теперь поставим вопрос иначе: может ли музыка принимать участие в структурировании культурного пространства, формируя при этом свои (музыкальные) ландшафты? Конечно может. Прежде всего такому структурированию служит жанровая система музыкальной практики. Так музыкальный ландшафт села отличается от музыкального ландшафта городского центра, а музыкальный ландшафт Москвы XIX века от музыкального ландшафта Москвы нашего времени. Здесь всё вроде бы понятно. Но не все так просто.
Вспомним знаменитое определение Асафьева – «Музыка – искусство интонируемого смысла», и теперь поставим вопрос так: существует ли интонационный ландшафт? Ответ на этот вопрос, скорее всего, должен быть отрицательным. И вот почему. Смысловая «направленность» понятия «интонация» по сути, противоположна смысловой направленности понятия ландшафт. Ландшафт структурируют целое, деля его на части, устанавливая отношения между частями. Он определяет изначальную неопределенность пустого пространства. Интонация, напротив, преодолевает разность разного, внеположенность внеположенного, возвращая разделенному целому изначальную нераздельность. Интонация нарушает границы, она стремится «смазать карту» любого «будня».
Это странное свойство интонации вырастает из природы звука. Представим себе большой колокол. У него, как и любого физического тела, есть устойчивая форма. У него есть границы, внутри которых и находится субстанция, из которой он сделан. Пока колокол молчит, его внутренняя сущность остается внутри него самого. Не выходит за рамки его пространственных границ. Но ударьте в него – и эта сущность явится. Не просто явится, а «выплеснется» за пределы границ его как тела. Его содержание сбросит оковы формы геометрической и обретёт новую форму – форму энергетического импульса. Звук и есть структурированный во времени энергетический импульс. Звучание – эманация внутреннего содержания звучащего тела во вне. Субстанциональные свойства колокола становятся свойствами его голоса. Другой сплав даст другой звук. Если молчащий колокол был «вписан» в ландшафт, то теперь он не просто занимает в нем свое место, но разливается по всему его пространству, «игнорируя» границы между его устойчивыми элементами.
Собственно интонация (в том числе, музыкальная) характеризуется вдобавок к сказанному ещё и тем, что она есть преодоление границ не только между разными объектами, но и, что существенно, между разными субъектами. Интонация проявляет психические характеристике субъекта, объективирует субъективное. Внутреннее состояние субъекта превращается в звучание (сложно организованный энергетический импульс). Восприятие интонации есть обратное превращение этого импульса в состояние субъекта восприятия. Первоначально интонирование (интонационный процесс) реализуется с помощью голоса (голосовое интонирование).
Однако практика показала, что в процесс интонационного взаимодействия субъектов могут быть включены (вовлечены) самые разные физические объекты. Специализированные объекты такого рода и стали музыкальными инструментами. Если человек заставляет (сам, своими руками или своим дыханием) звучать некий предмет, то он вольно или невольно вкладывает в звук свое субъективное содержание (свою душу). И даже такое массивное тело, как колокол (опытные звонари это подтверждают), передает характер и состояние того, кто приводит его в движение. Удивительно, но это слышно! Субъект начинает звучать, его субъектность объективируется, внутреннее овнешняется, и становится воспринимаемым для других субъектов.
Как интонация взаимодействует с ландшафтом? Она пронизывает его насквозь, проникает во все его поры, заставляет со-вибрировать и насыщает своими смыслами. Что-то подобное производит театральное освещение, способное радикальным образом изменить образ, создаваемый декорациями. Касается это и физического и культурного ландшафта.
Интонация не включается в ландшафт в качестве одного из его элемента, но воздействует на него целиком. Это определяет двойственную природу музыкального произведения. Как произведение (как вещь) оно является элементом культурного ландшафта. Как интонация, сложная, комплексная интонация, интонационный сгусток, она не локализуется в пространстве культуры (не занимает своего места в культурном ландшафте). Получается что-то вроде корпускулярно-волнового дуализма в квантовой физике.
Интонационный сгусток (даже самый, казалось бы, простой) не может иметь «ничтожного» содержания. О чем эта музыка? Она обо всём. Независимо от величины произведения. И независимо от наличия конкретной программности. Аспект универсальности произведения никуда не исчезает. Его содержанием всегда является картина мира в целом.
Мы говорим, что музыка передает «настроение». Но «настроение», и есть совокупность настроек сознания, которое здесь и сейчас воспринимает и оценивает весь свой опыт, как текущий, так и прошлый. Это та «колокольня» с которой я смотрю на реальность. Можно также употребить метафору «очков», сквозь которые мы смотрим на мир. Тогда интонационный сгусток становится «интонационными очками».
Интонационный сгусток, вообще говоря, не совсем верное выражение. Оно навязывает образ чего-то совершенно неупорядоченного, бессистемного, что не так. Скорее, это интонационный «ген», с помощью которого выращивается целое, Хаос превращается в Космос. Музыка дает способы превращения хаоса опыта в космос картины мира. А если это так, то от интонационных потоков зависит вся картина мира, и, соответственно, вся картина культуры. Зависит все пространство культуры и все его ландшафты, как мы их воспринимаем, оцениваем и осознаем.
То, что мы слышим, в значительной мере определяет то, как мы видим.
Взаимодействие песни и ландшафта имеет свою энергетическую составляющую. Мы уже обратили внимание на то, что интонация представляет собой смысловое содержание в форме энергетического импульса (звук – временная форма энергетического импульса). Другими словами, смысл и энергия – две необходимые составляющие интонации. Заметим, что сказанное справедливо и для человеческой эмоции (чувства, аффекта). Эмоция тоже имеет свою смысловую (отношение к чему-то) и энергетическую составляющую. Интонация и эмоция таким образом обнаруживают своё существенное подобие.
Интонация, лишенная энергии, не может совершать свою специфическую работу, работу с человеком и в человеке, работу с культурой и в культуре. Ведь перенастройка восприятия (осознания) и перестановка смысловых акцентов – это тоже работа.
Интонируемый смысл передается именно в энергетической форме. А поскольку форма и содержание имеют тенденцию превращаться (перетекать) друг в друга, то сам этот импульс (этот энергетизм) может становится моментом содержания. Иногда очень важным, иногда самым важным.
В истории музыки мы можем найти множество примеров, подтверждающих этом. Немало их и в истории песенного жанра. Развивалась эта тенденция постепенно. Так в жестоком романсе, в цыганском романсе (песне) сила переживания стала явно обнаруживать свое самоценное значение. Нечто подобное мы можем увидеть в танго (речь идет не столько о танце, сколько именно о песнях соответствующего жанра). Но здесь сила переживания ещё напрямую связана со смыслом переживаемого и опирается на него.
Качественный скачок произошел тогда, когда были найдены и широко использованы музыкальные средства добывания энергетических ресурсов как бы напрямую, энергии как таковой. Энергия ведь способна превращаться, конвертироваться, и её, условно говоря, можно как бы «отвязать» от исходного содержания.
Строго говоря, выход на «чистую» энергию и её утилизация – не новость. Эта практика уходит корнями в архаику. «Энергетизирующие» и «мобилизующие» музыкальные средства использовались и позже. Например, марш. Но ХХ век, который по праву можно было бы назвать веком больших энергий, научился добывать интонационную энергию в промышленных масштабах. Так, джаз нашел свой источник дополнительного жизненного тонуса. Без этого тонуса не было бы специфического джазового эмоционального раскрепощения, своеобразной «бонусной» порции внутренней свободы.
Року удалось выйти на значительно более мощные энергетические пласты глубинного залегания. Речь тут уже не о тонусе и эмоциональной раскрепощенности. Переход от джаза к року означает серьезную смену приоритетов. Ценность дополнительного жизненного тонуса уступает место ценности мощного экстатического взрыва. Ценность внутреннего раскрепощения оттесняется на второй план ценностью яростной атаки во вне. Для этого и энергии требуются другие. И количественно и качественно.
Рок научился эту энергию добывать. А затем и продавать. Появление этой небывалой дотоле индустрии по добыванию и использованию психических энергий и стало, пожалуй, тем основным принципиально новым, что принесла с собой рок-эпоха. Здесь встретились современная индустрия и глубокая архаика. Как, собственно и в некоторых других областях энергетической индустрии. Что такое уголь и нефть, как не «горячий привет» современности из давно прошедших геологических эпох? Так и энергия, добываемая роком, была заложена в бессознательное во времена весьма от нас далёкие. Но это не лишает нас права называть её музыкальное проявление интонацией. Это просто такая интонация.
Оказывается, культурный ландшафт включает в себя и довольно значительную подземную область. В отношении физического ландшафта наблюдается устойчивая тенденция проникновения в его глубины для овладения залегающими там ресурсами. Прежде всего энергетическими. Нефть, газ, уголь – это, по сути, жизнь, бушевавшая на планете миллионы лет назад, в отдаленные геологические эпохи. Это солнечная энергия, аккумулированная земной жизнью миллионы лет назад. Нечто аналогичное происходит сейчас и с культурным ландшафтом, и с самим человеком. Идет освоение глубинных, архаических пластов культуры и психики – тех пластов, где лежат богатые энергетические ресурсы.
Добыть и утилизировать – вот лозунг эпохи. И её интерес направлен туда, где спрятана энергия. Энергия инстинкта и архетипа. Энергия бессознательного. Человек вернулся к мифу. Но вернулся с практическими намерениями. Он пришел за ресурсами.
Так вот, рок стал способом добывания этой формы специфической интонационной (эмоциональной, психической) энергии. И мы уже довольно длительное время являемся свидетелями этого процесса. Первоначально энергия была связана с новыми смыслами и идеалами, новыми (обновленными) целями, с борьбой в политике, в культуре (или против культуры) … Затем, как это обычно и бывает, её стали успешно использовать в развлекательной индустрии. И опять-таки в промышленных масштабах. Может ли это продолжаться бесконечно?
Появление этого феномена произвело тот эффект, о котором мы уже говорили в связи со способностью интонации воздействовать на все ландшафты культуры, придавая им иной вид, менять картину культуры и картину мира. Но эта способность постепенно растрачивалась.
Что мы наблюдаем в последние годы? Теперь все эти когда-то самодостаточные средства потеряли свою былую самодостаточность. Мощное визуальное подкрепление – стало правилом. Песня превратилась в зрелище.
Мы задаем себе вопрос: а всегда ли то, что мы слышим определяет то, как мы видим? Пожалуй, не всегда. Сегодняшняя практика бытования (прежде всего телевизионного) песни демонстрирует противоположную тенденцию: то, что мы видим, определяет и то как мы слышим, и то, как мы дышим (чувствуем, думаем, осознаем).
В общем-то, тенденция эта родилась не сегодня. Еще во времена появления дискотеки значение визуальной поддержки (упаковки) оказалось достаточно высоким. Что-то похожее можно было видеть и в организации музыкальных шоу, гала-концертов, рок-фестивалей… Тенденция визуализации развивалась постепенно. Первоначально видеоряд к песне выступал в качестве иллюстрации, визуальной конкретизации или некоторого образного дополнения или общей эмоционально-смысловой поддержки. Сама по себе такая «поддержка» уже содержит в себе риск потери песней её художественной самодостаточности.
Но затем, аудиоряд как бы пошел вслед за рок-музыкой, научившись выполнять ту самую «энергодобывающую» функцию, о которой шла речь в связи с энергетикой интонации. Это хорошо иллюстрирует стилистика многих клипов, где используется техника быстрого и ритмичного предъявления визуальных стимулов, впрямую воздействующих на глубинные (архаические) структуры психического (инстинкты и архетипы бессознательного).
Визуальная составляющая песни как бы стремится вытеснить аудиальную, взяв на себя её роль. Ей не интересно оставаться упаковкой песни. Она как бы хочет стать сердцем песни, стать новой интонацией, не слышимой, а видимой захватив место за дирижерским пультом оркестра сознания.
Именно телевизионная песня доводит этот процесс до своего логического конца. Если эстрада в значительной мере отрывает песню от ее естественной среды (и природной, и социальной), то телевидение как бы восстанавливает полноту ее прежних связей. С одной стороны, звучание песни телевидение легко связывает с любым видео-рядом, в том числе и с любой картиной природы. С другой стороны, благодаря телевидению, песня проникает в наши дома и тем самым происходит ее возвращение в быт. С этим спорить невозможно. Вопрос лишь в том, насколько это возвращение является настоящим. Что это – действительное восстановление естественных для песни связей, или иллюзия их восстановления?
Мы пока ограничимся лишь постановкой этого вопроса с тем, чтобы еще не раз к нему вернуться.
От среды природной к среде рукотворной
От природного ландшафта перейдем к техническим средствам, которые всегда играли заметную роль в развитии культуры, а с ускорением технического прогресса становятся чуть ли не главными действующими лицами театра культуры. Кроме того, эти средства в своей совокупности образуют качественно новую среду бытования песни. И есть все основания полагать, что многие закономерности взаимодействия песни со своей жизненной средой, обнаруженные нами выше, каким-то образом проявляют себя и на новом витке развития.
Сегодня мы живем в мире, меняющемся быстро, как никогда. Это – банальность, но она, тем не менее, остается одним из самых фундаментальных условий нашего существования. Окружающая среда меняется «на глазах», но не только глазами мы можем это воспринимать. Перемены и видны, и слышны. Прежде всего, благодаря быстро сменяющимся музыкальным стилям. А также потому, что за последние полвека большие изменения произошли в области техники звукозаписи и звуковоспроизведения. Отражается это и в расширении наших возможностей оперирования со звуковой материей, и в самом качестве звучания. Блага прогресса!
У этого прогресса есть техническое и человеческое измерение. Те, кому сейчас пятьдесят и более, чувствуют себя вполне современными людьми, свободно пользуются компьютерной техникой, Интернетом и пр. Но они хорошо помнят и «эру патефона». А это – не только другая техника, но и другая жизнь…. «Ну и пусть, – скажет кто-то, – было и прошло. Какой интерес вспоминать? А что касается таких вопросов, как отношение прогресса, культуры и жизни, то об этом уже много писалось и говорилось….». Готов согласиться, со всем, кроме одного: не прошло это бесследно, а продолжает незримо влиять и на сегодняшний день, и на завтрашний. Влиять тем, что это было, и фактом того, что это прошло. Так что, не экскурсию на «свалку истории» предлагаю совершить, но попытаться разглядеть присутствие нашего «вчера» в движении нашего «сегодня».
Странная вообще вещь – «мир культуры». Само это выражение давно стало штампом с выветрившимся смыслом. Иногда в нем еще прощупывается некий метафорический пульс, но понимать его буквально как-то не принято. Да и что оно могло бы значить в этом случае? Думаю, прежде всего, то, что миру этому присуще свое собственное «мироустройство», то есть свой порядок, свои принципы строения и связи вещей. В этом мире «рукописи не горят» и смыслы «не выветриваются», а накапливаются и уплотняются. Мгновение, будучи прекрасным, может быть остановлено. В одну реку можно входить и дважды, и трижды, и сколько угодно раз. Хаос превращается в космос, бессмысленный шум – в осмысленный сигнал. Мертвое оживает, неодушевленное одушевляется. Все стремится стать текстом, текст абсолютен и является всем. Причина и следствие могут меняться местами. Что же касается прогресса и регресса, то эти понятия именно здесь с особой отчетливостью обнаруживает свою относительность.
Простой пример – камин. В техническом отношении – явный анахронизм. Его практическая полезность в наши дни более чем сомнительна. Но это лишь подчеркивает его неутилитарную – культурную и эстетическую ценность для современного человека. Камин – очеловеченная вещь. Он несет в себе историческую память, а обращение с ним – почти ритуал. Самая совершенная система, автоматически поддерживающая температуру, влажность и иные параметры, заботится о нашем комфорте, а сама скромно остается в тени, не требуя от нас даже минимального внимания. Это ее безусловное преимущество. Но основой для накопления смыслов и образования ритуала она вряд ли способна стать.
Очеловечивается лишь та вещь, которая притягивает наше внимание, с которой необходимо взаимодействовать, причем, желательно, по определенным, зафиксированным в культуре правилам. Она служит нам, а мы – ей. Но это еще не все. Очеловечиванию вещи (или домашнего животного) служит прикосновение, передача «тепла руки», ласка. Так мотогонщик может ласково похлопывать свой мотоцикл. Ему действительно нужен очеловеченный мотоцикл, партнер, друг, а не мертвый механизм. Наконец, есть такое «сильное средство» – наделение именем. Именем чаще всего наделяются те предметы, от которых в значительной мере зависит наше благополучие, здоровье и даже жизнь, – рыцарский меч, корабль…. Все это – не какие-то антропологические «раскопки», не архаика, а обыденная практика людей вполне современных. В наши дни многие автолюбители (особенно, женщины) воспринимают свою машину не просто как живое существо, но и как существо, наделенное полом, характером, а иногда дают этому существу человеческое имя (которое, как правило, держат в тайне). В конечном итоге имеет значение не столько прикосновение или наделение именем, сколько та или иная настройка сознания. Мы можем смотреть на вещи очеловечивающим взглядом. Это делает мир вокруг нас живым. Но есть возможность смотреть даже на человека «расчеловечивающим» взглядом – и он превращается в вещь. Так смотрят на раба, слугу, вообще на того, кто интересует нас лишь как носитель определенной функции.
Здесь возможна альтернатива: хотим ли мы жить среди очеловеченных вещей, или предпочитаем внешний («объективный») комфорт, где вещи лишь создают удобство, помогают в достижении целей, позволяют экономить силы, время и внимание, никак не претендуя на эти столь важные для нас ресурсы. Говоря строго, это не совсем альтернатива, это, скорее, спектр возможностей. А решение, отчасти, мы выбираем сами, отчасти, его нам «диктует жизнь».
Все сказанное имеет прямое отношение и к вопросу о прогрессе аудио- и видеотехники. Эта аппаратура находится в нашем доме и живет с нами, или просто служит нам – это, кто как воспринимает. И все же технический прогресс последних десятилетий явно склонял чашу весов в сторону второго варианта. Это вполне отвечало преобладающим общественным ожиданиям. Действительно, можно было только радоваться тому, что на смену «простым» пластинкам пришли «долгоиграющие», патефонная пружина уступила место электричеству, шипения становилось все меньше, звучание постоянно улучшалось, появилась стереофония, магнитофон раскрыл невероятные дотоле возможности не только «потреблять» музыку, но и вносить свой вклад в культурную жизнь. Новая фаза прогресса – борьба за компактность, легкость и дешевизну. Наконец, цифровая звукозапись, сделавшая компьютер активным участником нашего общения с музыкой. А раз компьютер, то и Интернет. Что-то еще ждет нас в ближайшем будущем? А ведь что-то, безусловно, ждет!
Однако, взглянем на эту историю под иным углом зрения, поместив ее в ту смысловую рамку, которую мы наметили выше. Мы увидим, как «человеческая составляющая» современной аудиотехники делается все более эфемерной и призрачной. Аппаратура занимает все меньше места, требует все меньше физических усилий и внимания к себе. Сегодня, как правило, дешевле купить новый плеер, чем ремонтировать старый. Управлять техникой становится все проще. Специальный пульт позволяет делать это, не поднимаясь с дивана, и освобождает нас от необходимости трогать аппаратуру руками. Это приятно и рождает чувство власти над материей. Современная техника, как бы помогает мне «почувствовать себя человеком», нисколько не претендуя на взаимность. Что это, приобретение или потеря? Воздержимся пока от окончательного суждения и обратимся к воспоминаниям, но воспоминаниям без ностальгии, воспоминаниям о том, как служила нам и как жила вместе с нами музыкальная техника прошедших десятилетий.
Начать разумно с «эпохи патефона». Именно в это время присутствие звуковоспроизводящей техники в быту приобретает массовый характер. Мы, конечно, не вправе забывать и о фонографе Эдисона, и о первых граммофонах. Фонограф был первым и самым мощным прорывом в будущее за всю историю этой техники. Он носит на себе печать чуда – первой удачной попытки поймать и «законсервировать» живой звук. Тот факт, что сам он звучал, как консервная банка никак не снижает значения этого подвига. Граммофон репродуцирует это чудо, делает его доступным для «избранных», для тех, кто «может себе это позволить».
Появление патефона важно для нас не с технической стороны (замена внешнего раструба на внутренний) а как явление общественной и культурной жизни нашего народа. Возьмите старый советский патефон (если, конечно, сумеете его достать), рассмотрите внимательно его устройство, прислушайтесь к звучанию. Или хотя бы мысленно попытайтесь сделать это. И вы согласитесь, что «эру патефона» можно было бы назвать «железным веком» звукозаписи. Все самое важное в нем сделано из стали: игла, мембрана, звукосниматель, пружина, рычаг. Непременный атрибут – коробочка с запасными иглами. Сточилась одна – на смену ей пришла другая, точно такая же, и «отряд не заметил потерю бойца» – «незаменимых нет».
Это стальное царство имеет соответствующее внешнее оформление – ничего лишнего, все строго функционально. Сами патефоны такие же одинаковые и неотличимые друг от друга, как патефонные иглы, как автоматы Калашникова, как обритые наголо и одетые в шинели солдаты. Впрочем, здесь нужно оговориться. Это по нашим стандартам они выглядят столь одинаковыми, ибо мы привыкли к значительно большему разнообразию во всем. И мы не увидим существенной разницы между патефонами разных марок: «Владимирский», «Дружба», «Коломна», Краснознаменск», «Ленинград» и др. Все тот же прямоугольный ящик, обитый коленкором. Если нам сейчас приходится услышать его голос, то мы, прежде всего, обращаем внимание на шипенье, потрескивание, на стиснутый, задавленный тембр. Есть еще один, важный момент: некий «железный привкус», передающийся и голосам певцов и звучанию инструментов.
Все это рождает у современного человека довольно неприятные исторические ассоциации. Однако не будем спешить с диагнозом. Под стальными доспехами патефона билось живое сердце. Рискну предположить, что патефон – едва ли на самое одушевленное звуковоспроизводящее устройство. Прежде всего, заметим, что у патефона было достаточно времени и для очеловечивания, и для того, чтобы приобрести значение культурно-исторического символа. В тридцатые годы ХХ столетия он прочно вошел в быт советских людей, и лишь в начале шестидесятых уступил свои позиции электропроигрывателю и радиоле. За это время он не только успел засеять необъятные просторы страны стальными семенами своих иголок – какие-то еще будут всходы? – но и сформировал особую культурную модель взаимодействия с музыкой в быту (во дворе, в коммунальной квартире, на даче, на дружеской вечеринке…).
Эта модель предполагала весьма активное участие человека. Не из этой ли активности сложилась впоследствии роль диск-жокея? Здесь многое было необходимо делать руками, причем, осторожно и умело. Примерно каждые 5 минут нужно было заводить пружину с помощью специальной рукоятки. За это время проигрывалась одна сторона пластинки (78 оборотов в минуту). Подкручивать пружину следовало до конца, но ни в коем случае не пережимать, чтобы не лопнула. Если забывали вовремя сделать это, патефон сам напоминал о себе: звук становился все ниже, лирический тенор поражал слушателей неожиданной густотой баса, затем следовало быстрое глиссандо вниз и все замирало. Другая постоянная забота – смена пластинок. Делать это приходилось часто и, при этом, как-то выстраивать очередность музыкальных номеров, то есть, думать, принимать решение. Так что суета вокруг патефона была неотъемлемым атрибутом вечеринок того времени. Была ли она слишком обременительной? Не думаю. Скорее это было частью увеселительного ритуала. Чтобы сменить пластинку, надо было сделать довольно много движений: снять звукосниматель с отыгравшей пластинки, снять ее саму и убрать в пакет. Взять другой пакет и вынуть из него новую пластинку, оглядеть внимательно (нет ли царапин?), смахнуть пыль, положить на круг, очень осторожно поставить звукосниматель и отпустить рычажок тормоза. Раздавалось знакомое шипенье, начинала вальсировать этикетка, наклеенная не строго по центру, рождалась музыка. При таком взгляде на этот процесс, шипенье пластинки – не просто фон, помеха, а необходимый момент мистерии, субстанция, из которой возникает музыка, как Афродита из морской пены. Не случайно этот шум стал знаком, культурным символом. Объективно смена пластинок требовала всего лишь осторожности. Но это становилось ритуалом и выполнялось уже не просто аккуратно, но с артистизмом. Тут были особые возможности для творческого самовыражения. Все можно было делать картинно: красиво взять пакет, небрежно выкатить пластинку на, руку, прищурившись, осмотреть ее на свет, смахнуть пыль, используя для этого разнообразные подручные средства: специальную фланелевую тряпочку, носовой платок, рукав, галстук, да и мало ли чего еще!
У патефона не было регулятора громкости, тем более – регулятора тембра. Его голос обладал своими индивидуальными (хотя и стандартными) параметрами и не подлежал воздействию извне. Его громкость была соразмерна громкости голоса человека, и озвучивал он соответствующий объем пространства. С этим просто надо было считаться. Еще одна особенность – сравнительно неширокий диапазон жанров, исполнителей, то есть репертуара «патефонного музицирования». Этот объективный недостаток, сейчас, с большой временной дистанции видится, чуть ли не как своеобразная «верность» патефона любимым исполнителям и мелодиям. Если с современной техникой ассоциируется вообще любая музыка, то музыкальный спектр, сопоставимый с патефоном, неизмеримо уже. Эта избирательность, опять таки служит усилению культурной знаковости патефона, а его «избирательность» сообщает ему подобие характера. Узкий тембровый спектр, узкий динамический диапазон, узкий круг воспроизводимой музыки, узкий горизонт времени звучания (примерно 5 минут без перерыва), ограниченное пространство озвучивания. Прибавим к этому тесный контакт с человеком, обслуживающим аппарат. Получается что близость, камерность становится как бы «признаком жанра». Патефонная музыка очерчивала и обустраивала малый круг человеческого общения. Быть может, именно в этом была тогда особая потребность. Когда становится темно и холодно, когда нависает угроза люди (да и животные тоже) стремятся держаться кучно. Костер или печка обогревают небольшое пространства, но если сесть поближе, то можно согреться. Одинокая лампочка на столбе – еще одна примета того времени – выхватывает из темноты совсем небольшой кружок освещенного пространства, но в этом пространстве не так темно и не так страшно. Патефон в этом смысле соответствовал идее печки, костра или тусклого уличного фонаря: помогал собираться вместе, согреваться и рассеивать темноту. И потому он был счастьем своего времени.
Наступала «оттепель». Из-за «железного занавеса» стали просачиваться новые мелодии и ритмы. Патефон стал своего рода музыкальной «замочной скважиной» или стаканом, с помощью которого, приложив его к стене, можно было услышать, что делается по ту сторону. Первые самодельные гибкие пластинки (знаменитый «рок на костях») прослушивали тогда именно с помощью этого нехитрого устройства.
Шестидесятые годы – время расширяющихся горизонтов – мысли, речи, действия. Эта особенность по странному совпадению получила свое акустическое подтверждение в сфере бытовой аудиотехники. На смену патефону пришли электропроигрыватель и радиола. «Долгоиграющие» пластинки быстро вытесняли привычные на 78 оборотов. Железная игла уступила место благородной – корундовой. Электропривод сделал ненужной стальную пружину. Время металлического звучания закончилось: бумажный диффузор электродинамика на долгие годы прочно утвердил свои позиции, и о железной мембране можно было с облегчением забыть. Звук начинал расправлять крылья. Расширялись горизонты тембра, динамических оттенков, индивидуальный характер каждого инструмента, каждого исполнительского состава, каждого голоса, каждого отдельного музыканта стал отчетливо различимым. Если раньше патефонное звучание нивелировало разнообразие отдельных инструментов, как бы «прессуя» их, то теперь музыкальное пространство стало расширяться, появился воздух.
Каждое новое усовершенствование, улучшавшее качество звучания, было новым шагом в раскрепощении звука. Стереофония позволила развести голоса в физическом пространстве помещения. Звуки утверждали свою индивидуальность и обретали жизненное пространство. Не это ли происходило и с людьми? Жизнь все более уходила от принципов «все как один» и «в тесноте, да не в обиде» к разнообразию, независимости людей, к большей их дистанцированности друг от друга. Из коммуналок люди перебирались в отдельные квартиры. Увлечение униформой уходило в прошлое, так же как и аскетическое единообразие в одежде. У человека тоже появлялось свое жизненное пространство и некий объем культурных средств утверждения собственной индивидуальности. К ним относилась и музыка. Эволюция звукозаписи шла навстречу новым потребностям. Достаточно просто взглянуть на проигрыватели и радиолы того времени, чтобы заметить, насколько большим стало разнообразие форм и цветовых решений. Разным стало и качество, то есть появилась иерархия, неравенство.
Увеличилась дистанция между проигрывателем и человеком, и тот и другой теперь могли заниматься каждый своим делом. Электромотор освободил от необходимости постоянно подкручивать пружину, а долгоиграющая пластинка – от обязанности непрерывно менять диски. Более «продвинутые» (как правило, импортные) могли автоматически менять пластинки, и этим «отпускали от себя» пользователи на еще большую дистанцию. Некоторые «старые обязанности», вроде вытирания пластинок, сохранялись, но приобретали новое стилистическое оформление. Теперь можно было сделать это, цивилизованно, – с помощью специальной бархотки с пластмассовой ручкой. Саму бархотку, правда, тоже нужно было как-то освободить от накопившейся пыли, например, вытереть об штаны.
Процесс освобождения содержал в себе один особо важный аспект – освобождение от материально-вещественной основы. Происходило это постепенно. Старая патефонная пластинка была сравнительно тяжелой и содержала примерно 10 минут музыки. Большая долгоиграющая была полегче, и несла в себе гораздо больше звуковой информации, отличаясь большей прочностью и долговечностью. Магнитофон совершил качественный скачек в указанном направлении. Он разорвал жесткую связь между носителем и информацией. Пленка могла быть освобождена от одной записи и заполнена новой, а музыка могла теперь путешествовать с пленки на пленку, что создало совершенно новую ситуацию в культуре. Кассетный магнитофон просто усилил эти моменты. Горизонты свободы расширялись. Появилась небывалая свобода выбора музыки для слушания и новая свобода самостоятельной записи. Физическим пространством этой свободы была уже не коммунальная квартира и не двор, а отдельная квартира (с особой ролью кухни, как культурного центра) и привал турпохода.
Новая свобода, как правило, открывает путь для новых зависимостей. Они не заставили себя ждать. Так, возникла погоня за технической новизной, превращавшейся в самоценность. Ценность хорошего звука приобретала самодовлеющее значение и для многих оказывалась важнее эстетического качества собственно музыки. Новая техника становилась предметом моды, а марка фирмы-производителя уже выступала в качестве фетиша. Но в целом было ощущение того, что «истинная» концепция звуковой техники найдена, и форма взаимодействия человека с этой техникой изменится еще не скоро. Ожидалось лишь постепенное совершенствование техники, расширение ее возможностей и развитие форм ее использования.
Кто знал, что до новой революции оставалось не так уж много времени?
Ведь «новый порядок» общения с музыкой, казалось, обещал одни лишь улучшения. Он был пропитан ожиданием новых возможностей. Он казался дорогой, по которой можно двигаться долго и плавно, в бесконечность. Да и явился он не как «новый порядок» (=новый регламент), а как освобождение от старых ограничений. Тем не менее, этот новый, если не порядок, то стиль, заключал в самом себе момент неустойчивости, и висящий над ним дамоклов меч, сначала маленький и легкий, с каждой новой победой прогресса делался все больше и тяжелей. Непрерывное ожидание новых улучшений и усовершенствований имеет обратной стороной ощущение несовершенства всего того, что уже достигнуто. Подобное отношение обретает характер презумпции и уже не нуждается в эмпирическом подтверждении. Все сегодняшнее сравнивается с неким неведомым еще завтрашним, которое по определению лучше и совершеннее. Стабильное и абсолютное испаряется, уступая место текучему и относительному. В этой новой мифологии прогресса время обретало ценностную окраску: с чувством облегчения мы расставались с прошлым, к настоящему относились со скептицизмом и иронией, в будущее глядели с надеждой.
«Эпоха патефона» была в этом отношении иной. В ней тоже присутствовала ценность прогресса и движения в светлое завтра. Но настоящее не казалось текучим, а будущее туманным. Будущее было ясным, научно предсказанным и «просчитанным». За него, правда, нужно было бороться, к нему надо было идти, преодолевая трудности. И, во всяком случае, оно не выглядело неким Санта Клаусом, приносящим приятные гарантированные сюрпризы. Что касается настоящего, то оно, хотя и являлось «всего лишь» ступенью в будущее, но ступенью имевшей абсолютную историческую ценность и потому сделанную на века, из гранита и мрамора. Воодушевляемая идеей движения в предначертанное завтра, эпоха фактически ваяла памятники самой себе. Высотные здания, плотины… суть монументальные автопортреты эпохи. Но были и иные. Одним из таких стал патефон. Портативный, простой, с огромным запасом прочности. Он кажется совершенным выражением заложенной в нем технической идеи. Материальное ее воплощение полностью свободно от каких-либо излишеств. Каждый элемент красив своей безусловной функциональностью. Стальной никелированный изгиб звукоснимателя выразителен и недвусмысленно напоминает шею лебедя, что-то пьющего (наверно, музыку) из круглого черного блюда, с видимым намерением делать это вечно.
Это сейчас многие предметы от рождения несут на себе печать обреченности на скорую гибель (моральное устаревание и пр.). С конвейера – на свалку с краткой промежуточной остановкой в гостях у пользователя – типичная судьба современной вещи. Не успев поселиться в доме, она уже выносится вон, освобождая место для новой, более модной и усовершенствованной. Все бы ничего, да только дом при этом превращается в проходной двор для новых мгновенно устаревающих вещей; в нем как бы непрерывно дует сквозняк времени. Сам же стиль взаимодействия с вещью «в одно касание» неизбежно распространяется на многое другое, становясь стилем жизни. Предмет одноразового пользования – вот высший образец этого стиля.
В этом смысле, герой нашего повествования – патефон – воспринимается едва ли не как «последний из могикан» эпохи вещей, сработанных на века, вещей, не отравленных от рождения мыслью о моральном устаревании. Эпоха вещей-долгожителей отошла в прошлое, уступив место эпохе вещей-однодневок. Надтреснутым голосом патефона она пропела свою лебединую песню и ее «утомленное солнце» зашло, оставив человека в окружении однодневок, где «нет любви» по определению.
Зато есть свобода. Именно это и ощутили мы тогда, именно этому радовались. С чувством облегчения и в ожидании счастливых перемен несли на помойку прочную как танк керосинку, стальную сковородку, чугунный утюг, кованый сундук и новенький еще патефон. Казалось, чем прочнее и добротнее старая (устаревшая) вещь, тем откровеннее ее претензия незаконно пробраться в наше будущее, где ей нет места. В это же самое время в массовом порядке шла на выброс мебель, которая теперь считается антиквариатом. Все по той же причине. Сегодняшнее лучше вчерашнего, а завтрашнее лучше сегодняшнего – эта нехитрая система уравнений приобрела характер аксиомы, которая подтверждалась и продолжает подтверждаться ежедневной практикой. Примеры тому многочисленны и очевидны. Приобретения на пути прогресса не просто очевидны, еще и преподнесены общественности на золотом блюде рекламы. А потери…. Они не столь очевидны. Точнее, совсем не очевидны. Да и что это за потери! Так, «смыслы» какие-то….
Выбрасывание старых вещей тоже несло свои смыслы: освобождение от прошлого, обретение независимости от вещей и даже господства над материей. Царапина на старой пластинке или отбитый краешек не вызывали особого сожаления. А для детей и вовсе радость: можно было, закрутив ее в обратном направлении, бросить вперед по асфальтовой дорожке и ждать, когда она сама вернется к тебе в руки. Или запустить в полет и любоваться как черный блестящий диск, бешено вращаясь, описывает широкий полукруг на уровне третьего этажа. Что это, детский вандализм? Не думаю. Скорее, чутко пойманное и по-детски выраженное общее настроение. Подобное обращение со старой пластинкой было не только освобождением от старой вещи и обязанности обращаться с ней «должным образом», но и своеобразным актом освобождения самой этой вещи из плена регламентированной функциональности. Ее выпустили на улицу, ей разрешили плясать на асфальте, ее запустили в небеса: «пусть летят они, летят, и нигде не встречают преград…». Хотя, конечно, символическое «раскрепощение вещи», служило лишь зеркалом самораскрепощения человека. «Новый друг лучше старых двух» – это отношение к вещам было тогда доминирующим.
Время скоро внесло свои коррективы: к формуле «новое лучше старого» прибавилась новая – «импортное лучше отечественного», относившаяся не только к вещам, и, в частности, не только к бытовой аудиотехнике, но и к музыке. Это сопровождалось причудливым смешением ценностей: было уже не совсем понятно, что к чему является приложением – техника к музыке, или музыка к технике. В начале семидесятых годов пиетет по отношению к «качественной» аппаратуре вырос непомерно. Фирменный магнитофон обозначил собой одну их самых жизненно важных точек пространства квартиры, что не освобождало от постоянной угрозы быть, если не выброшенным на помойку (чай, не в Америке!), то проданным и за хорошие деньги, чтобы уступить место для нового, более «престижного аппарата». Моральному весу аппарата соответствовал вес вполне физический и нередко весьма внушительные габариты. Точкой пересечения, местом встречи материального и духовного, достоинств технических эстетических стало высокое качество воспроизведения звука, «HI-FI». Эта точка пересечения была, одновременно, высшей точкой пирамиды ценностей. Для ее достижения производились все новые технические усовершенствования. Демонстрации ее прелестей служила сама музыка. Тот счастливчик, которому удавалось приобрести такую аппаратуру и соответствующие записи, мог уже наслаждаться жизнью. И трудно сказать, что именно служило более мощным источником наслаждения – качество музыки, качество звуковоспроизведения, или престижная «фирменность» аппарата. Такой была новая точка ценностного равновесия. Однако равновесие редко бывает долгим. И пирамида скоро начала странным образом таять.
Не сразу, конечно. Какое-то время развитие техники и развитие музыки происходило в гармоническом симбиозе, работая друг на друга, они выступали в качестве самостоятельных ценностей. В шестидесятые-семидесятые появилось много действительно красивой музыки. И это тогда ценилось. А таяние пирамиды началось так, что этого, как всегда, никто не заметил.
Люди устают долго ценить одно и тоже. И чем больше возможностей для потребления, тем быстрее устают. Культ качества звука и аппаратуры был порожден техническим прогрессом. Он же и лишил их сверх-ценного ореола. Высокое качество переставало быть редкостью, переходя в разряд само собой разумеющихся вещей. Все это оказалось, в конце концов, доступней, привычней, дешевле. Это когда-то люди привозили дорогую аппаратуру из загранкомандировок и сдавали ее в комиссионку, чтобы немного улучшить свое материальное положение – характерная черта эпохи застоя. А теперь многие просто не понимают, как это магнитофон, музыкальный центр, хорошие колонки или наушники могли быть редкостью, составлять какую бы то ни было проблему.
Любопытная параллель: проблема аппаратуры теряла вес, одновременно теряла вес и сама аппаратура. Она становилась легче и меньше в размерах. Это стало новым направлением эволюции. Многие перемены, происходившие в этой области, укладывались в эту схему. Ламповые схемы под натиском транзисторов незаметно отошли в тень, катушечные магнитофоны уступили место кассетным, массивные колонки, совершенствуясь, сбрасывали вес, становились все легче и миниатюрнее, появились карманные диктофоны и плееры, сначала кассетные, потом CD-плееры, затем mp-3, потом «флешка». К этой гонке подключились сотовые телефоны, постоянно умножавшие список своих функций, среди которых немалое место занимают «примочки», как-то связанные с музыкой. Общее направление этого движения – максимально совершенное осуществление максимального числа функций при минимальном весе, минимальных пространственных габаритах и минимальных усилиях со стороны человека.
Как это все отражается на нас самих, на нашем способе взаимодействия с музыкой и друг с другом, на нашем отношении к музыке и к самим себе? Коль скоро, мы вспомнили о сотовом телефоне… Попытайтесь уговорить тринадцатилетнего подростка, фаната свой «тинэйджерской» музыки проявить чуть большую терпимость и хотя бы только послушать что-либо выходящее за рамки его весьма жестких вкусовых предпочтений. Уверяю, задача не из легких. Но, то, чего не могут сделать взрослые дяди и тети со специальным музыкальным или педагогическим образованием, не могут сделать школы, методкабинеты, филармонии, оказалось под силу маленькому прибору, помещающемуся в кармане. Сегодня «мобильник» стал тем, кого любят, кому доверяют, кто обладает авторитетом. А он, заметьте, не чурается классики и использует соответствующие отрывки в качестве звуковых сигналов. Результат просто поразительный! Самые отъявленные ненавистники и гонители классики среди тинэйджеров охотно соглашаются послушать и даже поиграть ту (но только ту!) музыку, которая «удостоилась» быть использованной в таком вот качестве. Это ее «типа» реабилитирует в их глазах.
Этим, однако, вклад сотового телефона в музыкальную (и не только музыкальную) культуру не ограничивается. Мобильник может быть по праву назван не только великим «реабилитатором» музыки, но и великим ее «потрошителем». Подобно ребенку, выковыривающего из булки изюм, он выковыривает из симфоний и опер лишь те «изюминки», которые кажутся ему самыми вкусными. И он (конечно же, не только он) работает на то, что доминирующей нормой оказывается такой «сэмплирующий» подход к произведениям искусства. Так в культуре появляется новый фильтр, любому верблюду предлагающий пройти сквозь игольное ушко, предварительно отрезав от себя «все лишнее». Это вам не прокрустово ложе, а нечто более радикальное!
Телефон не просто активно умножает общую массу «музыкальной нарезки», но и включает пользователей в активную игру с этим материалом: его можно скачивать из Интернета, им можно обмениваться с друзьями, им можно манипулировать, назначая те или иные музыкальные отрывки на те или иные роли и т. п. В предельно упрощенном виде, зато в массовом порядке сотовый телефон предлагает публике тот способ «игры в музыку», который лежит в основе множества компьютерных программ (музыкальных редакторов). С помощью этих программ можно, даже не имея музыкального образования, создавать собственные музыкальные композиции из предлагаемого пользователю «строительного материала». Так в музыкальной культуре формируется новый пласт, новый контекст. Его строительный элемент, его кирпичик – цитата. Что это – влияние постмодернизма? Может быть, и нет, но некий резонанс все же налицо. Как бы ко всему этому ни относиться, но признаем, что хотя бы в таком препарированном виде, музыкальная культура впитывается массовым сознанием. И, возможно, то, что воспринимается в качестве кусочков, осколков, проложит путь целому.
Любой способ взаимодействие людей с музыкой это, как правило, еще и особая форма взаимодействия людей друг с другом. Если с этой точки зрения оценить культурную роль сотового телефона, то мы столкнемся с неким парадоксом. С одной стороны, телефон – исключительно мощный, гибкий инструмент связи между людьми, дающий, потенциально, безграничные возможности. Социальное пространство, очерчиваемое патефоном, мы сравнили с узким кругом света уличного фонаря, или пространством тепла вокруг костра. Здесь этот круг выходит за границы государств и даже континентов. Но с другой стороны, телефон – вещь сугубо персональная. Он помещается в кармане, в руке, он прижимается к уху, и то, что говорит мой собеседник, предназначается мне лично и никому больше. Социальное пространство, таким образом, сжимается до границ моего тела. Впрочем, эти «странности» связаны не только с сотовым телефоном, и касаются они не только социального пространства.
Много ли места занимает «флешка» в комплекте с наушниками – «вкладышами»? Зато действие производит весьма серьезное. В нем «эффект наушников» сочетается с «эффектом стереофонии». Эффект наушников, если коротко, заключается в том, надевая их, я как бы отделяю себя от внешнего пространства и начинаю озвучивать внутреннее. Я ухожу в себя, в свою глубину и открываю мир, в котором хорошо. Это техническое устройство плюс жевательная резинка позволяют человеку с комфортом обустроить свое (спрятанное внутрь собственного тела) жизненное пространство даже в тесноте общественного транспорта. Пусть мне тесно снаружи, зато просторно внутри.
Эффект стереофонии в каком-то смысле является противоположным. Он вновь выносит звуковую реальность вовне и размещает ее как бы во внешнем пространстве, никак не считаясь с существующими в нем предметами. По сути же, происходит нечто иное, а именно порождение музыкальных призраков – «аудио-фантомов» и размещение их в призрачном же пространстве («аудио-пространстве»). Когда с помощью стереоэффекта озвучивают фильм, иллюзия видимая совпадает с иллюзией слышимой и конфликта между зрением и слухом не возникает. В остальных случаях мы оказываемся в ситуации странного сосуществования двух совершенно независимых взаимопроницаемых миров, являющихся друг для друга в одинаковой мере призрачными. Современное кино изобилует кадрами, где некие тонкоматериальные сущности свободно проходят сквозь стены, предметы обстановки, людей и т. п. Когда я сижу в стереонаушниках в вагоне метро, я вижу сидящих напротив меня людей. Но слышу я нечто иное. Глаза говорят мне, что в двух метрах от меня сидит солидный мужчина и читает газету, а уши «видят» на том же самом месте солирующего трубача. Вот он энергично свингует, слегка притоптывая в такт, затем идет вправо сквозь не подозревающую ни о чем бабушку, и оказывается в центре группы оживленно беседующих парней…. Но, что это? Напротив меня сидит барышня в таких же наушниках! Значит, не исключено, что кто-то удобно расположился у меня на коленях и лихо лупит по барабанам. Однако ее виртуальный мир не должен касаться меня, а мой – ее. Каждый из нас занимает (заполняет своими призраками) чуть ли не весь вагон, но никому от этого не тесно. Это ли не толерантность!
Надевая стереонаушники, я принципиально меняю схему своего бытия в мире. «Другая реальность» оказывается достижимой одним нажатием кнопки. Чтобы заметить ее «чудеса» нужен лишь минимум наблюдательности. Тонкие, но глубокие преобразования, затрагивающие основы самосознания человека происходят при этом. Физическое и виртуальное пространства пронизывают друг друга и этим путают все карты. Внутреннее проецируется вовне, внешнее просачивается внутрь, границы личного и социального становятся зыбкими, неясными и, в конце концов, просто взрываются. «Я» сжимается до точки и одновременно устремляется в бесконечность. Компьютер и Интернет лишь доводят этот процесс до логического конца. Мы оказались в мире, где вопрос «куда мы попали?» и вопрос «куда мы пропали?» имеют почти одинаковое значение. Здесь понятия «этот» и «тот же самый» лишаются привычного смысла. Самозамкнутость и самотождественность вещей становится эфемерной. Тексты «вспарываются», расчленяются и поглощаются хищными гипертекстами. Победа «цифры» стала победой формы над материей. Клеточка материального мира по имени «вещь» распалась, форма вылетела на волю. Нечто подобное происходит и с человеком. «Я» развоплощается и деиндивидуализируется. Имена заменяются «никами». Войдя в пространство «цифры», в виртуальную реальность компьютера и компьютерных сетей, человек как бы попадает в зеркальный лабиринт, где ему уже трудно отличить себя самого от множества своих отражений. Чем он рискует? Потерять себя? Всего-то? Зато сколько новых приобретений! Преодолеть «я» – последнее препятствие на пути свободы – и ее горизонты устремятся в бесконечность….
Ну а на самом деле, что делает человек, оказавшись в «другом мире», как использует он новые горизонты свободы?
Он делает то, что человеку и свойственно делать, когда основы его мира начинают расшатываться под действием каких-то внешних причин. Он восстанавливает привычные опоры. В новых условиях он строит свой человеческий мир и делает это по возможности, в привычных человеческих формах. Так мореплаватель, полярник, космонавт стараются взять с собой «кусочек дома» и сколь возможно по-домашнему обустроить свое существование. Прежде всего, он строит дом, роль которого теперь выполняет «домашняя страничка», его персональный сайт. Он украшает и обустраивает его, делает удобным для жизни и приема гостей. Он заботится о его чистоте (защита от спама) и безопасности (защита от хакеров). Он устанавливает «добрососедские отношения» с другими домами, жителей которых он считает людьми своего круга. Он заводит почту и устанавливает переписку. Затем он находит подходящее для себя «клубное пространство», становится постоянным посетителем различных виртуальных «тусовок» (чаты, форумы, «Живой журнал» и пр.). Потом появляются «виртуальные деньги», обладающие, между прочим, способностью превращаться (конвертироваться) в наличность и обратно. Этот мост между реальным и виртуальным миром ставит под вопрос существование границ и существенной разницы между ними. И вот, я уже могу там жить и работать, делать бизнес и отдыхать. Могу проводить в этом царстве грез все время бодрствования. Могу ли я там спать? Да, интересно, где я нахожусь, когда сплю? Все, наверно, зависит от того, что мне снится…
В этом мире есть, практически все, что есть в мире обычном. Есть клубы, библиотеки, фонотеки, концертные залы, игровые автоматы, есть места для научных дискуссий, есть возможность ходить в гости и общаться реальном времени… Но что-то странное происходит с пространством и временем в этом мире, не отягощенном материей. Расстояния преодолеваются мгновенно. Различие близкого и далекого теряет смысл. Я могу быть везде. Но, будучи где угодно, я остаюсь на одном и том же месте, один ни один со своим монитором, звуковыми колонками, или наушниками. Я вместе со всеми, но я при этом совершенно один. Я – всего лишь ячейка глобальной сети. А сеть – продолжение меня самого. Гипертекст – основной закон построения этого мира, странным образом напоминает мне мое собственное устройство. Кажется, я смотрюсь в волшебное зеркало и вижу отражение своего внутреннего мира. Не так ли работает и мое сознание, где все связано со всем тонкими нитями ассоциаций?
Так, куда я попал и где строю свой дом? И вспоминаются последние кадры «Соляриса», где герой возвращается домой, обнимает отца,… а затем камера поднимается все выше, и мы вдруг понимаем, что не Земля это: мы видим малюсенький островок, на который со всех сторон катятся волны мыслящего, дышащего, живого, но такого непонятного и чужого Океана.
Аналогичное мнимое возвращение происходит в разных сферах жизни, например, в мире звука, о котором наша речь. Совершенствование техники позволило сначала максимально приблизиться к реальному звучанию инструментов, избавиться от шумов, воспроизвести акустические характеристики озвучиваемых помещений и открытых ландшафтов. Соответствующие режимы звуковоспроизведения сейчас есть в большинстве компьютеров. Но затем почему-то возникла потребность «вспомнить о былом» и появились технические возможности, позволяющие имитировать старый патефон, со всеми шумами, шуршанием, потрескиванием, пощелкиванием, его спрессованный с металлическим привкусом звук. Закрой глаза – и покажется, что вернулся в то время. Открой глаза – и увидишь компьютер, колонки, провода и поймешь, что все это сэмплировано и смоделировано – и звук, и атмосфера безвозвратно ушедшего прошлого. Все это – малюсенький островок в океане мультигигабайтной памяти компьютера.
Так что же, возвращается все на круги своя, или нет? Соблазнительно, конечно, ответить «да» и ощутить тепло и уют. Можно даже припомнить к случаю знаменитые окуджавские слова: «Мы начали прогулку с арбатского двора – к нему-то все, как видно, и вернется». К нему-то может быть и вернется, да вернется ли он, тот старый арбатский двор? Пройдемся по Арбату сегодняшнему, буквально напичканному ностальгией по вчерашнему. Вспомним об Арбате вчерашнем, дышавшим ожиданием дня завтрашнего. И воздержимся от категорического ответа.
Песни Зазеркалья
«Так что же, возвращается все на круги своя, или нет?», – задали мы сами себе вопрос только что, и решили пока воздержаться от ответа. Вопрос, тем не менее, интересный и важный, и мы к нему в свое время еще вернемся. А пока более плотно займемся другим вопросом, который также был сформулирован выше – «куда мы попали?». И здесь нам придется вновь говорить о клипах, телевидении, интернете и тех воздействиях, которые они оказывают на песню.
Сегодня на песенном рынке есть все. Песенные потоки обильны. Но спросите, каково их направление, куда они текут, и я приду в некоторое замешательство. Не знаю, как вы, а я не вижу каких-либо ясных подсказок. Во всяком случае, они не очевидны, не лежат на поверхности. Поэтому вопрос о направлениях мы на некоторое время отложим в сторону. Что же касается самих потоков, здесь можно констатировать один, достаточно очевидный, факт, заключающийся в том, что едва ли не самым мощным и влиятельным песенным потоком является в последние годы клиповый поток.
Клип стал доминирующей формой существования песни. Это выражается, в том, что действительно состоявшейся (реализовавшейся) в наши дни может считаться лишь та песня, которая сумела предстать перед публикой в форме клипа. Кроме того, формат клипа, его эстетика накладывает достаточно глубокий, отпечаток на характер сочиняемых песен, а также на форму их презентации, в частности, на сценическую, концертную форму.
Сам по себе, клип – малая форма, он весьма компактен, но отличается, при этом, огромной информационной емкостью. Ему, таким образом, органически присуще противоречие между малой формой и чрезвычайно большой информационной, эмоциональной, энергетической насыщенностью (сверх-насыщенностью). Данное противоречие, отчасти, разрешается в образовании своеобразных клиповых потоков – последовательностей клипов, непрерывно следующих друг за другом. С одной стороны, процесс «накачки», начатый в одном клипе, продолжается в следующем. С другой стороны, расширяется, так сказать, сам накачиваемый объем (внутренние пространства клипов суммируются). Поэтому, накапливаемое напряжение распределяется на больший формат. При этом многие мотивы, образы, эмоционально-экспрессивные элементы имеют тенденцию повторяться в разных клипах, что приводит к некоторому перераспределению, перекомпоновке содержания и в какой-то мере также ослабляет внутреннее напряжение.
Есть и еще один немаловажный момент: картина реальности, выстраиваемая в клипе, отличается своими специфическими особенностями. Можно сказать, что существует своя особая «клиповая реальность», свой мир, живущим по иным законам. Организация клипов в потоки избавляет от необходимости совершать переход в иную реальность и обратно ради каждого отдельного клипа. Можно войти в эту реальность и пребывать в ней достаточно долгое время. Вопрос о психологических последствиях такого пребывания оставим пока в стороне.
В результате объединения множества клипов в единый поток, возникает нечто, напоминающее циклическую форму. Но с определенными особенностями. Во-первых, у этой формы нет внутренней завершенности. Процесс не заканчивается, а просто прекращается. Последовательность может быть оборвана по каким-либо внешним причинам: исчерпание объема памяти носителя (DVD диска), завершение телепрограммы и т. п. Такая потенциальная бесконечность клиповых потоков делает их в чем-то похожими на телесериалы (также ставшие доминирующей формой телепродукции).
Во-вторых, этот поток не является произведением, созданием одного автора или творческого коллектива. Он изначально существует как образование, состоящее из множества самостоятельных, но существенно сходных элементов. Таким образом, у него, в частности, нет единого («сквозного») замысла. Его можно было бы сравнить с блогом, если бы не отсутствие диалога. Это просто организованная последовательность эмоционально насыщенных смысловых импульсов примерно одинаковой длительности. Это просто один из потоков нашей поточно-организованной жизни, вроде потока автомобилей на дороге или потока моделей модной одежды на дефиле.
В-третьих, едва ли не главным принципом подбора материала (клипов) для выстраивания клипового потока является рейтинг. Так вносится некая внешняя интрига, некий соревновательный сюжет. К формированию интриги оказываются причастными и сами зрители. Во всяком случае, потенциально: ведь каждый может присоединиться к голосованию. Это и есть главная компенсация отсутствия единого внутреннего замысла. Вместо придуманного кем-то сюжета, развивается «реальная» борьба, происходит «реальное» состязание, повлиять на исход которого может и мой звонок или отправленное мной SMS-сообщение.
В-четвертых. Формально клиповый поток является открытой системой. Но лишь формально. Но по сути своей он является миром, замкнутым на себя. Это делает его весьма консервативной формой, наподобие ритуально организованных культурных форм, где доминирует не линейное, а круговое время. В этом сравнительно недавно возникшем замкнутом мире действует замкнутая система правил (норм) и столь же замкнутая система смыслов. Остается лишь поражаться тому, как быстро она сложилась. А может быть, она и не складывалась здесь и сейчас, а лишь проявилась в данное время и в данной форме? Сколько на самом деле лет этому самозамкнутому, вращающемуся в себе самом миру? Десять? А может быть, десять тысяч?
Самозамкнутость, движение по кругу – черта, относящаяся не только к внутренним нормам формальной и смысловой организации. Она нередко проявляется во внешней, наглядной, образной форме. Во многих клипах движение сюжетной линии также движется по кругу, наперекор физическому времени и логике привычных причинно-следственных связей (БИ-2 «Держаться за воздух»). Круговое время и круговое движение в этом мире господствуют на всех уровнях. Спрашивается, какой смысл мы должны вкладывать в вопрос, «куда текут эти потоки?», если речь идет о клиповых потоках. Куда стремиться поток, текущий по кругу? Это уже не поток, в обычном смысле, а водоворот. И какой смысл приобретает здесь вопрос «что дальше?». Нет уже привычного «дальше». Любое «дальше» – всего лишь очередной ход в какой-то бесконечной игре, и движение вперед есть лишь хождение по лабиринту.
Мы попали в мир, где нет идеи будущего и культурно-исторического завтра, нет развития в привычном (а может быть, кому-то надоевшем) смысле слова. Что ж, мы долгое время жили в другом мире, где «общественное развитие», «светлое будущее», «счастливое завтра», «идти вперед» выступали в качестве доминирующих смыслов и ведущих ценностей. От них устали, хотелось отдохнуть. Так вот, оказались мы в другом мире (или сами его построили?), организованном на иных основаниях. И теперь, ставя вопрос «что дальше?», нам придется иметь это в виду.
Все, что втягивает клип в свою орбиту (в свой круговорот), теряет целостность, расщепляется на отдельные мелкие кусочки, распадается на отдельные элементы, из которых затем выстаивается новый хоровод. Даже образ исполнителя подвергается той же процедуре. В определенном смысле, роль исполнителя становится здесь более разноплановой, многогранной, синтетичной. Он и поет, и танцует, и действует как актер. Но, при этом, даже лицо его редко показывается целиком. В основном мы видим на экране вереницу фрагментов, столкновение различных планов и ракурсов, выхватывающих самые разные кусочки его тела. Целое оказывается разбитым на множество маленьких осколков. И эти осколки кружатся и кружатся в общем водовороте.
Как ведет себя водоворот по отношению ко всему, что входит с ним в соприкосновение? Он втягивает это в свою орбиту, разбивает на куски и несет в себе, кружа. (Впрочем, это зависит от силы вихря, прочности и тяжести предметов.) Если мы приглядимся к клиповым потокам, то увидим в них осколки самых разных стилей. Относится это не только к песне. Клип всеяден. Он питается музыкой, танцем, кинематографом, рекламой, дизайном, архитектурой… Питается он и образами (стилями) вчерашнего дня и дня позавчерашнего. Черпает из старого, препарируя его в свойственной ему новой манере. Откусывает кусочки прошлого, пережевывает и выплевывает в настоящее.
Картинка получается устрашающая, если не сказать апокалипсическая. Начинает казаться, что клиповая реальность (клиповое сознание), становясь доминирующей силой, начинает пожирать остальную культуру, все препарируя и перекраивая на свой лад. Эдакий гигантский пылесос, соединенный с гигантской мясорубкой, перерабатывающий все и вся в некие «стандартные котлетки».
А где она находится, клиповая реальность, где ее собственное жизненное пространство? Если мы впрямую поставим этот вопрос, то и ответ не заставит себя ждать. В современном «Зазеркалье», в мире, который мы можем увидеть сквозь монитор компьютера, или экран телевизора. Это заставляет нас вновь вернуться к проблеме пространства песни и песенного действия. Но теперь она наполняется иным содержанием. Нам необходимо взглянуть на телевидение и Интернет как на особые, в чем-то друг от друга отличающиеся, но и в чем-то сходные пространства существования песни. Слово «пространства» следует использовать с серьезной поправкой: ни Телевидение, ни Интернет, и какое-либо иное пространство культуры не являются какими-то пассивными пустыми вместилищами, где песня может жить всецело по своим внутренним законам, а являются активной жизненной средой, диктующей свои законы и правила.
Так вот, сравнивая эти два пространства и связанные с ними формы существования песни («песенной жизни»), невозможно абстрагироваться от того, что формы эти значительно моложе самой песни и есть иные (существовавшие ранее и существующие ныне) формы. Большая их часть развивалась вместе с самой песней; они сами представляют собой органическую часть песни как жанра. Ведь и сама песня – это не только и не столько особое вокальное произведение, но (и в первую очередь) особый способ человеческого взаимодействия. Оторвать песню от этого способа взаимодействия – значит совершить серьезную хирургическую операцию, затрагивающую природу жанра. Этих способов (или форм) много, они разные, но они несут в себе что-то существенно общее, корневое, связанное с природой песни. Вот это и есть то «третье» (а точнее «первое»), без чего трудно анализировать отношение Телевидения и Интернета как двух форм существования песни. Для дальнейших рассуждений договоримся использовать некое собирательное понятие, выражающее собой совокупность вот этих, так сказать, «естественных» форм песенного взаимодействия («песенной жизни»). Мы ведь исходим из того, что у этих форм есть общие существенные признаки, отличающие их и от Телевидения и Интернета. И для Телевидения, и для Интернета это третье является их естественной предпосылкой, которую они, каждый по-своему, воспроизводят и каждый по-своему отрицают. Хватают, но не могут схватить, отталкивают, но не могут оттолкнуть… Такой вот драматический треугольник.
Две вершины этого треугольника – Телевидение (Т) и Интернет (И) (напомним, взятые не сами по себе, а как особые пространства/формы песенной жизни). Третью вершину условно обозначим – Натуральная Форма (НФ). Выбранный нами подход заставляет взглянуть на эту самую НФ также под особым углом зрения, а именно, чтобы попытаться ответить на вопрос, нет ли в ней самой предпосылок к тому, что происходит с песней на телевидении, с одной стороны, и в интернете, с другой.
Теперь попробуем определить, чем НФ отличается как от жизни песни на телевидения, так и от жизни песни в условиях Интернета (или в иных подобных искусственных средах). То есть в нашем контексте это означает определить НФ как таковую.
Сделать это не трудно. При всем многообразии конкретных разновидностей НФ можно сформулировать один позитивный признак: НФ всегда выступает как способ непосредственного (живого) взаимодействия (контакта) людей, как акт непосредственной коммуникации. Этот признак можно переформулировать в негативный: НФ есть такой акт (способ) песенной коммуникации, где нет опосредования техническими средствами (включающими средства накопления и передачи информации), разрывающими прямой контакт участников. Таким образом, под это достаточно широкое определение подпадает и пение колыбельной песни, матерью, держащей своего ребенка на руках, и пение строевой песни ротой марширующих солдат, и пение в хороводе, и пение на посиделках, и выступление рок-группы на большом стадионе. Во всех этих случаях участники песенного действия собраны в одном месте, в одно время и они могут непосредственно коммуницировать друг с другом, видеть и слышать (а иногда и осязать) друг друга. Можно сказать, что здесь существенную роль играет наличие целостного, неразрушенного хронотопа в социально-психологическом смысле этого понятия, то есть как типическая повторяющаяся ситуация, в которой происходит процесс общения.
В силу своего внутреннего многообразия НФ предстает перед нами как целый букет (или кластер) форм песенного взаимодействия. Это, однако, не хаос и в нем есть своя внутренняя логика. В частности, для нас существенно то обстоятельство, что НФ распадаются на два больших типа. Их различие является достаточно очевидным и его нетрудно описать.
Для первого типа (НФ-1) характерно следующее:
– Отсутствие жесткого разделения на роли исполнителей и слушателей. Слушатель в определенный момент может оказаться исполнителем, а исполнитель – слушателем.
– С этим связано и относительное равенство разных ролей участников песенного действия.
– Для данной группы не характерно деление на «профессионалов» и «непрофессионалов». В ряде случаев это может осознаваться в качестве особой ценности соответствующей формы песенного взаимодействия. Так для участников фольклорного движения отсутствие подобного деления не просто представлялось привлекательным, но и несло позитивную «идейную» нагрузку. Нечто подобное можно сказать и о движении самодеятельной гитарной песни, и о движении ВИА, и о любителях джазовой музыки (особенно в ее первичных, близких фольклору формах, например, любителях «настоящего» блюза).
– Все это определяет преимущественно горизонтальную логику организации внутри данного типа песенного взаимодействия и принципиальную возможность (легкость) функционального перемещения участников («сегодня – ты, а завтра – я»). Иерархия не является здесь ни слишком крутой, ни слишком жесткой. Она не имеет сверх-ценного значения и может легко трансформироваться.
– Продолжая «геометрическую» метафору, отметим еще одну ее грань: здесь видна тенденция к, так сказать, круговому способу организации песенного действия. Этот круговой способ организации иногда проявляет себя буквально (пение в хороводе, в кругу, вокруг костра, вокруг стола и т.п.). Иногда же речь должна идти просто о том, что совместное пение служит средством утверждения социального круга или социальной группы, имеющей не иерархическую, не пирамидальную, а круговую структуру. Иными словами, данный способ организации песенного действия служит утверждению определенного типа общностей (первичная группа и т.п).
– Преобладание диалога над монологом. Однонаправленная форма коммуникации для этого типа песенного взаимодействия не типична. Эта закономерность проявляет себя разнообразно. Во-первых, диалогична сама форма песенного действия. Во-вторых, в том случае, если при этом складываются некие устойчивые общности (группы), то они склонны к диалогическому взаимодействию внутри группы, а также и к развитию диалога между группами. Стремление к культурному диалогу для них – норма.
– Спонтанность, импровизационность, естественность, песенное взаимодействие как элемент образа жизни («кусок жизни»).
– Различные формы песенного взаимодействия, относящиеся к рассматриваемому типу, проявляют тенденцию к образованию множественного и разнообразного культурного ландшафта. Образуются различные круги, группы. Развиваются связи между ними. Культурный социум начинает походить на некий гипертекст. Полицентризм и множественная субкультурность — вот постоянные характеристики культурного пространства, где доминирует подобный тип культурного взаимодействия.
Для второго типа (НФ-2) характерно прямо противоположное:
– Разделение на исполнителей и слушателей.
– Принципиальное неравенство участников действия.
– Тенденция к профессионализации и, как следствие, деление на профессионалов и непрофессионалов. Здесь это также имеет ценностную окраску: профессионализм – ценность.
– Явное преобладание вертикального типа организации, ограниченность возможностей перемещения внутри этой структуры.
– Линейная («стреловидная») направленность «от… к…». Например, от исполнителя к слушателю.
– Преобладание монолога над диалогом.
– Отрепетированность, «сделанность», в конечном итоге, искусственность.
– Моноцентризм и укрупнение социокультурного пространства как тенденция. Антитеза субкультурности. Стягивание к единому центру, приведение многообразия к единству (и, как следствие, определенная унификация) – таково действие этого типа по отношению к культурному пространству.
Выделение этих двух типов есть, строго говоря, некоторая идеализация. В химически чистом виде они встречаются также редко, как идеальный газ или абсолютно твердое тело. Кроме того, есть и смешанные формы, где признаки этих двух типов выступают либо в синкретическом, либо синтетическом единстве (колыбельная песня, храмовое действо). Впрочем, это уже выходит за пределы нашей темы. Нам сейчас важнее понять, что внутри НФ уже содержится некая оппозиция, создающая две противоположные тенденции, два разнонаправленных вектора.
После этой констатации мы возвращаемся к нашей главной теме. И здесь нас подстерегает искушение напрямую сопоставить Интернет и телевидение с вышеозначенными типами (тенденциями, векторами). Например, предположить, что телевидение является полем, где в полную силу развертывается вторая (унифицирующая, монологическая) тенденция, а Интернет соответствует первому типу и служит сферой реализации первой тенденции. Все, однако, не так просто.
Попробуем разобраться в этом по-порядку.
Начнем с телевидения. В статье Екатерины Сальниковой «Предыстория визуальности или телевизор как звено культурной эволюции» (Наука телевидения. №5.. с. 61) проведена линию связи между между телевизором и камином (домашним огнем): «Камин – великий предшественник телевизора». Позволю себе по-своему додумать эту весьма интересную мысль, направив ее по несколько иному руслу.
Пусть телевизор – огонь, горящий в вашем доме, далекий потомок костра, очага, камина. Когда-то огонь не только согревал и освещал дом, делал его живым… Он вообще делал дом домом.
Но огонь – не только центр и душа дома, но и своеобразное представительство в доме далекого иного. Задолго до того, как человек научился добывать огонь (трением или ударом камня о камень) он начал получать его как дар свыше. Это и был первичный опыт общения с огнем. Молния, падающая с небес, как светящаяся стрела, зажигает огонь на земле. Так с образом огня изначально оказываются связанными образы вертикали и направленного сверху вниз движения. В очаге поддерживается огонь и таким образом поддерживается память о том, что падает с небе, из Космоса, или из мира иного. Это частичка небесного на земле, в доме, горнего в дольнем. И здесь даже нет нужды как-то подчеркивать, что этот архетипический образ наполнен сакральными смыслами. Сами собой вспоминаются огнепоклонники, для которых священный огонь – образ Бога на земле. Вспоминается и «неопалимая купина», образ говорящего огня, в котором не сгорает куст. Священный огонь – источник Откровения. И если мы всерьез рискнули провести линию от очага (камина) к телевизору (а я готов сделать это), то мы должны иметь в виду и эту вереницу смыслов.
Телевизор – тоже пламя, пламя не сжигающее и не даже обжигающее. Пламя, говорящее, и к тому же – показывающее. То, что оно говорит и показывает, приходит сверху, их столицы («Говорит и показывает Москва»). Эта идея движения сверху вниз реально присутствует в общественном сознании, что хорошо иллюстрируется песенкой времен раннего КВН: «На телебашне облака. Я к вам приду издалека. Как телепат, как телемаг, я проникаю в каждый дом. Пока горит телеэкран, я вас веду, как капитан и управляю всей Землей, как кораблем» (Цитирую по памяти). Если во всем этом что-то есть, то в образ телевизора – живущей в доме частицы упавшего с небес огня «зашита» идея сакральности, а если прибавить к этому образ огня говорящего, то и идея откровения. А если так, то телевизор обладает (на уровне коллективного бессознательного) презумпцией непогрешимости, презумпцией чистоты, истины, добра, красоты. Ему не верить нельзя, даже «если абсурдно».
Холодное пламя телевизора очищает. В его огне сгорают всяческие ереси. Телевизор сам сжигает своих еретиков. Костры инквизиции были бы излишними, если бы в те невеселые времена существовали телевизоры. Это – лучшая в мире панацея от инакомыслия (а возможно, от мышления как такового) … «Очищающий огонь» телевизора отделяет добро от зла, подобно зороастрийскому огню (расплавленному металлу), во время купания в котором праведники чувствуют себя как в парном молоке, а грешники сгорают. Телевидение также явно тяготеет к дуализму добра и зла, плохих и хороших. Причем, касается это не только боевиков и сериалов. Так вообще видится мир в этом телевизионном свете.
Если уж вспоминать про огнепоклонников, то подчеркнем и то, что Зороастризм – религия прозелитическая, то есть такая, для которой свойственно стремление к распространению, к тому, чтобы как можно больше людей обратить в свою веру. Не таково ли «телевизионное огнепоклонничество»? Телевизионный прозелитизм лежит в самой основе телевидения. А теперь этот ревнивый прозелитизм имеет под собой еще и вполне рациональное экономическое обоснование и выражается в борьбе за рейтинги.
«Небесная» природа телевидения как нельзя более подходит для рождения звезд на радость и в утешение всем живущим на грешной земле.
Я конечно же преувеличиваю и намеренно заостряю. Делаю это лишь для того, чтобы подчеркнуть и без того достаточно очевидное сходство с основными характеристиками НФ2. Оппозиция небесного и земного расшифровывается многообразно: и как дуализм центра и периферии, и как оппозиция профессионалов и непрофессионалов, и как иерархия верха и низа. Здесь монолог преобладает на сущностном уровне. Хотя по видимости все сплошь строится на диалогах. Стреловидная структура связи (от… к…) лежит в основе, хотя маскируется хорошо отрежиссированными ситуациями клубного типа. Технология телевидения не знает равенства и строится на сильной иерархии, хотя светящийся экран как бы приглашает вас к себе, в мир счастливого «равенства возможностей».
Думаю можно не продолжать. И так достаточно очевидно, что телевизор – продолжение той линии (того способа культурного взаимодействия), того который мы описали как НФ2. Здесь обязательна существенная оговорка, состоящая в том, что телевизор при этом активно и последовательно симулирует все признаки противоположного типа. Там, где есть Зазеркалье, там должно быть и зеркало. Телевизор не просто показывает свое зазеркалье, но и отражает то, что находится в доме, имитирует домашнее, круговое пространство. И в этом смысле он несет в себе и то и другое.
Если ТВ транслирует небесное на землю, помещает его в доме, то интернет, напротив, – извлекает человека из его земного жилища и перемещает (в виртуальном теле) в иной мир. Это действие хорошо описывается с помощью слова «восхитить» в старинном (религиозном) его значении: похищать, выхватывать, увлекать в высоту. В этом действии также есть свой отчетливо видимый архетипический смысл с явным сакральным оттенком. Он тоже, как правило, не осознается. Но это не означает, что но не работает.
Интернет строит свой мир в своем собственном пространстве. Люди удивительно быстро научились в нем жить и обустраиваться, что, если вдуматься, такое же чудо, как дышать в вакууме. Но если вдуматься еще, то все оказывается вполне логичным. Ведь человек восхищается в этот мир не в физическом теле, а в «тонком», в виртуальном, которому воздух не нужен. Получается что-то вроде популярной в последние десятилетия неродной забавы, под названием «выход в астрал». А в каком-то смысле, это и есть «жизнь после смерти», загробное существование: каждый вечер, придя с работы, мы сбрасываем бренную оболочку и отправляемся «в мир иной». Остается удивляться, как хорошо этот мир был описан задолго до появления первых компьютеров. «Загробный мир» Интернета, так же, как и любой мало-мальски приличный загробный мир имеет сложное строение, он многослоен и многомерен. Здесь каждая душа находит свое место, свое пространство, сообразно своим доблестям и своим грехам. И также, как в загробном мире, с бесами здесь встретиться легче, чем с ангелами.
Случайна ли такая аналогия? Думаю, нет. Причина, возможно, в устройстве человеческой души, человеческого внутреннего мира (а также и мира культуры), что каким-то образом воспроизвелось в строении интернет-пространства.
В интернет-пространстве складываются свои сообщества, возникают свои «города», «села», «деревни», «хутора». Интернет-пространство принципиально множественно. Централизм ему не свойственен. Также как и иерархия «верх – низ». Интернет-культура субкультурна по природе. Она явлена как множество субкультур. Интернет – пространство виртуальных субкультур (или виртуальное пространство субкультур). И даже государственные, официальные, правительственные сайты на этом фоне выглядят субкультурно. Иное здесь просто не дано.
В Интернет-реальности совершенно иначе решается вопрос об идентичности объектов. Что здесь может значить выражение «тот же самый»? Это же относится и к субъектам. Субъект в этом пространстве не тождественен ни с одним из населяющих Землю людей. Личность (персона) превращается в «ник». А это – не то же самое, что живой человек из плоти и крови. Мир «ников», по сути есть мир призраков, царство теней. Кому-то в нем хорошо? Ну и на здоровье!
Нетрудно видеть, что Интернет-реальность сильно напоминает многие характеристики НФ1. Здесь все так неформально, так свободно, здесь все равны, нет унификации, царит многообразие, плюрализм. Здесь горизонталь явно преобладает над вертикалью, круговая организация над стреловидной. Собственно «сетевой принцип» и есть в определенном смысле круг кругов. Но, внутри этого всеобщего диалога есть место для монологов. Правда, в этом диалогическом контексте любой монолог становится частью диалога, да и воспринимается диалогически. В этом горизонтальном мире есть место для вертикалей. Лишь бы они не претендовали на большее, чем быть элементом большой горизонтали. Так что, и в этом мире вроде бы есть все. Но только это все организовано и сориентировано совершено иначе.
Между Телевидением и Интернетом есть отличия достаточно фундаментальные. Стихия ТВ – время, особое телевизионное время, наполненное (структурированное) событиями, особыми телевизионными событиями. Стихия Интернета – пространство, особое виртуальное гиперпространство, наполненное текстами, особыми виртуальными гипертекстами. ТВ превращает текст в событие. Интернет превращает событие в текст. Человек в ТВ сам превращается в событие. И как таковой интересен. Человек в Интернете превращается в текст (в гипертекст, или свертывается до «ника»). Поток времени изначально монологичен. Событийный ряд – слова этого супер-монолога. Но в них – зарождение диалога. Многомерное пространство изначально диалогично. Поток текстов – многоголосица этого диалога. Текст внутренне диалогичен, но в нем есть место монологу, и в нем зарождается монолог. В конце концов, диалог может оказаться комплексом монологов.
В этих двух разных во сути реальностях одна и та же вещь видится и «светится» по-разному. Мы начали с вопроса о клипе: не все ли ему равно? Теперь мы можем сказать, что не все равно. В реальности телевидения клип – событие и процесс, прежде всего. В отечественном музыковедении существует идущая от Б. Асафьева традиция различать два аспекта музыкальной формы: а) форма как процесс и б) форма как кристалл. Телевидение, живет в реальном времени, структурирует реальное время суток, недели, месяца, года. В с вою очередь, телевидение, создает свое внутреннее телевизионное время, которое структурируется как телевизионными событиями, так и и реальными жизненными процессами, к которым телевидение должно приспосабливаться. Ясно, что телевидение – такая стихия, которая предельно четко акцентирует именно процессуальную сторону клипа. В Интернете клип лежит в особом виртуальном пространстве. Его пребывание там, конечно же, имеет начало, а иногда и конец. Однако для его художественного содержания и качества ни то, ни другого не имеет значения. Когда мы все же достаем (загружаем и открываем) клип, он выкладывается на монитор, причем программа-проигрыватель, как правило снабжен специальной «линейкой», отображающий время проигрывания в форме пространственной прямой линии. Можно произвольно, по желанию щелкнуть по любой точке этой линейки, и начать проигрывания из любой временной (=пространственной) точки. Кроме того, время компьютерных сущностей можно разрезать на кусочки, перемещать их, перекомпоновывать, склеивать… Вообще, компьютерная технология не просто превращает временные сущности в квази-пространственные, но и делает их объектом всевозможных манипуляций. Компьютер как бы кладет музыку на рабочий стол и открывает всем желающим широкие возможности для экспериментов и самовыражения.
Может показаться, что Интернет дарит вам свободу, тогда как ТВ порабощает. Но он дарит свободу, предварительно похищая вас, подменяя вас вашей тенью. Телевизор, по крайней мере, не похищает вас из вашего дома. Он прикрепляет вас к вашему дому, к вашему дивану, делает вас «крепким земле», вашей земле. Телевизор входит в ваш дом и наполняет его своими призраками. Интернет забирает вас из вашего дома и самого превращает в бесплотный призрак. Велика ли разница? И стоит ли одно считать освобождением от другого?
Я почему-то не склонен обольщаться на сей счет. Я не верю в то, что какая бы то ни было технология способна вывести из духовного или культурного кризиса. Также, как и то, что она может быть за него ответственной. Мне кажется, что старые, банальные истины сохраняются прежнюю силу и по сей день.
Одна из них говорит о том, что если нам кажется, что с нами происходит нечто нежелательное, стоит представить то, что с нами происходит, как то, что мы делаем. Тогда мы не будем обвинять в своих бедах ни телевизор, ни монитор. И если что-то выводит из духовного кризиса, то лишь обновление самого человека, новый исторический тип личности, наследующий духовные традиции своего общества. Но создается он не в СМИ, а в живом человеческом общении, в живом контакте людей, чаще всего в небольших культуротворческих группах. А это, как вы понимаете, и есть натуральная форма. Остальное же служит вспомогательным средством.
Сегодня эта самая натуральная форма все больше становится придатком телевидения, а затем и Интернета. Это влияние становится все более многоплановым. В этом ли проблема? Лишь отчасти. Главный вопрос состоит в возможности или невозможности вернуть натуральной форме полноту ее социальных и культурных функций. Возможно ли это? Как это сделать?
На эти вопросы у меня ответов нет. Но я понимаю, как много от этого зависит. Натуральная форма обладает ценностью не столько сама по себе, сколько в силу того, что она несет в себе заряд социального, присущий песне как жанру, а главное, обеспечивает саму возможность социализации культурного содержания, его присвоения человеческим сообществом. Телевидение эту естественную социальность всячески симулирует. Интернет – похищает. А нам нужно вернуть ее себе.
Натуральная форма – адекватный канал передачи культурного ценностно-нормативного содержания. Ни телевидение, ни Интернет не могут их заменить в этом отношении. Телевидение имеет тенденцию все «индульгировать» и даже как бы сакрализовать. Все, попадающее на экран, обретает дополнительную ценность (цену), все возносится к небесам (выглядит посланцем небес). Так костер в темноте рождает тысячи звезд-искр, которые потом опадают пеплом на землю. Интернет, напротив, – все «профанирует» и делает предельно доступным. Вертикаль ценностей падает и становится горизонталью. Но это положение для системы ценностей, иерархической по природе, является совершенно неподходящим. «Горизонталь ценностей» – это и звучит как-то дико! Но именно эту конструкцию выстраивает Интернет.
