Воскрешение из мертвых
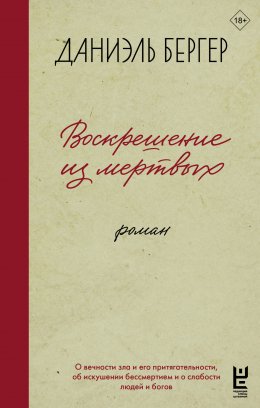
© Бергер Д
© ООО «Издательство АСТ»
Пролог
Всякий, кому хоть раз выпала в жизни удача окунуться в рабочую атмосферу редакции – будь то скромная заводская многотиражка «Генератор», милая сердцу советских женщин «Крестьянка» или солидный, но слегка старомодный «Красный шахтер», – всякий такой счастливчик знает, что стучаться в начальственный кабинет надо ближе к одиннадцати. С утра – летучка, потом редакционное совещание, а потом – главный редактор ведь тоже человек, ему немного отдохнуть надо, а то и принять, смотря по состоянию здоровья, двадцать капель валерьянки или пятьдесят грамм водочки. А уж после этого можно смело заходить и, пока тот тепленький, просить всего, чего только твоя журналистская душа пожелает – гэдээровскую пишущую машинку, путевку в Геленджик или командировку по щедрым совхозам-миллионерам.
Но некоторым ждать одиннадцати утра не обязательно. Время их стоит так дорого, что даже властолюбивая тигрица не смеет задерживать их в приемной перед дверью главного редактора всесоюзной газеты «Известия» и только почтительно встает при их появлении, выпячивая мощную грудь в белой лавсановой блузке под темно-серым в мелкий рубчик жилетом.
– Доброе утро, Ма… – успела выпалить хищница, но гостья уже переступила порог кабинета и закрыла за собой дверь, не услышав приветствия. Она с юности была глуховата.
Главный редактор, читавший в этот момент чрезвычайно важную переводную статью из «Франс-суар», грозно вскинул кустистые брови, но, едва завидев посетительницу, остановил движение и сложил брови совершенно скорбным домиком. Встречаясь с ней на официальных, полуофициальных и вовсе дружеских мероприятиях, Павел Григорьевич с удовольствием брал ее под локоток, почтительно склоняясь к самому уху, и весь вечер водил, как внучок единственную бабушку, по залу, то и дело услужливо предлагая присесть отдохнуть, хоть и знал – она даст фору любой девчонке и может проходить так хоть до утра. По-своему главред любил эту старушку в очках с такими толстыми стеклами, что глаза за ними превращались в точки. Любил за юношеский задор и неиссякаемую энергию, за редкое умение рассказывать и еще более редкое – слушать, несмотря на необходимость общаться с нею посредством слухового рожка, из-за чего содержание любой конфиденциальной беседы сразу становилось достоянием всей Москвы. Но стоило этой милой старушке появиться у него в кабинете, Павел Григорьевич начинал подумывать об убийстве…
Дело в том, что знакомая каждому советскому человеку писательница, журналистка, популяризатор науки и энтузиаст внедрения научного подхода в производство Мариэтта Сергеевна Шаинян, она же «бич божий», как называли ее про себя не сговариваясь и маленькие секретарши и большие начальники, требовала к себе и к своему творчеству особого внимания.
Стоило Мариэтте Сергеевне «заболеть» темой – хоть бы и аграрными экспериментами по созданию морозоустойчивого сорта кабачков, – как приходилось главному редактору резервировать для внештатного автора целый разворот, задвигая по углам и яркие интервью с членами недавней венгерской делегации, и – ужас! – репортажи с чемпионата мира по хоккею. Каких страданий это стоило заядлому болельщику Павлу Григорьевичу, одному богу известно…
Вот поэтому-то при виде Шаинян главный редактор сразу засуетился и запричитал, потрясая гранками:
– Вы слышали?! Слышали, Мариэтта Сергеевна! Компартия Чили выдвинула Пабло Неруду кандидатом на пост президента! Дорогая моя… Это же сенсация! Срочно делаем материал!
– А как отреагировал Монтальва? И что посол США… этот, как его… Корри? – живо поинтересовалась Шаинян, выказывая немалую осведомленность в хитросплетениях южноамериканской политики.
– Пока нет информации. Следим. – Павел Григорьевич нажал кнопку селектора: – Наташа, вызовите ко мне редактора международного отдела к… – Тут он выразительно посмотрел на часы. – К десяти тридцати!
Но Мариэтта Сергеевна, сама будучи человеком прямолинейным, на столь тонкий намек внимания не обратила и основательно уселась напротив Павла Григорьевича, словно решила провести здесь весь остаток дня.
Несмотря на довольно-таки средний рост и почти комическую внешность пухлощекой усатой гномихи, Мариэтта Сергеевна, входя в любой кабинет, сразу занимала собой все его пространство. Вот и сейчас: дамская сумочка из твердой кожи – на столе, пальто с каракулевым воротником – в кресле, записная книжка и карандаш – на подоконнике, а сама писательница – на тяжелом стуле между окном и главным редактором, перекрывая ему и так уже не яркий октябрьский свет.
Павел Григорьевич насупился и сделал вид, что снова погрузился в чтение «Франс-суар». Через какое-то время текст действительно увлек его, и главный редактор забыл о гостье. Время близилось к половине одиннадцатого.
– Да, – задумчиво вздохнула Мариэтта Сергеевна после долгого молчания. – По всему миру идет подъем социалистического движения. Есть, конечно, отдельные эксцессы, как в Чехословакии, но в целом… Знаете, Паша, я часто размышляю: а как видятся такие глобальные процессы из глубинки? Чем откликается борьба за независимость Южной Родезии в сердцах сибирских студентов? Что думают выпускники пищевого техникума где-нибудь в Саратовской области о забастовках в Уругвае? Сочувствуют ли тамошним жертвам?
– Мммм… – неопределенно протянул Павел Григорьевич. – Вы имеете в виду, не превратились ли часы политинформации в пустую формальность? Не выхолащивается ли интерес молодежи к миру таким образом?
– Ну что вы! Я вовсе так не думаю… Нет, наоборот, мне бы хотелось уловить этот шаг времени в обыденности, в вечерних разговорах о важном где-то там, у костра, на краю света… Тема нужна, тема… Тема… А что передают с мест? Есть что любопытное?
– Да вот, – главред обреченно придвинул к себе машинописные листы с карандашными пометками на полях. – Что же тут интересного… В Орловской области встречают участников шестнадцатого республиканского съезда животноводов… Гости посетят новый свинокомплекс…
– Шестнадцатого… Нет, не то. Новизны не хватает.
– А свинокомплекс?
– Дальше.
– Месторождение марганцевой руды в Джезказганской области Казахской ССР выходит на запланированную мощность добычи. Директор рудника товарищ Сапаев награжден орденом…
– Дальше.
– В Каинске Новосибирской области в здании местной библиотеки произошел пожар…
– Какой ужас! В библиотеке!
– Да… В ходе тушения обнаружена ценная находка – дневник народовольца Даринского, имя которого и носит библиотека…
– Тот самый, что совершил покушение на сибирского генерал-губернатора?
– Должно быть… Рукопись в плохом состоянии. С.Л.Барский, профессор Новосибирского университета, выехал на место с целью изучения… В Азербайджанской ССР проходит симпозиум, посвященный памяти…
– Постойте-ка… Что там еще про эту библиотеку?
– Больше ничего.
– Дневник казненного народовольца… Сколько ему было? Двадцать? Двадцать один? Чем он жил? О чем думал, мечтал?
– О свержении самодержавия, видимо, – Павел Григорьевич пожал плечами.
– Вы упрощаете сейчас. Человек прожил короткую, но такую яркую жизнь, убил этого сибирского тирана, а в энциклопедии о нем ровно две строчки. А теперь что же, еще приписка появится – «мечтал о свержении самодержавия»? Нет-нет, дорогой Павел Григорьевич, так нельзя! Вот она, тема! Через много лет после гибели героя находят его дневник! Из небытия появляется он, делится с нами живыми чувствами и мыслями… И перед нашим молодым читателем открывается уникальная возможность – заглянуть в прошлое глазами их сверстника, отдавшего жизнь за их счастливое будущее, за их свободу!.. В общем, оформляйте командировку, – Мариэтта Сергеевна решительно хлопнула ладонью по подлокотнику.
Главный редактор тяжело вздохнул. Он хорошо знал этот лихорадочный блеск в глазах Шаинян. «Как минимум очерк, – подумал Павел Григорьевич. – И наверняка с продолжением».
Мариэтта Сергеевна, словно подслушав его мысли, продолжала:
– Свой очерк я назову «Воскрешение из мертвых». Как вам?
– Броско. Весьма броско.
– Вы думаете? Хорошо же. Так и запишем.
Шаинян подошла к подоконнику, открыла пухлый блокнот в коричневом переплете и лихим карандашным росчерком внесла в него название будущего очерка. Обретя смысл существования на ближайшие несколько недель, Мариэтта Сергеевна поспешила к выходу. Уже с порога она обернулась:
– Пожалуй, у меня выйдет еще статейка о сохранности библиотечных фондов в малых городах. Подумать только – пожар! Представляю, сколько уникальных книг не смогли спасти. Ну, коммунистический привет, Павел Григорьевич! Сибирь ждет!
Часть 1
Детективы
– Странные дела творятся, Серафим Львович. Подозрительные! – Алик снял форменную шапку, и из-под нее показались маленькие, девичьи почти ушки, смотревшиеся на короткостриженой голове сержанта как-то вызывающе не к месту.
– Мнэу… – равнодушно протянул собеседник, новосибирский профессор, доктор исторических наук и член-корреспондент Академии наук Серафим Львович Барский. Он милостиво терпел Аликово присутствие, но о разнице в их положении никогда не забывал, сводя обычно свое участие в диалоге к таким вот «мнэу…».
Алик этого не замечал. Он гордился ученым родственником – профессор был мужем его родной тетки – и искренне благоговел перед ним. Когда Серафим Львович приехал с месяц тому назад в их глухой Каинск, Алик умолил его занять маленький, зато отдельный собственный дом, а сам на время переехал к сослуживцам в общежитие. Да и то правда – в научном деле необходима тишина, каковой в местной гостинице, в номере между администраторской и общим туалетом, вы никогда не сыщете.
А в домике было спокойно. Хоть и стоял он в самом центре, но центр городка был таков, что совершенно не мешал Серафиму Львовичу заниматься даже и в самый базарный день. Напротив домика располагалось отделение милиции, в котором служил Алик, а чуть подальше по той же стороне улицы стояла библиотека. Если прибавить к этому здание горкома, универмаг, обустроенный в бывшем купеческом лабазе, и несколько деревянных домишек с богато украшенными наличниками, то вот и будет весь центр. От него, как трещины по стеклу, разбегались улицы: на юг и запад – широкие, ровные, а на север и восток кривенькие, плохонькие, но зато крайне многочисленные. По сторонам этих улиц и пятиэтажки встречались, и заводы чуть не километровой длины, но центр был одно– и двухэтажным, деревянным, сонным.
В благодарность за тишину Серафим Львович и пригласил в первый же вечер Алика захаживать в гости, присовокупив к этому что-то каламбурное, вроде «как к себе домой». И Алик аккуратно захаживал раз в неделю, попить чаю и рассказать о милицейской своей жизни.
А жизнь эта была скучнейшая. Вот в прошлое воскресенье Алику удалось во время дежурства на местном рынке задержать пьянчугу, посягнувшего на колясочку краковской, а в среду с напарником погнался за целой группой подростков, разбивших окно в универмаге, да так их и не догнал. Вот и вся служба. Алику же хотелось романтики. Он мечтал о настоящих расследованиях, мечты эти призрачно мерцали большими погонами на щуплых Аликовых плечах, и воображаемый дым крепких папирос, смешиваясь с запахом кубинского кофе, пьянил сержанта куда сильнее, чем привычная бутылочка «Жигулевского».
Этот терпкий дым и призрачное мерцание заставляли порой сержанта искать преступления там, где их и быть-то не могло. Вот и сегодня он пришел рассказать Серафиму Львовичу о каких-то неясных подозрениях, возникших еще полгода назад и разросшихся за это время до картин ужасных, потрясающих воображение и основы правопорядка.
– Подозрительно прежде всего то, что все смерти концентрировались по территориальному признаку, а именно в домах номер три и семьдесят восемь по улице Ленина и номер четырнадцать, шестнадцать и двадцать по Первомайской. Умирали молодые мужчины и женщины без хронических заболеваний. Также не было обнаружено следов борьбы и вообще насильственной смерти. Они просто засыпали вечером, как обычно, а утром родственники находили их в мертвом состоянии.
Вскрытие ничего не прояснило. Написано «внезапная остановка сердца», так что и дела заводить не стали. А надо бы!
Я подозревал одно время эпидемию, неизвестную современной медицине, но почему тогда после семнадцати смертей всё внезапно прекратилось? Загадка!
Еще есть версия отравления редким ядом. Это было бы замечательно! Вдруг у нас здесь живет диверсант? Он испытывал новое секретное оружие, а теперь готовит зловещую операцию – отравление городской системы водопровода… Или нет, погибшие сами могли быть членами диверсионной группы! Оказавшись под угрозой провала, они приняли яд и…
– Какая чушь! – не выдержал профессор. Он потряс своей великолепной среброкудрой головой. – И какая опасная чушь! Завтра ты этой фантазией поделишься с коллегами, а послезавтра кто-нибудь ею воспользуется, и начнется: тот посмотрел косо – значит, шпион! Этот улыбнулся криво – вредитель… Диверсант! Полгорода у вас вредителей будет!
Алик смутился. Не обиделся нисколько, а только разом застыдился своей откровенности и еще чего-то, о чем смутно догадывался и из-за чего никогда не рассчитывал на родственную близость в общении с Серафимом Львовичем.
Оба молчали. Алик, неудобно спрятав грязные сапоги под табурет, рассматривал натекшую с них лужицу. Профессор сопел и делал вид, что читает. Ему уже было немного совестно перед племянником – и то правда, живет в его доме, гоняет Алика на почту с телеграммами, в магазин за папиросами… Нет, нельзя так – ясно ведь, что не со зла тот, а по глупости и детской мечтательности.
– Ты бы, Алик, – заговорил Серафим Львович как можно примирительнее, – ты бы начал свое расследование с работы над источниками. Посмотри в архиве, не было ли похожих случаев в последние годы… Может быть, это нечто природное… Аллергическое там или пищевое… У соседей бы расспросил, что да как.
Сержант просветлел. И без того юное его лицо расплылось в совсем уж детской улыбке.
– Ух ты! А я ведь и не подумал! Точно, с архива и опроса свидетелей надо начинать… Я прямо завтра пойду… По всем правилам чтобы… Это самое…
Серафим Львович довольно хмыкнул:
– То-то же… Учитесь, молодой человек!
Это было в субботу. А уже во вторник, когда профессор страдал от мигрени, вчитываясь в текст рукописи, из-за которой, собственно, и оказался в Каинске, к нему, а вернее к себе, ворвался запыхавшийся и радостно возбужденный Алик.
– Серафим Львович! Они и раньше уже умирали! Десять лет назад! И двадцать! Может, и еще раньше, но мне доступа к тем архивам не оформили. Вот, смотрите…
Профессор, хоть и считал инцидент давешний как бы исчерпанным, не произнес обычного «мнэу…» и даже как-то заинтересованно поднял брови, отчего массивные его очки, наоборот, сползли вниз.
– Я искал похожие случаи. Уже и решил, что не было такого – в картотеке у нас все расписано: кто от старости умер, кто от болезни, а кого убили… Прямо обидно стало, до чего все незагадочно! И тут вдруг пожалуйста – двенадцать смертей за два дня! В другом, правда, районе, но опять же – концентрация территориальная налицо!.. Я выписки сделал – почитайте. Потом уж я рыл, прям как Пинкертон, – каждую бумажку перечитывал. И опять ничего! Целых десять лет! И вдруг раз – семь трупов! Да в одном доме! Да за один день! Ну это же неспроста, а? Только вот кто же так отчеты пишет, а? Никакой фантазии, никаких тебе мыслей по поводу! Одно только: такой-то такойтович ничем не болел, а потом взял и умер! Толку от этих архивов!
– Э нет, Алик! Ты не прав! Архивы – это основа исторической науки! И хорошо, что ведутся записи именно так, строго, без всякой отсебятины… Вот скажи, что ты знаешь об Адаме и Еве?
– Ничего.
– Что, прям ничегошеньки? – Профессор вдруг почувствовал себя на экзамене и с притворной досадой всплеснул руками, как обыкновенно делал в университете, наметив из числа студентов очередную жертву.
Алик тоже почувствовал себя на экзамене и стал вспоминать всё, что знал со слов бабушки. А знал он, оказывается, немало, и довольно связно поведал Серафиму Львовичу историю изгнания первых людей из райского сада за съеденное без спросу вшивое яблочко.
– Ну, в целом близко к тексту, – похвалил профессор. – А знаешь ли ты, что для настоящего ученого этот миф – важный исторический документ, подтверждающий последние данные па-ле-о-кли-ма-то-ло-ги-и?
Алик помотал головой.
– Начнем с того, что древнему человеку категория времени вообще была непонятна. Возьми любую народную сказку. Как там описывается время? Долго ли, коротко… Давным-давно… В лучшем случае люди знали слова «вчера», «сегодня» и «завтра». А теперь представь первобытных людей, живущих в Африке и испытывающих на себе последствия меняющегося климата… Реки мелеют, деревья постепенно засыхают… На место густых лесов приходят саванны… Представил?
Алик кивнул и даже глаза зажмурил, чтобы лучше представить несчастных первобытных людей.
– Разве мог древний шаман, не используя категорию времени, объяснить своему племени, почему еды и воды становится все меньше? Ведь живы еще были старики, которым в детстве рассказывали, что здесь было, например, полноводное озеро, по берегам которого высились тенистые пальмы, а ныне есть только пересыхающая лужа, поросшая камышом? Нет, Алик. Категорически не мог шаман дать рационального объяснения! И поэтому родилась легенда, что когда-то жили люди в раю, не знали ни голода, ни жажды, а потом за какой-то грех – заметь, повод буквально высосан из пальца! – всемогущий бог прогнал их и теперь они вынуждены в труде добывать себе пропитание. Так движение во времени превратилось в движение в пространстве! С этой точки зрения, – Серафим Львович сделал внушительную паузу и добавил саркастическую нотку в свою импровизированную лекцию, – евреи действительно «избранный народ», потому что сохранили память об этом событии для нашего научного архива!
– Или бог избрал их, чтобы они сохранили эту память и рассказали потом ученым! – воскликнул Алик, пораженный внезапной догадкой.
– Какой бог? Ты что? Бога нет! – Строгий профессор погрозил пальцем начинающему историку.
– Нет, ну это я так, гипотетически, – стушевался Алик.
– Ну хорошо, что-то мы отвлеклись. – Серафим Львович отложил фотографические снимки рукописи и принялся за Аликовы выписки. По сравнению с причудливой каллиграфией столетней давности почерк Алика радовал своей аккуратной округлостью и незатейливостью.
– Итак, – тоном опытного преподавателя продолжил Барский, – перед нами список из девятнадцати фамилий с указанием годов рождения, а также времени и места смерти. В анамнезе – никаких хронических заболеваний…
– А ведь я помню… – перебил профессора Алик. – Я помню, как десять лет назад слухи по городу пошли про эпидемию. А еще про вурдалаков… Говорили, мол, хоронить их надо по-особому, чуть не сжигать… И сожгли бы, да милиция вовремя вмешалась. Кто же это говорил?.. Соседка наша, что ли? А какая?.. Эх, забыл уже!
Серафим Львович, вполуха слушая воспоминания, быстренько вырвал из блокнота лист и начертил на нем табличку.
– Что мы имеем в качестве объединяющих признаков? Возраст – от двадцати до двадцати девяти лет. Хорошее здоровье. Район. Обстоятельства смерти. Время… Да уж, не будь я ученым, и сам бы заподозрил некий вампиризм. Чего уж взять с народа! Подумать только – в двадцатом веке чуть до охоты на ведьм дело не дошло! А в этом году что? Были подстрекатели? Ну, призывал кто-нибудь жечь трупы?
– Да нет вроде. Старух-то почти не осталось уже, а молодежь наоборот – физкультурой стала активнее заниматься, закаляться. Это так в поликлинике советовали. На случай эпидемии. Хотя… Вру! Были опять слухи насчет смертей. Кто распускал – не установлено, но в этот раз предлагали осиновым колом трупы протыкать. Тьфу!
– Этого я и боялся. Потому и сердился на тебя в прошлый раз. Понимаешь, Алик, ведь любые нездоровые фантазии на тему сверх– или противоестественных причин смерти могут спровоцировать вспышку насилия. Хорошо, что между этими случаями прошло десять лет и люди успели подзабыть обстоятельства. А представь, если следующая якобы необъяснимая смерть случится завтра? Ну, кто первый начнет охоту? Милиция – на шпионов или бабки – на ведьм? Толпы начнут ходить по городу с осиновыми кольями, святой – хе-хе – водой, а ты с коллегами будешь устраивать засады по подворотням! И будет у вас полгорода шпионов и полгорода вурдалаков… И это не считая вредителей, оборотней и прочих фольклорных персонажей!
Алик слушал профессора в полнейшем оцепенении. Таких страстей в его дымно-мерцающих мечтах не было.
– Послушай, Алик. Наш с тобой долг – мой как ученого и твой как стража порядка – расследовать это дело со всей объективностью и докопаться до истинной причины смертей! Завтра же утром мы пойдем к твоему начальству, и я буду настаивать на создании следственной группы с привлечением ведущих специалистов области, а то и всей страны! Мы установим факты и развеем нелепые домыслы… Думаю, – добавил Серафим Львович, многозначительно подняв указательный палец, – думаю, тебя, как проявившего бдительность, обязательно должны отметить. Может быть, даже наградить…
– Н-н-н-не н-н-надо, – пролепетал Алик.
– Твоя скромность похвальна…
– Нет! Не надо к начальству! Меня ж засмеют, Серафим Львович, пожалейте! Капитан скажет, что я с ума сошел. Да меня в тот же день из милиции… Ой! – Алик вжал голову в плечи, осознав, какое лихо было им разбужено.
Нет, не зря Серафима Львовича боялись все сибирские аспиранты и даже кандидаты исторических наук. Следующие полчаса он гремел – голос его, привыкший к акустике университетской аудитории, драматически взлетал к низенькому потолку и, не растратив силы ничуть на этот подъем, отскакивал от стен комнаты. Дрожали стекла, жарче пылали дрова, воздух сгущался вокруг бедного маленького сержанта, а великий и ужасный профессор Барский все не утихал и сыпал новыми упреками в трусости, равнодушии, отсталости, эгоизме и, наконец, в дилетантизме. И вот в миг, когда казалось уже, что сами стены дрогнут под напором голоса и падут, Алик заплакал. Навзрыд, взахлеб заплакал, как умеют это делать только маленькие дети и… выпускники средней школы милиции.
Серафим Львович, выросший к этому моменту до потолка, замолк, прислушиваясь к новому, неуместному звуку. Он взглянул с высоты на скорчившуюся на табурете фигурку и тут же принял земные размеры, изрядно при этом стушевавшись.
Все сибирские аспиранты и даже кандидаты наук знали, что профессор грозен, но отходчив. Узнал об этом теперь и Алик. Вовсе не хотел Серафим Львович пугать племянника, но так уж получалось, что любой намек на научное малодушие превращал его в монстра. Всю свою жизнь Серафим Барский боролся за науку и спуску не давал никому…
Однако ж и человечность была ему свойственна, а потому от обвинений он перешел к увещеваниям, а там и к утешениям. Сам – небывалый случай – налил Алику чаю и даже как-то неловко погладил зареванного сержанта по плечу.
Когда страсти улеглись, а в самоваре поспел свежий кипяток, родственники пришли к согласию: было решено вести расследование пока вдвоем, неофициально, с тем чтобы по получении значимой информации немедленно обратиться за помощью в соответствующие органы. На том и разошлись.
У Серафима Львовича, помимо неприятия всяческих лженаучных гипотез, была и еще одна тайная, не высказанная до конца даже самому себе причина заняться расследованием. Проблема была в том, что основной его труд что-то в последние недели шел уж очень тяжело. Когда два месяца назад узнал он об уникальной находке – дневнике народовольца Даринского, энтузиазму его не было предела. Профессор по праву считался крупнейшим специалистом по народовольческому движению, а по Даринскому, известному организацией покушения на тирана-губернатора, и вовсе написал несколько серьезнейших исследований, не считая научно-популярных брошюр и отдельных главок в пособиях для студентов-историков. Но вот беда – все эти работы профессора, стыдно признать, были буквально сотканы из воздуха и скреплены водой, поскольку казненный в возрасте девятнадцати лет народоволец не оставил, как ранее считалось, после себя ни записок, ни писем. А архивы местной полиции и суда, из которых можно было бы почерпнуть сведения о его деятельности и ходе процесса, пропали в смутное время – то ли с отступлением Белой, то ли с пожарами Красной армии. Вот и выходило твердых фактов биографии и политических взглядов Даринского всего три-четыре абзаца на пять изданных только за последнее десятилетие книг. Остальной объем дополнял профессор историей народовольчества в целом, особенностями его на сибирской каторжной земле и прочей шелухой. И было это ему до того унизительно и стыдно, что хоть вовсе брось.
А тут сенсация – при пожаре в архиве местной библиотеки найдены подлинные дневники этого самого Даринского! Вскоре выяснилось, что драгоценная находка пребывает в ужасающем состоянии и транспортировать ее в Новосибирск нет никакой возможности. Знаменитый же столичный реставратор – единственный, которому можно было бы поручить заботу о рукописи, занят другим, не менее важным делом и в ближайший год в сибирский городок не приедет. Вот и пришлось Серафиму Львовичу, как Магомету, самому ехать к рукописи, чтобы уже здесь, заручившись помощью местного фотографа, сделать снимки. В библиотеке же, названной в честь великого народовольца, профессор повелел учинить подробнейшую ревизию в надежде отыскать еще что-нибудь столь же сенсационное. А сам на время ревизии решил поселиться в городе, чтобы в следующей своей книге уделить внимание и художественному описанию родины Даринского, рассказав читателю, по каким улочкам любил гулять этот так и не доучившийся студент, какое впечатление на него произвели в детстве экзекуции ссыльных на местном эшафоте и так далее.
Еще не ознакомившись с рукописью, Серафим Львович уже представлял себе в деталях всё, что там прочтет, благо прочтено им было до этого немало дневников народовольцев, и все они были похожи между собой до неразличимости. Но в дневнике Даринского ждала его сенсация, а вернее, и не сенсация даже, а какая-то тайна – рукопись, хоть и была на русском языке и состояла из понятных большей частью слов, смысл являла собой совершенно необыкновенный. Необыкновенный и до того неслыханный, что у несчастного профессора при чтении начиналась мигрень. Не веря собственным глазам, пересматривал Серафим Львович фотографические снимки и всё пытался объяснить написанное – то ли это такие литературные опыты, то ли народоволец использовал тайный шифр, то ли рукопись вообще неверно атрибутирована… Всё напрасно! Выходило по всему, что рукопись эта подлинная, того самого Даринского, фантастическим романом не является и ни на один известный профессору шифр не походит. И получается, что… Ничего не получается! Будь на месте Серафима Львовича какой-нибудь другой специалист по народовольцам, он бы, пожалуй, и мог придумать объяснение – неправильное, неправдоподобное, но политически верное, и искренне отстаивал бы его перед научной общественностью. Но Серафим Львович так не мог…
Дело в том, что много лет назад, еще когда кудри на голове профессора были черными и знакомые девушки звали его не по имени-отчеству, а Серафимушкой или даже Симочкой, в общем, годах в двадцатых-тридцатых, никакими народовольцами Серафим Львович не занимался, а был молодым, подающим надежды ассириологом. И не где-то в Сибири, при университете, больше славящемся своими физиками, чем лириками, а в самом Ленинградском государственном университете! Знаком он тогда был и с Шилейко, и с Рифтиным, и со Струве, а с последним даже дискутировать решался, несмотря на разницу в возрасте… Но году в тридцать пятом началось на кафедре неладное: то один преподаватель не выйдет с утра на работу, то другого заберут прямо во время обеда…
Завкафедрой, нагружая молодого Серафима Львовича дополнительными преподавательскими часами, грустно пошутил: «Этак вы у нас скоро старейшим преподавателем станете», а на следующий день и сам пропал.
«Э-э-э-э, – смекнул молодой человек. – Керосином дело попахивает! Как бы и за мной чего не нашли». Собрав чемодан, Серафим Львович сдал ключ от комнаты коменданту и отбыл в неизвестном направлении, чтобы через месяц, уже числясь при Новосибирском университете, начать писать монографию об истории народовольческого движения. Спешно женившись и взяв фамилию жены, Серафим Львович выбросил в корзину все научные достижения, принесшие ему известность под другой, опасной фамилией, и зажил тихой жизнью провинциального преподавателя, ни в чем предосудительном не участвующего, а потому ни в чем таком и не замеченного.
Но воспоминания, воспоминания-то об увлечениях юности, о вечерах в холодной, прокуренной комнате Шилейко, где из темноты звучал голос притягательной и недоступной Анны Андреевны: Enūma eliš lā nabû šamāmū šapliš ammatu šuma lā zakrat[1]… Воспоминания эти – их куда выбросишь? Так и жил с ними Барский. И теперь, встретив до ужаса знакомые слова в проклятом дневнике, не знал, что и думать…
С каждым днем профессор все меньше времени проводил с рукописью, а все больше гулял или просто сидел перед окном, размышляя, как бы подать эту рукопись научному сообществу. Ведь и не спрячешь ее уже! Как же нехорошо-то…
Вот от этого «нехорошо» прячась, и решил Серафим Львович отвлечься, занять ум какой-нибудь детективной историей. Иные, простые люди в таких случаях открывают книжку, находя утешение в вымышленных преступлениях и хитроумных сыщиках. Но Серафим Львович был, вне всякого сомнения, личностью выдающейся – он решил стать и автором, и главным героем происходящего расследования.
Для начала Алик в свой единственный выходной был отправлен по известным уже адресам на улице Ленина и Первомайской. Перед этим профессор заставил его выучить список вопросов, которые нужно было задать родственникам и соседям умерших, смотря по обстоятельствам. Вопросы эти касались всех сторон жизни – от материального положения до романтических увлечений (учитывая возраст погибших, профессор не исключал и некоего шекспировского здесь сюжета).
Результатов опроса Серафим Львович ждал с неожиданным для себя нетерпением. Он ходил по комнате из угла в угол, по-наполеоновски заложив одну руку за борт жилета, часто курил и поглядывал на часы.
Наконец пришел Алик. Но сведения, им собранные, оказались крайне неудовлетворительными – формальными какими-то. Вроде бы аккуратно всё записано: с кем встречались, чем увлекались, как часто выпивали, а цельной картины никак из этого не вырисовывалось. Поскрипел зубами профессор, читая отчет, но ругать Алика не стал. Понял, боится тот, что слухи об учиненных расспросах до начальства дойдут, вот и не проявляет энтузиазма. Но ничего, решил Серафим Львович, для систематизации сведений сгодится. А на следующий день, прямо с утра, отправился на улицу Ленина сам.
В двухэтажном, дореволюционной еще постройки доме № 3 было восемь квартир. В темном подъезде при входе встретилась профессору пожилая дама. Именно дама, в этом уж он разбирался: шея прямая, гордая, лицо узкое и надменное, а взгляд… б-р-р-р! Знакомыми показались Серафиму Львовичу эта дама и этот взгляд, но обстоятельств знакомства он так и не припомнил, успокоив себя тем, что, должно быть, на рынке как-то сталкивались. Дама слегка кивнула в ответ на учтивый поклон профессора, как бы тоже выражая узнавание, и прошествовала к выходу.
Дверь в квартире погибшего Василенко открыла еще одна старуха, но совсем другого рода. Это была маленькая, бойкая и опрятная деревенская старушечка, пахнущая яблоками и душицей. Из-за спины ее выглядывали два мальчика лет трех и пяти. Серафим Львович тут же сообразил, что перед ним бабка того самого Василенко, и представился профессором из Новосибирска и доктором наук. Слово «исторических» он намеренно опустил, полагаясь на то, что бабка сама домыслит его причастность к медицине. Так и вышло. Старушка сразу собралась и отвечала на все вопросы Серафима Львовича обстоятельно, не спеша и с полным пониманием важности происходящего. Но как ни пытал ее профессор, как ни путал своими каверзами, ничего подозрительного выяснить ему не удалось: Юрий Василенко был обыкновенным, даже положительным молодым человеком, не пил, не курил, занимался волейболом, хорошо работал и уважал старших. Вот и в последний день он принес с завода получку, отдал матери, помог соседке повесить картину, поиграл с племянниками и лег спать. А утром… Ох ты, горюшко горькое! На кого же ты нас, Юрочка, оставил, ведь одни ж мы теперь, без мужика, а этих несмышленышей кто ж на ноги поставит – ни отца у них нет, ни вот дяди любимого теперь… Умер внучок… Серафим Львович повздыхал, поохал вместе с бабкой да и попрощался.
Родственники следующей погибшей, Анны Коноваловой, проживали в соседнем подъезде. Встретили они гостя неприветливо и отвечали на вопросы скупо, потому как были, судя по всему, невысокого мнения о самой Анне. Убралась, дак и черт с ней, – сквернословили мать и отчим, – добро б девка была путевая, а тут и жалеть не о чем! Из красоты – коса рыжая, из моральных достоинств… ничего, в общем! Шваль! С соседом, Василенко, знакома была, конечно, но близких отношений не водила. Да куда ей! Побрезговал бы Юрка такой прошмандовкой – он-то себя в чистоте держал… Как умерла-то? Да как все умирают – легла и не встала. А что перед тем делала? Спала весь день да жрала, дармоедка! К соседке вечером зашла, к Евгении Спиридоновне, а потом на б… гулянки отправилась. Ну а как вернулась, мы не знаем, спали все уж, мы чай люди рабочие, нам вставать рано.
Профессор порадовался, что не придется на этот раз притворно вздыхать по поводу безвременной кончины незнакомой ему девушки, и поспешил уйти. И тут он вспомнил, где видел давешнюю строгую даму. Конечно! Это же и есть Евгения Спиридоновна, служащая местной библиотеки.
И хотя Серафим Львович добросовестно продолжал свое расследование вплоть до самого вечера, мы за его передвижениями по городу более следить не будем, потому как ровным счетом ничего нового, что как-то приукрасило бы сухой отчет Алика, профессор не выяснил. И только совсем уже поздно ночью, когда сидел он дома под уютной лампой и сопоставлял свои записи, внезапная догадка посетила его! Было… Было еще кое-что общее у всех жертв, помимо молодости и отменного здоровья! Все они без исключения в день перед смертью заходили в квартиры к соседкам: двое зашли к Евгении Спиридоновне, еще пятеро – к некоей Домбровской и целых десять человек побывало у гостеприимной Амалии Ивановны Штир, заведующей библиотекой… Назвать это простым совпадением у настоящего ученого язык бы не повернулся! Серафим Львович был уверен, что на поверку Домбровская окажется Боженой Бориславовной – третьей библиотечной сотрудницей.
Надо сказать, что библиотечный триумвират поразил профессора с самого первого дня знакомства. Поначалу Барский даже постыдно вздрагивал всякий раз, когда встречался в коридорах с одной из этих мегер, младшей из которых было никак не меньше девяноста лет. Профессору казалось, что на него движется какая-то уродливая тень со сложным очертанием то ли крыльев, то ли пышных, давно ушедших в прошлое платьев, и тень эта по странной причуде освещения занимает куда больше положенного ей места… Жуткие старухи!
Потом он, конечно, привык к ним, а вскоре вообще перестал радовать библиотеку своим присутствием, всецело отдавшись анализу рукописей на дому. И вот теперь старушечьи тени вновь появились, так сказать, на горизонте.
Будучи убежденным материалистом, профессор напрочь отмел возникшие было мыслишки «а вдруг…».
«Никаких вдруг! – Он хлопнул ладонью по столу так сильно, что уютная лампа тревожно замигала. – Всему есть рациональное объяснение. Может быть, в библиотеке хранятся древние фолианты, страницы которых покрыты ядовитой пылью? У старух, наверное, уже иммунитет выработался, но у остальных-то его нет… Вот тебе и простое решение детективной загадки!»
Нет для ученого человека большей радости, чем рождение изящной и остроумной гипотезы. Это как явление музы для поэта или утреняя доза для завзятого пьяницы, с той лишь разницей, что хорошая гипотеза по-настоящему просветляет ум, а не только дает иллюзию всеобъемлющей ясности…
Серафим Львович был чрезвычайно доволен собой. Он даже не заметил, как начал говорить вслух:
– Завтра же с утра я позвоню в Новосибирск и потребую прислать сюда врачей и химиков! Они возьмут пробы в библиотеке и… О-о-о-о… Как же я раньше не подумал! Ведь все книги и рукописи должны будут пройти карантин, а это значит… Это значит, что с публикацией дневников Даринского надо будет погодить…
Новая мысль так обрадовала профессора, что он не сразу услышал шум за дверью. Спохватившись, бросился открывать – наверняка это Алик, кто же еще, – и замер на пороге. Там никого не было. Зато на крыльце лежала отрезанная собачья голова. Отрезана она была совсем недавно, может быть, всего несколько минут назад, потому как кровь продолжала стекать на ступени, размывая и без того нечеткую надпись на мокром снегу: «Не лезь не в свое дело!» В этот момент с грохотом захлопнулась калитка и послышались чьи-то торопливо удаляющиеся шаги.
В хороших милицейских школах есть такой предмет – психология преступника. И поскольку всё в этом мире имеет свою обратную сторону, можно предположить, что в каких-нибудь специальных учебных заведениях для преступников преподают и психологию жертвы. Так вот злоумышленники, обезглавившие неизвестного черного пса, видимо, плохо учились в своей школе. Иначе они бы знали, что для большего эффекта необходимо выбирать средство устрашения в соответствии с психологическим портретом жертвы, принимая во внимание личностные, возрастные и интеллектуальные данные объекта устрашения.
Попросту говоря, не на того напали. Запугать профессора Барского еще никому не удавалось! Тем более такими примитивными методами. Серафим Львович накрыл собачью голову подходящим по размеру тазиком, чтобы Алик мог потом собрать необходимые улики, и вернулся в дом.
«Так-так, – думал он. – Дело становится все интереснее! Кто-то, заметив, что я провожу опрос свидетелей, серьезно испугался… Но кто?! Кому я мог наступить на хвост?»
Версия с непреднамеренным отравлением библиотечным ядом отпадала. С другой стороны, представить себе Амалию Ивановну или Евгению Спиридоновну, тяжелым топором отсекающими голову какому-нибудь Бобику, было чрезвычайно сложно. Могут ли у них быть пособники? Или, наоборот, старухи, сами того не зная, стали орудием преступников? Это требует дополнительного изучения и наблюдения. Главное, чтобы Алик согласился… Ах, как же это все чертовски любопытно!
Алика уговаривать не пришлось. Жертва была идентифицирована как дворовый кобелек Платон, живший при отделении милиции. Этот факт указывал на особую, вопиющую дерзость преступников. Они недвусмысленно давали понять, что им известно о сотрудничестве профессора с Аликом, и даже как бы намекали на отсутствие законопослушного трепета перед милицией. А это, в свою очередь, задевало профессиональную гордость сержанта.
Было решено установить наблюдение сразу за четырьмя объектами – библиотекой и старушечьими квартирами. Как сделать это, не привлекая к операции дополнительные силы? Очень просто! Надо следить за всеми объектами поочередно, но в абсолютно случайном порядке, сбивая с толку преступников и случайных свидетелей. Основная нагрузка при этом ложилась на пожилого профессора, в то время как Алик должен был играть роль своеобразного триггера, сеющего панику и провоцирующего злоумышленников на необдуманные поступки.
Дом, в котором проживала заведующая библиотекой, был крайне удобен для наружного наблюдения – прямо напротив располагалось почтовое отделение, из которого отчетливо была видна калитка интересующего профессора дома и даже одно окно – кажется, в гостиной. Серафим Львович взял стопку телеграфных бланков и занял стратегическую позицию за столиком. С собой он имел блокнот, авторучку, карандаш и пару бутербродов с докторской колбасой. Точно в условленное время появился Алик, отпер калитку и проследовал к дому. Его не было минут десять – достаточно для того, чтобы постучать в дверь, представиться и задать один-два вопроса касательно Абросимова, Ведерникова и еще нескольких граждан, навестивших зачем-то пожилую соседку аккурат перед самой своей гибелью полгода назад. Вот калитка отворилась вновь, из нее вышел Алик и направился в сторону центрального универмага, но перед этим потер руки, как бы согревая их, а на самом деле подавая условный знак профессору – все идет по плану!
Серафим Львович приник к окну, теперь уже почти не утруждая себя маскировкой и заполнением бланков с выдуманными поздравлениями вроде «ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВСКЛ ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ ЗПТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ТЧК». Время тянулось медленно. Случайные прохожие никак не хотели приближаться к калитке Амалии Ивановны и даже собаки обходили ее стороной, как будто зная о трагической участи Платона. Короткий осенний день медленно сменялся сумерками, бутерброды давно были съедены, а кипа неотправленных телеграмм на общую сумму в 17 рублей с копейками уже отправилась в мусорную корзину, когда наконец профессор заметил чью-то стремительно приближающуюся к дому узкую тень. Молодой человек среднего роста в длинном пальто привычным движением откинул крючок и открыл калитку. В отличие от Алика его не было довольно долго – что-то около часа. И вышел он в тот самый момент, когда уборщица на почте уже начала недовольно скрести шваброй пол, задевая теплые югославские ботинки профессора. Человек пошел в сторону от центра, очень медленно и как бы пошатываясь. Это дало Серафиму Львовичу возможность намотать шарф, застегнуть пальто и выбежать на улицу, не теряя из виду подозреваемого.
И вот тут-то начались трудности. Не имея опыта наружного наблюдения и боясь упустить объект этого наблюдения, профессор то слишком приближался, то, наоборот, отставал, не желая быть замеченным. Он прятался за редкими деревьями, сворачивал в переулки и даже делал вид, что ищет на земле упавшую монетку. Но к счастью, объект был так погружен в собственные невеселые, по всей видимости, размышления, что слежки попросту не замечал.
Вскоре улица закончилась, вернее перешла в длинный ряд гаражей и складов, а человек всё так же шел к одному ему известной цели, увлекая за собой и профессора. Ночь была безлунной, а фонарей в городе и на центральной-то улице было всего три, так что слежку пришлось вести в полной темноте.
И здесь давайте остановимся на минуту, чтобы восхититься удивительным мужеством Серафима Львовича! Это же надо – пожилой человек, отягощенный не только лишним весом, но и различными хроническими заболеваниями, так смело, без тени сомнения бросился в погоню за вероятным преступником, невзирая ни на темноту, ни на усиливающийся холод ноябрьского вечера…
И все же дальнейшая слежка была слишком опасна. Здесь, в промзоне, где асоциальные элементы чувствуют себя как рыба в воде, а заслуженные деятели науки, наоборот, ощущают некий дискомфорт, здесь профессор остановился отчасти потому, что сгущавшаяся темнота нагоняла на него страх, а отчасти и потому, что попросту потерял своего объекта. Поразмыслив и прикинув, что обратно человеку придется возвращаться тем же путем, Серафим Львович спрятался за дровяным сараем, откуда продолжил следить за дорогой. Довольно скоро он услышал неверные шаги пьяного человека. Мимо сарая по направлению к городу шел, тяжело дыша, бородатый мужчина в телогрейке. И чем дальше он шел, тем быстрее. В конце концов он почти побежал, наклонив корпус вперед так, будто пытался проткнуть головой воздух. И тут раздался громкий хлопок. Мужчина, нелепо взмахнув руками, упал. Серафим Львович на секунду оцепенел от неожиданности, но потом все же бросился к упавшему.
– Эй! Что с вами? Вы не ушиблись? – Он склонился над человеком, но последовал второй хлопок – теперь уже стреляли в профессора!
Серафим Львович пригнулся и отскочил в сторону, под защиту гаражной стены. Следующая пуля просвистела мимо.
В жизни бывают моменты, когда человек, даже очень умный, теряет голову и подчиняется древним инстинктам, не раз спасавшим его менее умных предков. Вот и Серафим Львович внезапно осознал, что чем дольше он здесь стоит, тем меньше у него шансов выжить. И профессор побежал. Он бежал зигзагами по узкому проулку, падая в полузастывшую грязь лицом при каждом выстреле, тут же поднимался и бежал дальше, теряя на ходу норковую шапку, мохеровый шарф и остатки самообладания. А выстрелы следовали один за другим, и некоторые пули проносились так близко, что профессорские уши трепетали, а сердце от ужаса грозило вырваться за пределы драпового пальто и оставить бедного Серафима Львовича там одного…
К автостанции профессора вынесло только утром. Всю ночь он в панике метался по улицам. На каждом углу ему мерещились старухи с ружьями, широкими тесаками и крючьями, под каждым забором валялась отрубленная собачья голова, а на деревьях то тут, то там висели удавленники, скрипуче раскачиваясь в такт ветру.
В кассе Серафим Львович купил билет на первый же автобус до Новосибирска и все оставшееся время прятался в деревянном туалете, изо всех сил притягивая к себе дверную ручку. Немного успокоился он, только когда рыжий автобус, дребезжа всеми своими деталями, сделал круг на центральной площади, всхрапнул и устремился прочь из города.
В Аликов дом за вещами Серафим Львович не заходил, поэтому пропажи фотокопий с народовольческой рукописи так и не обнаружил. Да и до рукописи ли теперь было этому старику с полубезумным взглядом, скорчившемуся на заднем сиденье автобуса? «Домой, – шептал он, заклиная водителя ехать как можно быстрее. – Домой!»
Сон
«Это как в проруби искупаться… Страшно и холодно только в первый раз, да и то недолго», – думал сидящий на крыше пятиэтажки худой, заросший пегой бородой человек, грея в кулаках застывшие пальцы. Порыв ветра взметнул облачко снега, прихватив по пути жестяную банку из-под мясорастительных консервов «Завтрак туриста». Банка жалобно звякнула о край водостока и полетела вниз стремительно, как летят в пропасть туристы, вооруженные страховочными обвязками, ледорубами, скальными молотками, шлямбурами и еще бог весть чем, но все же не удержавшиеся там, на краю того и этого света.
Человек посмотрел вслед банке: «А главное, второго раза, скорее всего, и не будет». Посидев так еще несколько минут, он ухватился за ствол староверского креста-антенны и встал. Внизу у гаражей молодые ребята тягали тяжелые ящики, утрамбовывая их в «буханку». Какая-то девушка покрикивала на них, поторапливая, и временами неодобрительно смотрела на крышу.
Зима наскоро заметала улицы, пряча грязные следы недавних дождей. Верхушки домов уже были похожи на белые могильные холмики, но на земле снег еще кое-где таял, словно хлебный мякиш, упавший в теплый чай. До настоящих холодов было далеко.
Сигарета была вонючей и какой-то кислой. Человек, морщась, докурил ее без удовольствия, больше для порядка, и затушил мозолистыми пальцами. Надо было спускаться домой.
Зайдя в жаркую квартиру, он подергал плечами, кое-как стряхнул с телогрейки снег и вдруг не мигая уставился на тусклую, скупую лампочку.
– Сашк, ты чего?
Фигура Сашкиной жены сливалась с интерьером квартиры. Одутловатое лицо ее казалось орнаментом на сырых, темных обоях, а тело, завернутое в байковый халат, имело тот же непередаваемо желтый оттенок, что и дээспэшная мебель.
– Антенну-то подергал?
Не ответив, Сашка прошел в комнату и рухнул на незаправленную кровать.
– Застелила б, что ли…
– Так воскресенье ж…
Ему вдруг захотелось вернуться на крышу. Там было свежо и тихо. Вместо этого Сашка поднялся, пошарил в кармане рабочих брюк и, вытянув оттуда последнюю трехрублевку, неопределенно буркнул жене:
– Я эта, к ребятам…
Но к ребятам, соседским мужикам, вечно колдырившим в сумраке соседнего с Сашкиным подъезда, идти почему-то не хотелось, и Сашка быстро пошагал к остановке. Автобусы в Каинске ходили по двум маршрутам – от Буденовки до конечной «Проходная № 4» и от железки в сторону Рабочего поселка, населенного такими горькими пропойцами, что официальное название конечной там народом давно забылось и говорили все просто – «до Ханыжной». Вот туда-то Сашка и поехал.
Выйдя из грязно-белого с голубой полоской пазика, Сашка направился меж двух длинных, барачного типа строений по узенькой гравийной дорожке со странным, но гордым названием «тупик Мира» к дому Хафика Мирзояна.
Хафик был крайне нетипичным представителем трудолюбивого и оборотистого армянского народа. Жил тем, что сдавал металлолом и макулатуру. Временами он подрабатывал сторожем на овощной базе, но подолгу старался там не задерживаться: грубая ругань коллег и дешевый одеколон, принимаемый внутрь в сопровождении ирисок «Золотой ключик», не находили в Мирзояне никакого сочувствия.
Неизвестно, почему в школе он сдружился именно с Сашкой, тихим пацаном с рабочей окраины (отец самого Хафа работал завмагом), но, так или иначе, первую в своей жизни бутылку портвейна они выпили вместе, на двоих, неудобно сидя на корточках в кустах позади школы и наблюдая постепенно мутнеющими глазами за голыми икрами пробегающих мимо старшеклассниц. И первым поцелуем, таким влажным и долгим, что сердце выскакивало от недостатка кислорода, их наградила одна и та же сорокалетняя барёха. Попутно в ту же ночь она одарила приятелей неприятной болячкой, из-за которой оба пропустили выпускной, а Хафик так еще и оказался впоследствии негоден к воинской службе… И пока Сашка отдавал долг родине, Хафик успел уйти из родительского дома, жениться, развестись и вроде бы даже отсидеть пятнадцать суток за распитие в общественном (фонтан «Колхозный венок») месте. С тех пор прошло немало лет, и Хафик побил все рекорды местного отделения милиции по числу противоправных актов в том же «Колхозном венке», но и поныне связывало его с Сашкой какое-то трепетное подобие лицейского союза. Союз этот был неразделим, вечен, неколебим, свободен, беспечен, хоть, впрочем, и не слишком тесен – виделись друзья редко.
Подойдя к мирзояновской халупе, Сашка заметил, что фасад ее несколько изменился: на стене был нарисован круг со сложной комбинацией меловых и угольных пятен, а окно заклеено плакатом с изображением толстого узкоглазого человечка, как-то по-особому подвернувшего под себя ноги.
– Хаф, ты дома? – Сашка толкнул разбухшую дверь.
Изнутри пахнуло кислым паром и под ноги ему выскочила худющая кошка. Ни на что особо не рассчитывая, она все же потерлась головой о Сашкины сапоги, просительно мяукнула пару раз и отправилась куда-то по своим кошачьим делам.
Друг детства нашелся в дальней комнате. Он сидел с закрытыми глазами прямо на земляном полу в той же позе, что и человечек на картинке, и что-то бормотал, раскачиваясь из стороны в сторону.
Серое небо посылало скупой поток света на бутылку «Пшеничной», и поток этот, пройдя положенные по ГОСТу 40°, становился еще слабее и окончательно терялся в мутных, не знавших ни тряпки, ни мыла стаканах. «Пшеничная» стояла на подоконнике, там же лежали соленые огурцы и половинка фаршированного перца – стола у Хафика не было.
– Санёк, а тебе никогда не казалось, что мы все уже рождались раньше в этом мире? Что не первый раз живем?
– Не знаю. Я так точно первый. Куда ни гляну – всё странно, непонятно и совсем не так, как должно быть.
– В том-то и дело, что не должно! Вся наша обыденная реальность – это конфликт сущего и должного. То есть душа-то хоть и запуталась в цепи перерождений, но чувствует, припоминает, что есть и другая, неявленная реальность, к которой мы все должны стремиться.
– Это коммунизм, что ли?
– Хуизм! Дурак ты, Саня… Я тебе про тайное знание, а ты!.. – Хаф сгоряча махнул сразу четверть стакана, не дожидаясь друга.
Сашка равнодушно пожал плечами и опрокинул свою дозу. Выдохнув, поинтересовался все-таки, чтобы не обижать Хафа:
– Так что за тайна-то?
– Вот слушай… Помнишь, в школе в кабинете физики висел плакат «Энергия не исчезает и не появляется, а лишь переходит из одного состояния в другое»?
– Ну помню вроде.
– Я все время думал тогда над этими словами, Сань. Это как же не исчезает? Как не появляется? Вот умер человек, и что? Куда его энергия делась?
– Так если он от старости или от болезни умер, то какая там энергия? Ослаб человек и умер.
– Хорошо, а если не от старости? Если убили его? Или он сам?
– Ну, кровь вытекла… Сил не стало, и умер…
– Материалист хренов! А куда мысли человека денутся? Чувства? Эмоции? Это ведь тоже энергия!
