Урок физики
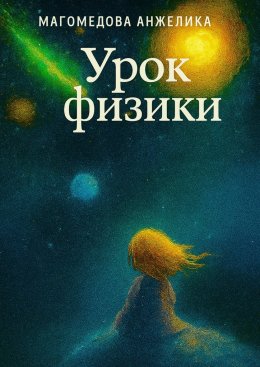
© Анжелика Магомедова, 2025
ISBN 978-5-0067-6940-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
УРОК
– Сегодня мы с вами поговорим об одной из самых известных и одновременно самых загадочных формул в истории науки.
О формуле, которая изменила мир, – сказал учитель и жирно вывел в центре доски:
- E = mc²
- • E – энергия
- • m – масса, то есть количество вещества
- • c – скорость света
Эта формула лежит в основе знаменитой специальной теории относительности Альберта Эйнштейна. В ней гениальный ученый впервые объединил массу и энергию в одну простую формулу.
Но несмотря на свою простоту, она помогает объяснить такие грандиозные явления, как рождение звёзд, излучение Солнца, возникновение чёрных дыр, то, чем закончит наш мир и многое, многое другое.
Согласно этой формуле, даже в состоянии покоя любое материальное вещество обладает энергией – и причём, энергией колоссальной силы.
В каждом грамме вещества заключено столько энергии, сколько эквивалентно взрыву 21 мегатонны в тротиловом эквиваленте.
Именно такую мощность имела атомная бомба, сброшенная США на японский город Нагасаки в 1945 году.
Обратите внимание: в одном единственном грамме вещества, в том числе и в веществе вашего тела прямо сейчас, – энергия, сравнимая с бомбой, стершей с лица земли целый город! В одном грамме!..
– Ух ты! – протянул Дон, которого все знали как главного школьного шутника и хулигана. Он демонстративно обернулся к последней парте, где Тарас тихонько дожёвывал свой последний круассан со сгущёнкой. Класс заулыбался и оживился – каждый в уме прикинул, скольким городам и странам гипотетически мог бы угрожать солидное тело Тараса.
– Игорь Викторович, а как вытащить из них эту энергию? – с прищуром поинтересовался Дон, окинув взглядом класс. – Как сделать так, чтобы эти ходячие «бомбы» взорвались?
– Ну, для этого, – начал учитель, – нужно либо разделить атомы, из которых состоит вещество, превратив один атом в несколько, либо наоборот – соединить несколько атомов в один. И в том, и в другом случае высвобождается огромное количество энергии. Первый процесс называется ядерным делением. В нём участвуют тяжёлые атомы, например уран – они большие, с множеством протонов и нейтронов, и потому неустойчивые.
А второй – это ядерный синтез, он происходит с самыми лёгкими элементами, например с водородом.
Учитель на мгновение отвёл взгляд на солнечный зайчик, дрожащий на потолке, и продолжил:
– К примеру, на Солнце происходит синтез: там атомы водорода сливаются, образуя гелий, и при этом выделяется огромная энергия – в виде света и тепла. Благодаря этому мы с вами живём.
Он помолчал, потом задумчиво добавил:
– Человечество научилось создавать такие процессы искусственно. Как вы думаете, для чего эти знания были использованы в первую очередь?
И, не дожидаясь ответа, чуть тише, с паузами, произнёс:
– В первую очередь люди создали оружие. Атомную бомбу. Ту самую, о которой мы только что говорили. И не задумываясь, испытали её… на своих сородичах.
Возникла небольшая пауза. Не знаю, о чём думали мои одноклассники, но в моём воображении мелькали картинки – всё, о чём рассказывал учитель. Я уже успела побывать внутри атома, заглянуть вглубь Солнца, представить, как в небо поднимается ядерный гриб… Я видела полные ужаса глаза людей, устремлённые вверх – и пыталась понять: как могли такие умные учёные поступить так глупо? Можно ли вообще назвать их по-настоящему умными?
Учитель, будто прочитав мои мысли, ответил:
– Так бывает, когда разум человека бежит впереди его сердца. А должны всегда идти вместе. Разум без сердца не может быть по-настоящему умным. Недостаточно просто хорошо разбираться в науках, делать открытия и обладать выдающимся умом – нужно ещё иметь душу. Нужно чувствовать ответственность за судьбы людей, планеты, всех живых существ, быть добрым, мудрым. Без доброты и мудрости даже самый высокий интеллект может стать опасным. Обладатель сильного ума и пустого сердца способен принести страшный вред.
Если бы развитие человека сводилось только к росту интеллекта, то вершиной эволюции стал бы компьютер. Но он – всего лишь машина: быстрая, точная, но бездушная.
– Да, – подумала я, – без души, без сердца невозможно по-настоящему восхититься красотой, не заплачешь над бабочкой, которой оторвали крылья, или просто от того, что перед тобой открылся потрясающий вид.
Я недавно видела в интернете, как плакала туристка, приехавшая к нам в горы. Её спросили – «почему ты плачешь?», а она ответила: «потому что красиво».
А компьютер… он вообще не способен плакать.
Учитель замолчал, как будто давая нам время на размышление, затем демонстративно взглянул на часы и продолжил:
– А ещё, согласно этой теории, время может течь по-разному. Представляете? Чем быстрее движется объект, тем медленнее для него самого идёт время. А на самой скорости света – для света – время как бы замирает. Оно просто не «течёт» в привычном смысле.
Класс слушал очень внимательно.
– А если бы можно было двигаться быстрее скорости света, тогда можно было бы представить и движение назад во времени.
– Ого! – вырвалось у меня. – То есть… если бы можно было, то можно было бы построить машину времени?
– Увы, нет, – грустно улыбнулся учитель.
– А вдруг можно, а мы просто ещё не знаем об этом?
– Отличный вопрос, – кивнул учитель. – Дело в том, что свет состоит из фотонов – частиц, у которых нет массы. Им не нужно разгоняться: они сразу движутся с максимальной скоростью – 300 тысяч километров в секунду!
Но в отличие от фотонов, все остальные элементарные частицы – даже самые крошечные – имеют массу. А чем больше масса, тем труднее её разогнать. Более того – по мере увеличения скорости, частица будет становиться всё тяжелее и тяжелее, и, значит, нужно будет всё больше и больше энергии, чтобы её разогнать. А чтобы разогнать её до скорости света, потребуется бесконечная энергия. Значит, обогнать частицу света у нас нет никаких шансов.
– Жа-а-аль… – разочарованно протянул весь класс.
СОН
Тут я вспомнила, как мама будила меня утром:
– Зелинка, вставааай!
Всего за одно мгновение между её словами и моим пробуждением мне приснился длиннющий сон, связанный с тем, что она сказала. Как такое возможно? Всё это произошло всего за долю секунды, а ощущалось, как вечность.
Снилось, будто я сижу на самом краю высокой пропасти, свесив ноги в небо. Болтаю ими в синеве как в воде и смотрю вдаль. Передо мной – бескрайние дали, цепи горных вершин, тающие в горизонте, и облака, медленно проплывающие сквозь меня.
Я ждала Юську. Так я с детства называю своего брата.
На самом деле его зовут Юсуп, но это имя «Юська» прилипло с раннего детства – и осталось.
Вдруг заметила гору, из верхушки которой поднималось нечто похожее на дым. Я вглядывалась, пытаясь понять – дым это или облако, – как вдруг появился брат. Только он почему-то был совсем маленьким, таким, каким был в раннем детстве. И голос у него был точь-в-точь, как у мамы:
– Зелинка, вставааай!
Но я не обращаю на него внимания и продолжаю смотреть на гору. Там происходило что-то странное, и я не могла оторвать взгляда.
И тут вдруг – будто молнией осенило: «А ведь Юська может упасть в пропасть!» Я резко обернулась – никого нет.
Сердце сжалось.
Стало страшно. Вскочила и начала искать его повсюду – за каждым обломком скалы, в каждой трещине каменного плато. Бегала, звала, заглядывала под выступы – и всё напрасно. Спустилась вниз, на опушку туманного леса. Но там мне сказали, что лучше искать наверху, и я вновь взобралась к вершине. Уже совсем отчаялась, когда вдруг услышала детский голос со стороны пропасти.
Подбегаю к краю, вглядываюсь вниз – и вижу его. Он целый и невредимый, летит верхом на огромном орле! Орёл – белый, с чёрными пятнами, как у соседского добермана. Он так красиво махал крыльями – плавно, как в замедленном кино. А Юська смеялся – звонко, радостно, по-настоящему счастливо.
Я смотрела на них долго, пока они не скрылись за Седло-горой – горой, на которую часто любуюсь из окна бабушкиного дома в Хунзахе.
И в этот момент я проснулась.
Мой мозг успел сгенерировать такой длинный сон за одно мгновение между словами мамы и пробуждением? А я ведь проснулась сразу от её голоса…
Вот она – скорость быстрее света! Надо будет обязательно рассказать об этом учителю.
А вдруг, когда мы спим, мы попадаем в другой мир, где время течёт иначе? Или его там вообще нет? А почему бы и нет? Вот в квантовом мире – мире мельчайших частиц – время ведь течёт по-другому. Это всем известный научный факт.
Сколько же образов и мыслей сейчас пронеслось у меня в голове за одну секунду… Я даже успела пережить свой сон заново – во всех подробностях!
Да, это надо обязательно обсудить с учителем.
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ГРАВИТАЦИЯ ЗАМЕДЛЯЕТ ВРЕМЯ
– Вот вам ещё интересное, – продолжал учитель.
Он задержал взгляд на непоседливом Доне и, прищурившись с улыбкой, сказал:
– Если отправить Дона в долгое космическое путешествие, то, когда он вернётся, мы с вами уже будем глубокими стариками… а он – всё ещё мальчишкой. И это не фантастика, а физика.
– Вот это мне нравится! – оживился Дон. – Какое ЕГЭ надо сдавать, чтобы стать космонавтом? Хочу остаться молодым, когда вы тут все превратитесь в древних старушек и стариков!
Класс рассмеялся. Учитель покачал головой:
– Не обольщайся, Дон. Это не способ продлить жизнь. Просто ты перескочишь вперёд во времени. Вернёшься, а здесь уже всё изменилось. Близкие постарели, друзья повзрослели, а ты – словно опоздавший на собственный праздник.
Он сделал паузу, потом добавил с лукавой улыбкой:
– Хочешь быть моложе своих сверстников? Тогда держись подальше от гор.
– Это ещё почему? – удивился Дон.
– Потому что замедление времени вызывает не только высокая скорость, но и гравитация. А у подножия горы притяжение Земли – то есть гравитация – чуть сильнее, чем на вершине. Значит, человек, живущий внизу, стареет буквально на долю секунды медленнее.
– Значит, чем ближе к центру Земли, тем медленнее идёт время? – переспросила я.
– Именно, – подтвердил учитель. – А вблизи чёрных дыр время почти замирает, потому что они обладают просто чудовищной гравитацией.
Он подошёл к доске и постучал по ней указкой:
– В теории Эйнштейна ускорение и гравитация – почти одно и то же. Когда ты ускоряешься, ты словно создаёшь гравитационное поле. Поэтому и быстрая ракета, и массивная планета действуют на время похожим образом – замедляют его ход.
– И это не просто теория, – добавил он. – Существуют точные эксперименты. Учёные не раз проводили измерения с помощью атомных часов – сравнивали ход времени на вершине горы и внизу. Результат: наверху часы идут чуть быстрее. Разница крошечная, всего доли секунды за много лет. Но она есть – и она измерена.
– Доля секунды – это несерьёзно, – фыркнул Дон. – Я лучше постарею чуть раньше, но в горах!
– И правильно, – улыбнулся учитель. – Лучше жить ярко и счастливо, чем гоняться за микросекундами.
Класс дружно засмеялся, и в комнате снова поднялся весёлый галдёж.
ЭНЕРГИЮ МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В МАТЕРИЮ!
– Так, ребята, тише! У меня есть ещё кое-что, чем вас можно удивить!
Он сделал паузу, сделал загадочное лицо, продемонстрировал пустые ладони, вытянул руки в стороны, покружился на месте и, произнеся:
– Ахалай-махалай! – сделал несколько резких движений руками. Когда раскрыл ладони, в правой руке оказался маленький белый теннисный мячик.
– Эта формула, – он кивнул в сторону доски с надписью E = mc2, – позволила человечеству понять, что массу, то есть материю, можно получать из чистой энергии, ну как бы из ничего.
– Да лааадно… – недоверчиво протянул Муртуз, главный скептик класса. – Сказки. Так могут только фокусники, и то понарошку!
– А вот и нет, – спокойно ответил учитель. – Это научный факт. Формула Эйнштейна показывает: материя и энергия – две стороны одной медали. Их можно превращать друг в друга.
Материю – в энергию. Энергию – в материю.
Он выдержал паузу и продолжил:
– И это не просто теория. Учёные доказали это экспериментально. Помните, я рассказывал вам про адронные коллайдеры? Это такие огромные установки, где с гигантской скоростью сталкивают друг с другом элементарные частицы – протоны, электроны, фотоны…
