Записки Homo existier
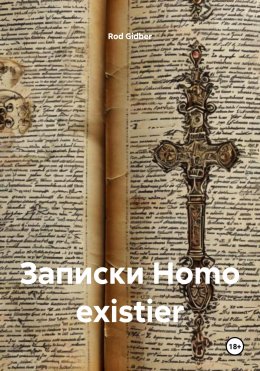
Предисловие
Я решил написать простое изложение себя самого в каждодневном себявидении, куда можно включить в качестве развернутого содержания все то, что человек может видеть вокруг себя, чувствовать в себе, понимать и представлять вовне. Длительность будет равняться одному астрономическому году. Это своеобразный дневник, пригодный, например, не считая меня самого, для какого-нибудь инопланетянина, чтобы он смог иметь более или менее полное представление о homo existier (человек существующий). Последнее выражение не совсем корректно, поскольку в бинарной номенклатуре К. Линнея принято оба слова писать на латинском языке. Но следует учитывать, что каждое из этих слов, относясь к различным культурным пластам, способствует связи времен, соединяя между собой наиболее существенные символы своих эпох. Я сказал «для меня самого» потому, что каждодневное и правдоподобное описание обязывает меня быть целеустремленным и способным держать слово, данное самому себе. Но, как бы мне ни было трудно держать слово, данное предприятие (слишком громко сказано), может кое в чем покрыть издержки, какие мне представляется вложить в это дело. Я имею в виду пользу, какую я могу получить по завершении этой работы. Например, я буду более организованным, постараюсь более не напиваться до беспамятства, ибо тогда я нарушу данное самому себе обещание писать каждый день; я смогу определить те дни недели, месяца и даже времен года, когда мне больше всего захочется работать и соответственно меньше всего хандрить. Это, как говорят, связано с влиянием либо солнечной активности, либо со сменой фаз луны, либо расположением земли относительно звезд и других планет, либо физиологическими процессами, либо, наконец, со всеми этими явлениями вместе взятыми. Насколько я знаю, для каждого конкретного человека астрологами составляется его личный, так называемый, гороскоп. Но так как астрология вещь весьма сомнительная, то нет ничего лучшего, чем каждодневное наблюдение над своим самочувствием, хотя бы в течение одного года, когда наша планета под названием Земля совершает один полный оборот вокруг нашей звезды под названием Солнце, расположенном в одном из бесчисленных звездных скоплений, называемом Млечным Путем. Обособленное скопление звезд в космическом пространстве люди на нашей планете называют галактикой.
По правде говоря, человека не может всерьез интересовать инопланетное существо, которого никто и никогда не видел. Здесь я, пожалуй, слукавил. Но я должен сказать в свое оправдание следующее: я с самого начала сказал, что буду писать то, что чувствую и представляю. Это значит, что мне показалось, будто мой дневник более всего подходит для инопланетянина, решившего в один прекрасный день узнать духовный или психологический портрет человека, коренного обитателя этой планеты и единственного вида местной фауны, наделенного сознанием. Более того, надо иметь в виду, что я пишу на русском языке, которого я причисляю к одному из наиболее чувственных форм из мира человеческих языков, на котором написаны выдающиеся литературные произведения, а они, как известно, наполнены чувствами, точнее говоря, психологическими и ментальными составляющими человека.
С одинаковым успехом можно было бы сказать, что все здесь написанное будет интересно какому-нибудь жителю Африки или Южной Америки, поскольку мы все еще слишком далеки друг от друга. Иногда кажется, что мы удалены друг от друга не только в пространстве, но и во времени. Возможно, что так оно и есть, поскольку, согласно одной знаменитой физической теории, пространство и время суть одно неразрывное целое. Так вот, я житель северной страны под названием Россия, где четко можно различать четыре сезона или времен года – весну, лето, осень и зиму. В отличие от Африки или экваториальных районов Южной Америки, мы можем наблюдать у себя не только оскудение жизни, когда все лиственные деревья к осени сбрасывают с себя листву, но и почти полное ее угасание, когда уже не услышишь в лесу ни одного жужжания насекомого, и не увидишь ни одного цветущего растения. Но это означает только, что часть природы уснула до весны. Впрочем, у каждого времени года своя неповторимая прелесть.
В мое описание будут входить не только незначительные фенологические наблюдения над природными явлениями нашего края, но, главным образом, мое внутреннее состояние, характеризуемое моим духовным обликом, которому далеко уже не двадцать лет. Для мужчины такого возраста многое может показаться установившимся, не говоря уже о том, что многое может быть безвозвратно утерянным. Хотя есть такое хорошее высказывание, что никогда не поздно стать тем, кем бы ты хотел стать, но подходящее время для многих дел, возможно, осталось позади. Человеку не свойственно долго горевать над прошлым, над утраченными иллюзиями, а может и упущенными возможностями. Я полагаю, что это происходит оттого, что вся его «настоящая» жизнь состоится в ином мире, но сегодняшняя его жизнь, привязанная к данному моменту не менее важна, поскольку она подготавливает его будущее. С данной точкой зрения, я думаю, может согласиться лишь ничтожное количество людей. Как ни странно, но это меня меньше всего беспокоит, так как с возрастом человек начинает понимать и воспринимать свой собственный путь, отличный от остальных и не страдать больше от осознания этого отличия. Вероятно, это означает, что ты набрел на свою, только тебе предназначенную колею. В этом есть своеобразное успокоение духа, как будто он, наконец, действительно нашел свою дорогу.
Но это не значит, что я окончательно и бесповоротно определился в своем оставшемся будущем. Напротив, я еще не созрел для того, чтобы «пройти путь твари, которая принимает творение» (М. Бубер). Больше всего меня беспокоят вопросы нравственного характера. Человек, сведущий в мировой культуре, может предположить, что это связано с языком, на котором ведется повествование, так как общеизвестно, что русскоязычные авторы в большинстве своем тяготели к проявлениям человеческой нравственности или, лучше сказать, духовности вообще. Достаточно вспомнить таких писателей как Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, чтобы прийти к убеждению, что русский язык сам по себе производит грамматические конструкции с явно выраженной направленностью из центра субъекта и, по-видимому, весь его синтаксис ориентирован на использование в выражениях или этого внутреннего беспокойства, или в каких-то поисках самого себя в межличностном общении, что, в конечном счете, сводится к специфическому вопрошанию на темы нравственности. В истории русской философии почти нельзя найти философа, за исключением, может быть, Н.О. Лосского, который не был бы целиком поглощен страстным желанием постижения духовности человека. Понятие духовности – это еще одна отличительная черта и приверженность некоторой образованной части русскоязычного общества, если их выделять по общему восприятию истории философии, литературы и культуры в целом. Точнее сказать – это, органически присущая русскому языку, семантическая единица-понятие. Конечно, постичь духовность как таковую вряд ли возможно, но здесь имеется в виду само кредо, смысл жизни человека, неустанно ищущего и идущего в этом направлении. Чтобы не сложилось впечатление, будто все вопросы, связанные с проявлениями нравственности, или что вообще само понятие «нравственность» существует лишь в среде русского языка, я процитирую Аристотеля, человека далекой античности, для которых, как полагают, не существовало даже понятия стыда: «Кто двигается вперед в знании, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед». В дальнейшем я буду часто возвращаться к этому, так как мое последнее убеждение как раз связано с тем, что человек живет на этом свете только потому, что он каким-то образом призван к нравственному самоусовершенствованию. Но мое понимание нравственности несколько шире. В понятие нравственность я вкладываю не только те его аспекты, так или иначе возникающие в процессе взаимодействия людей друг с другом и обществом, но и любая возникающая ситуация, требующая от человека проявления его духовного облика, также может быть причислена к фактам нравственного характера. К примеру, отношение к работе и окружающей нас природе, – как одушевленной, так и безмолвной.
Все сказанное выше может быть зачеркнуто как нечто, что не соответствует правде. Это русское слово было очень популярно до сегодняшнего дня. В девятнадцатом веке славянофилы сделали его центральным понятием своей идеологии или даже идентификацией русского духа. В отличие от западной «истины», «правду» неотступно сопровождала нравственность. Если истина способна существовать независимо от человека, то русская правда не просто зависима от понимания каких-то конкретных человеческих свойств, но зависима именно по-русски понимаемых свойств, будь они и на самом деле таковыми или только желаемыми быть. Суть такова, что правда находится в частной собственности только русского человека. Поэтому я могу сказать, что моя правда не соответствует моему внутреннему пониманию должного. Дабы моя попытка объяснения того, что именно мне не нравится в написанном не превращалась в бесконечный монолог, я должен выразить это при помощи пары слов: невозможно объять необъятное. Поскольку все написанное здесь не является описанием какой-либо законченной предметной области, а является отражением постоянно текучего внутреннего состояния, то я оставляю за собой право употребления противоречивых предложений относительно одних и тех же понятий, незавершенность и человеческий оттенок которых очевиден, за исключением разве что показаний термометра. Слова сами по себе не несут какой-либо истины и очень редко могут быть наполнены смыслом. Я считаю, что мир слов и мир мыслей (истинных мыслей) находятся по разные стороны и очень редко кому-либо выпадает счастье их соединить вместе.
07.11.06. С этого дня я начинаю воплощать мое намерение в жизнь. Кому-либо покажется, что процесс письма трудно назвать жизнью. В некоторой степени это правда. Просто с недавних пор я пришел к убеждению, что письмо представляет собой вторичный способ материализации идей. Или, лучше сказать, просто другой способ, не худший и не лучший, но, может быть, более легкий. Возможно, поэтому большинство вполне нормальных и здоровых людей всегда с некоторым пренебрежением относится к тем, кто читает книжки или что-то пишет. А.П.Чехов при каждом удобном случае заставлял обнаружиться этому сарказму в словах и во всем облике типа, ехидно бросавшего слова человеку, который, при первом же взгляде на него, вовсе не казался писателем, но говорившему достаточно было того, что он чувствовал в нем свою противоположность, давно уже подавленную в себе: «…мне нужны механики, слесаря, землекопы, столяры, колодезники, а ведь все вы можете только сидеть и писать, больше ничего! Все вы писатели!». Это всегда меня раздражало, так как я, понимая их непонимания и все же чувствуя свою неоправданную виновность, не мог никому доказать, что читать или писать, такой же труд, как, например, копать картошку. Грубо говоря, они ни во что не ставят умственный труд. Даже не в этом дело. Скорее всего, они мысленно сравнивают результаты двух видов работы – с одной стороны тяжелый физический труд, а с другой – тихое бормотание в теплой и уютной комнате. В первом случае суровая действительность, а во втором – пустые мечты и игра слов. Человеку, познавшему все нелицеприятности «настоящей» жизни, трудно понять человека, для которого, наоборот, «настоящая» жизнь видится только в дебрях околокнижного мира. В данный момент ясно одно: тот, кто утверждает, как в недавние героические времена, что истинная жизнь находится где-то в гуще громыхающих новостроек или на колхозном поле, впадает в такое же заблуждение, как и тот, чьи мечты о далеких странах или страстное желание стать какой-либо знаменитостью вынесены на поверхность жизни лишь злобой дня. Местонахождение настоящей жизни никто до сих пор, к сожалению, не нашел или же еще не вычислил. Так называемое равноправие между физическим и умственным трудом, о котором говорилось в советских учебниках, по-видимому, из той же «оперы», что и научный коммунизм. Правда, в слове «равноправие» сквозит глубина, несмотря на слишком оторванную от жизни идеологию. Понятие «жизнь» почти такое же незавершенное, как и сам человек. Ни о чем нельзя судить с уверенностью, пока оно не завершено. Лишь с высоты времени процесс чей-либо жизни оформляется в нечто законченное и пропитанное изначальной осмысленностью, хотя могло быть и по-другому. Вот и относительно высказывания Ф. Кафки можно заключить, что оно существенное в самом себе, поскольку оно принадлежит именно Кафке: «Когда в моем организме прояснилось, что писание было самой продуктивной ориентацией моей натуры, все устремилось в этом направлении».
08.11.06. Сегодня вечером после работы, мы с одним «товарищем» решили пропустить по бокалу разливного пива. Это банальное во всех отношениях явление не стоит того, чтобы упоминать о нем. Но за этим кроется достаточно сильное влияние на мое состояние рабочего окружения. Моя работа заключается в каждодневном преодолении стыда. Я должен был бы по всем правилам заявить, что все написанное здесь является следствием моего жизненного пути, или, хотя бы, теперешнего трудного положения. Это верно, но в то же самое время оно неверно. Наша жизнь не может быть разделена на какие-то чуждые друг другу части, и поэтому я не вывожу нынешнее мое положение из тех жизненных неурядиц, которые выпали на мою долю, скажем, за последние полтора года. Здесь очень кстати упомянуть о книге, которая может быть названа, помимо «Книга книг», еще как «Человеческая реальность». Я имею в виду Библию. Хочу сразу предупредить, что я не отношу себя ни к какой секте, и я очень далек от того, чтобы навязывать кому-либо свое мнение. Так вот, эта Книга как будто постоянно находится в движении, в ней все так же мерещится искаженное лицо Авраама, переходящее от страха и отчаяния к смиренному спокойствию, и тысячелетия наваливаются на человека вперемежку с костями и кровью сотен и тысяч убиенных. На самом деле вся эта неимоверная разрушительная сила падает на плечи Христа, с тем, чтобы в душах людей окончательно не исчезли жалкие остатки надежды на будущую Жизнь. Каково это не потерять надежду и веру, показывает нам вся последующая и не менее кровавая история человечества. Была ли бы у нас альтернативная история, не будь Иисуса Христа? Люди в этой связи обращаются к интерпретации апокалипсиса. Как-то Мераб Мамардашвили в одном из своих книг говорил о том, что апокалипсис это не конкретное время наступления катастрофы, а что-то, что может случиться в каждый момент. Возможно, что в человеческой жизни нет никакого устойчивого промежутка. На каждом промежутке, каким бы он ни казался безоблачным, может случиться полный провал. Чтобы прийти к такому выводу, надо узнать истоки и путь человека, а это может занять другую целую жизнь. Обычно у философов, да и не только, берут одну или несколько цитат, которыми, как будто, они исчерпываются. Это говорит о том, что время жизни человека в целом ни в какие ворота не лезет. Только биографы могут всю свою жизнь посвятить описанию другой жизни. Нужно прожить достаточное время, чтобы отождествиться с другой жизнью. Для нас в данный момент достаточно того, что мы знаем начало и конец. Одним из возможных концов в интерпретации апокалипсиса Мамардашвили, является его выражение: нужно жить так, чтобы в каждую минуту быть готовым к смерти. Интересно отметить, что люди и среди них более всего философы, сравнительно легко обращаются с «вещами», смысл и настоящая суть которых кажется абсолютно невообразимой. Единственное, что есть настоящего во всем этом – это его словесная конструкция, каким-то образом доходящая до нас и заставляющая встрепенуться или наше сердце, или наше воображение. Атеисты, которые запросто могли жонглировать богами, не испытывая к ним никакого уважения и трепета, теперь уже не вызывают в нас восхищения, но к их несомненному словесному мастерству, с точки зрения нашего восприятия, теперь уже примешиваются другие вкусы и другие не менее досадные обстоятельства. М. Горький в своих воспоминаниях о Л.Н. Толстом упоминает Иисуса Христа, где он говорит о Нем как об обычном человеке и притом не самым лестным образом. Он пишет также об Г.Х. Андерсене, говоря, что он был распутным человеком, а Э. Рязанов, напротив, уже в наше время представляет его зрителю как человека крайне тяжелой судьбы и не то чтобы распутником, но и вовсе девственником. Правда, М. Горький делает акцент на его одиночестве, а это качество намного глубже сидит в человеке, подобно архетипу, и вероятно прозорливый пролетарский писатель усмотрел его в сказках Г.Х. Андерсена. Многим бы хотелось знать, что на самом деле находится за нашими словами. Х.Л. Борхес, один из тех, чья жизнь была посвящена слову и коллекционированию мыслей, с такой же легкостью мог оперировать выражениями, назначение и цель которых выходили за пределы этого мира, но, поскольку он был убежден, что за ними пустота, он, вероятно, долго не останавливался на них. Его следующее выражение, по всей видимости, импонировало ему в силу его посюсторонности и какой-то легкости для земного человека: «Для Сведенборга, как и для Беме, небо и преисподняя – это не пенитенциарное или благотворительное заведение, но состояния, свободно обретаемые человеком».
09.11.06. Сегодня я снова хотел поговорить об отличии физического труда от труда умственного. Хорошо уже то, что мы в том и в другом случае называем их разновидностями труда. Если умственный труд тоже относится к труду, то нам остается только обрести себя в этом труде, почувствовать его так же, как мы можем почувствовать в своих руках стойкое древко лопаты. Стоит заметить, что толстая мозоль на ладонях крестьянина не отдаляет его от непосредственного чувства лопаты или топора, но способствует к еще более тесному сближению. Возможно, корень проблемы заключается именно в этом: рукоятка лопаты или топор способны дать знать о себе с намного большей силой, чем владение ходом мыслей или умением к красочному письменному живописанию. В первом случае человек имеет дело непосредственно с реальностью, она присутствует здесь и сейчас, в то время как в размышлениях или письме происходит всего лишь предподготовка к встрече с реальностью. Мне кажется, что человек изначально был подготовлен, точнее, предназначен к самым суровым испытаниям. А разве можно говорить о суровости и непосильности труда, когда ты сидишь в удобном кабинете, в окружении всего того, о чем человек может только мечтать. В наше время, правда, человек сталкивается уже не с первоначальной природой, а, с так называемой, вторичной или созданной природой. С моей точки зрения сущность отношений между двумя группами людей, относящих себя к работникам физического и умственного труда соответственно, нисколько не изменилось, если не сказать, что противостояние приняло несколько иную форму. Сколько времени утекло с тех пор, когда Декарт задумывался о реальности, когда сомневался в своем собственном существовании. Но, как ни странно, уверенность в своем существовании он вывел исходя не из природы, не из ощущения холодного лезвия ножа, а почувствовав остроту своего же мышления. Это может говорить только о том, что мышление всегда первично, но эту первичность могут почувствовать лишь великие люди, в то время как остальные живут, основываясь на земном, природном чувстве.
10.11.06. Вот уже несколько дней стоит теплая погода. Для середины ноября это несколько необычно. Два дня шел снег, в течение которого земля успела покрыться снегом толщиной в пять сантиметров, а потом в течение ночи все растаяло, так как всю ночь лил дождь. Сегодня день напоминает собой начало октября, если только не смотреть на деревья. Небо и запах природы, мне кажется, несколько отстали от своего времени. В сущности, мне нравится любая погода, за исключением, пожалуй, очень сильных морозных дней. В такую погоду не согревает даже водка. Трудно себе представить, когда мороз дает о себе знать независимо от количества выпитой водки. В остальные дни, когда тебе слишком тягостно присутствие собственного сознания, закованного в твое тело, ты можешь влиться в общий дух при помощи обыкновенной жидкости. Следует сказать, что я вовсе не сторонник любителей выпить. Я могу позволить себе принять на грудь только тогда, когда есть возможность выйти на улицу. Думаю, я могу объяснить самому себе такую привычку. Во-первых, меня вовсе не тяготит одиночество, и поэтому я могу оставаться со своим сознанием наедине сколько угодно долго. Другое дело, когда приходится выходить на улицу. Там требуется совсем другая установка. Твой дух должен общаться с другими, чтобы не почувствовать себя ущербным, он должен не прятаться, а выйти навстречу. Но чтобы осуществить это, таким людям как я мешает сознание, которое слишком рассудочно, или, идеально. Идеально не в смысле совершенства, а в смысле противоположности чувственного. Водка – это то средство, которое обманывает сознание, давая возможность первобытному инстинкту приобщиться к себе подобным. Правда, я не знаю, что именно является причиной раскованности: или освобождающийся дух, или темное Оно Фрейда, вынырнувшее из глубин, пока сознание временно отвлеклось от своих обязанностей. Пожалуй, здесь уместнее было бы воспользоваться теорией К. Юнга с его коллективной бессознательностью и архетипами. Этот маленький пример показывает, сколько неточностей, противоречий и неоднозначностей содержит в себе язык. (Здесь я должен признаться, что многое из того, что написано человеком истинного, написано по-разному, но при более вдумчивом проникновении в смысл написанного выясняется, что речь идет об одном и том же. Но «истина», ради которой все это проделывается, снова приводит человека на первоначальный путь вопрошания и сомнения, за исключением тех, к кому она сама не возжелает прийти и проявить себя). Мы как будто ходим около неизвестного, неизреченного, постоянно меняющегося и пытаемся запечатлеть это нечто при помощи слов языка, о происхождении которого нам также доподлинно ничего не известно. Говорят, например, о духе времени, национальном духе и о том Духе, который задумал все наше бытие и к которому мы когда-нибудь возвратимся или что-то в этом роде. Абсолютное большинство слов и понятий остаются для человека вне поля его понимания и естественного усвоения. Особенно это касается духовного мира, где слова, обозначающие какие-то сущности и человеческая реальность, никак не увязываются в повседневность, не становятся одним связным целым. Конечно, многое зависит от контекста и в каждом новом случае одно и то же понятие вполне оправдывает свое употребление. Серьезное и вдумчивое отношение ко всякой вещи непременно избавляет от всяких неточностей и противоречий. Однако это очень не просто. Поэтому проще выпить и забыться, влиться в одно большое целое. Жизнь человечества в целом есть не только природное явление, а необходимый элемент в какой-то сложной игре. Мы смотрим на мир своими глазами и думаем, что он такой, каким мы его видим. В сущности, вся наша земная наука исходит из этого. А между тем, ни одно положение науки не копирует действительность, а принимает ее как приближенный вариант или идеализацию. В любом случае, действительность, если даже сравнивают ее с идеализацией, остается такой же идеализацией, с той лишь разницей, что она еще более усовершенствована в сторону идеализации.
11.11.06. Сегодня я уже начинаю находить в своем занятии некоторую силу трения. Это обычное явление, которое теперь уже почти не действует на меня, так как я, к счастью, прошел тот жизненный этап, когда от чувства неудовлетворенности можно забросить какое угодно занятие. То, чем я сейчас занимаюсь, можно назвать сентиментализмом, но даже это обидное для мужчины слово, кажется, не сможет сломить меня. Сейчас я попытаюсь обрисовать мое желание, то, чего я добиваюсь от самого себя. А занимаюсь я тем, чем занимается большинство пишущих людей, а именно, пытаюсь выразить в письме нечто осмысленное, чтобы получить от этого внутреннее удовлетворение, так как, прежде всего, я должен доверять своему внутреннему чувству. Об этом много писали. Приведу лишь некоторые имена: Сомерсет Моэм, Гюстаф Флобер, Андре Моруа, Грэм Грин, Стефан Цвейг, Жан-Поль Сартр и т. д. Это самые знаменитые писатели недавнего прошлого, которых непременно использовали в качестве учебного материала для подражания, их метод и манера письма выставлялся как эталон или трамплин для вновь прибывающих. Список этот можно было бы дополнить еще двумя или тремя дюжинами не менее знаменитых писателей, не говоря уже о тех писателях, которые специально занимаются исследованием писательского труда. Более того, каждый писатель найдет время, чтобы в той или иной мере, кратко, мимоходом, либо пространно и с намерением поучать, в мемуарах или в эссе запечатлеть свой опыт постижения этого «нелегкого» вида ремесла (например, из современных М. Веллер). Если допустить, что я занимаюсь работой, то эту работу я должен делать как можно лучше, довести ее до филигранности. Если я занимаюсь сельским хозяйством, то мое поле должно быть в полном убранстве, оно должно приносить мне прибыль, то есть, я должен получать к осени в несколько раз больше урожая, чем я потратил весной при посадке. Но самое главное, что не дает человеку истощиться – это развитие в себе неподдельного интереса к данному труду. Только в этом случае можно рассчитывать на развитие и процветание. В этом случае, мне кажется, даже внешние разрушающие силы не смогут сломить дух увлеченности. Это первое, и оно больше подходит для характеристики труда писателя. Труд этот зиждется не на первичной природе, а целиком рассчитан для использования в культурном слое, точнее говоря, он предназначен для промежуточного производства человеческого общества. Приведу слова Сомерсета Моэма, простой и ясный смысл которых как нельзя лучше подходят для того, чтобы прояснить ситуацию: «После долгих размышлений я решил, что мне следует стремиться к ясности, простоте и благозвучанию. Порядок, в котором перечислены эти качества, отражает степень значения, какое я им придавал». Но само собою понятно, что писать ясно, просто и благозвучно не имеет никакого смысла, если они, т. е. слова, не несут на себе стоящей мысли или художественного изображения. В этом заключается вторая проблема. Облечь мысли в красивые выражения удавалось немногим, а если удавалось, то это стоило большого труда. Известно, что А. Шопенгауэр удачно сочетал и изящество выражений, и оригинальность мыслей. Автора «Заката Европы», по словам К. Свасъяна, переполняли мысли, но он мучительно страдал от необходимости выразить все это на бумаге. Таким образом, труд человека, связанного с писательской работой должен сочетать в себе и заботу о языке, и при этом не быть голословным. Я не говорю о том, что работать в поле может каждый и в любое время, а быть или не быть писателем зависит не только от нас, но и от того, снизойдут к нам нужные мысли или нет. Вдохновение, муза, гений – это имена рождающихся симбиозов, то есть таких же людей, как и все мы, но становящихся достойными второй своей половины только в награду за бескорыстное служение тому или иному делу, где искусство выступает не самоназванием области человеческой деятельности, а качеством человека. Справедливо сказано, что гений на девяносто девять процентов состоит из изнуряющего труда и только на один процент из вдохновения, хотя здесь чувствуется некоторое смешение понятий, поскольку гений уже подразумевает в себе самую вдохновенную деятельность. Вдохновения самого по себе не бывает, оно приходит в процессе приближения к настоящему, если не сказать, истине. Вдохновение для поэта, все равно что благодать для верующего. Простому человеку то и другое представляются эфемерными понятиями, выдумками людей, далеких от насущно-земного. Но люди сведущие могут узреть во всем этом намного больше, чем просто обманчивое чувство внутреннего удовлетворения, хотя это последнее при надлежащем воспитании может стать истинным индикатором того, что человек вступил на правильный путь. Вдохновение и благодать – это каналы, через которые отдельный человеческий дух приобщается к подлинному. В таком случае, всякий труд, как физический, так и умственный принимает онтологический характер и не зависит только от превратностей социального устройства, где работа может быть понята чисто условно. Что касается вопроса о равноправии разных видов занятий, то именно он все еще привязан к социальному статусу, сохраняющему силу благодаря привязанности людей к природному. Однако, скажете вы, никто еще до сих пор не становился по собственному желанию профессиональным посудомойщиком. И будете правы. Здесь следует обратить внимание на выражение «по собственному желанию». Человек стремится к большему, даже если он по собственному желанию и вопреки нашему (моему) утверждению, все-таки решил заняться этим делом. В одном случае это может быть временным затруднением, что рано или поздно прекратится, а в другом – целенаправленной деятельностью, что предполагает, по-видимому, создание некой индустрии по качественной и быстрой мойке использованной посуды.
Уже давно говорили о человечестве как о некоем целом, как об огромном организме, впившемся в тело маленькой планеты и сосущем ее, как младенец сосет свою мать. Но пора бы уже повзрослеть и как подобает благодарному сыну, самому позаботиться о своей родительнице. О многих вещах мы рассуждаем именно так. Метафорический язык есть язык науки и в этом мало кто сомневается. Необходимо только в его употреблении соблюдать меру, не выхолащивать содержание и не превращать серьезное в юмористическое. Мне кажется, что наша современная ситуация отношения к метафорическому языку аналогична тому отношению, сообразно которому древний грек относился к своему мифологическому. Просто времена были разные. Я могу употребить выражение «социальное тело» или понятие «общество» заменить соответственно на «организм», подразумевая то же самое и сохраняя все существующие функциональные отношения, но зато взамен получая более наглядные и привычные представления о внутренних взаимосвязях различных органов. Я знаю, что общество менее совершенное образование, чем живой организм. Но знание этого дает мне как направление усовершенствования, если я какой-нибудь добросовестный чиновник, так и конструирование теоретических схем и обоснование различных выводов из них, при условии допущения, что общество и на самом деле неплохой организм. Или, напротив, я вижу всю нелепость моих предпосылок. В математике это называется доказательством от противного. Но сначала допустим, что это неплохая модель, позволяющая делать адекватные выводы. Например, один из таких желаемых выводов из представления общества в виде организма заключается в том, чтобы в каждом человеке видеть необходимый и незаменимый орган. Другой вывод может быть сформулирован следующим образом: если один орган болеет, то недомогает организм в целом, следовательно, в совершенном обществе здоровье и счастье всех зависит от здоровья и благополучия каждого в отдельности. Наконец, ни один орган не может жить изолированно от других, так как каждый из них, являясь необходимым узлом внутри целостной системы, может полноценно функционировать лишь на благо организма в целом.
Во всем этом есть доля правды, иногда такой правды, что после этого не только пропадает желание разглагольствовать о высоком призвании, но даже простая операция выкапывания картошки выглядит издевательством над всей твоей сущностью. После этого понимаешь, что блаженны животные и нищие духом, которые умилительно счастливы уже одной своей удачной попыткой подавить самое простое из немногих своих желаний. Конечно, общество, может быть, устроено примерно как организм и не обязательно в привычном нашем понимании, но ведь человек вовсе не похож на простой орган, подчиненный целиком интересам общества. Хотя многие думают именно так. И именно простые и грубые идеи наиболее востребованы не только в кругу любителей пива, но и в среде так называемых титулованных особ. Последние посредством своего цинизма и крепкой осознанностью своей правоты скорее предпочтут теорию Мальтуса на основе геометрической прогрессии, чем какие-то синергетические теории для сложноорганизованных, саморазвивающихся и нелинейных систем. Когда говорят, что призвание вырастает в ответ на социально-историческую потребность, они тем самым умаляют его ценность, хотя до этого задавались целью возвысить его до небес, до абсолютного и даже выставляли единственным в своем роде инструментом, противодействующим увеличивающейся энтропии самой Вселенной. Сейчас у нас в моде автомеханики, юристы, бухгалтеры, менеджеры, чиновники, программисты и т. п. Судьба всего мироздания в их руках. Я бы сказал, что призвание – это уютное местечко, избавляющее человека от излишних вопросов, то есть делающее его счастливым и довольным. Кроме этого, это удел тех, кто обладает нюхом, честолюбием и беспринципностью, поскольку они чувствуют и уважают только выгоду, приспосабливаясь и оккупируя самые модные профессии своего времени.
Тем не менее, нельзя отрицать того, что некоторые стороны жизни общества действительно напоминают организм. Возьмем мир профессий. Количество существующих профессий на данный момент намного меньше, чем всех работоспособных людей в пределах даже одного государства. Жизнеспособность государства определяется эффективностью и качеством различных отношений и взаимосвязей составляющих его организаций и производств. Но сейчас меня интересуют не общие и глобальные проблемы, до которых простому человеку и не дотянуться вовсе, а самые насущные, непосредственно стоящие перед каждым человеком. Человек заброшен в мир не на произвол судьбы, а скорее на произвол профессий. Как и сами единичные люди среди людей, профессии подвержены дискриминации и привилегированности. Но суть не в этом. Теперь мы допустили, что уже не люди являются органами внутри общества, а профессии, их предоставленная самой себе жизнь как данность и непреложный факт. С этой точки зрения картина выглядит так, как будто человек полностью растворяется на фоне мельтешащих и самостоятельно живущих профессий. Человек только служит своему делу, он где-то в глубине восхваляет его и молится ему, чтобы он и дальше процветал и был в моде. Как же определяется и кем, какая профессия нужна, а какая нет? Кто решает, быть ли дальше египтологу или реставратору, плотнику или электрику, уфологу или писателю, художнику или балетмейстеру и т.д.? Все эти профессии возникли когда-то давно, еще до нашего рождения. Я бы не сказал, что человек зависим от профессии, но он так или иначе оказывается выставленным перед фактом выбора того или иного вида работы. В пределах человеческой жизни и даже в течение столетий многие профессии сохраняют свою устойчивость и востребованность. Следовательно, относительно счастлив тот, кто, имея определенные наклонности, выбирает себе именно эту, уже готовую профессию. «Счастлив тот, кто устроил свое существование так, что оно соответствует особенностям его характера» (Гегель). Однако это всего лишь внешняя сторона вопроса, не затрагивающая такого высокого понятия как призвание. Проследить его происхождение и пути дальнейшего движения и развития – дело совсем иного порядка. Нам говорят, что мы должны самоотверженно служить своей профессии, своему делу и на этом как бы заканчивается наша компетенция, так как этого с лихвой хватает для отмеренного нам промежутка земной жизни. Здесь мы подошли к самой границе, где заканчивается привычное и грубое представление о профессии с ее земными корнями, и начинается совсем другая «земля», которая к настоящему времени почти не возделана. Я могу лишь говорить об этом, чувствуя истину в самом себе, но без возможности выставить ее перед другими, как выставляют стул для гостя. Мы должны быть благодарны профессии, потому что она позволяет выразить через себя нас. Профессия – это не что иное, как грань человеческого духа и способ его существования; все профессии вместе взятые воссоздают недостающие его части. Поэтому, живя в обществе, мы нуждаемся в других людях, в разнообразии других профессий, так как они дополняют и достраивают нас. Однако каждая грань в свою очередь может отражать в себе целостного духа, то есть нашу индивидуальность. Тернистый путь всякой земной жизни грубо отталкивает всякую идеализацию, не поддающуюся количественному измерению.
12.11.06. Мое положение выгодно тем, что я использую обыденный язык для передачи совсем необыденных понятий. Это могло бы называться популяризацией, если бы я, придерживаясь системы и метода, то есть согласно общепринятому некогда объему знаний и плану изложения, решил заново преподать эту область знаний на свой страх и риск, но в более облегченной, более живой, более увлекательной, более индивидуальной и может быть даже в более полной форме. Но ни того, ни другого тут нет. Некоторые писатели и ученые специально занимаются таким подвидом писательской работы. Особенно много их было в советское время, когда идеологический материализм требовал восхищения наукой, ибо кто еще более материалистичен, чем ученый муж. На поприще популяризации в советской стране преуспели многие. Художественные или романизированные биографии признанных ученых, которые к тому же успели порадеть за мир, пользовались большим спросом. О революционерах и философах, этих гигантах, на плечах которых был вынесен весь исторический и диалектический материализм и говорить нечего, их жизнь и учение всегда можно было обнаружить в библиотеках, они всегда стояли на самом видном месте. Я хочу выразить свою благодарность выдающимся переводчикам советской эпохи. Это было одно из немногих, но поистине передовых производств, способных конкурировать на всемирном рынке качества. Из профессиональных писателей, кто создавал художественные биографии ученых или их фрагменты, можно назвать Даниила Гранина, который и сам закончил политехнический институт. Следовало бы упомянуть многих искренних ученых, которые писали не в силу навязанных свыше «ответственных и почетных» поручений, а в силу своей собственной любви и уважения к тому или иному ученому. Такова, например, книга И.М. Забелина об Александре Гумбольдте, а до него В. Сафонова, чья любовь и поклонение науке во многом предопределили судьбу самого автора. Как не восхищаться Марией Складовской-Кюри, которая с мужем из пяти тонн руды добывали один грамм радия. Эта «стахановская» работа не могла быть не замечена в советской стране.
Воспоминания и мемуары тоже были в моде. Н. Бор, Э. Резерфорд, А. Эйнштейн, М. Планк, М. Борн, В. Гейзенберг, В. Паули, П. Кюри и Мария Складовская-Кюри, Э. Шредингер, Л. де Бройль, Э. Ферми, П. Дирак, Р. Фейнман и многие другие известные физики – самые частые имена в книгах воспоминаний «случайных» очевидцев, встречавшихся и общавшихся с ними, работавших когда-то вместе (как, например П. Капица). Конечно, нельзя не сказать и о переводной литературе, которая хотя и восполняла недостающее, но только дозволенное. К таковым относятся, например, произведения Ирвинга Стоуна, в частности его романизированная биография Ч. Дарвина.
Мариэтта Шагинян и Галина Серебрякова писали о самых почитаемых вождях и идолах коммунистической идеологии. Первая писала о самом человечном человеке В.И. Ленине, а вторая – о К. Марксе, почти боге. В большой трилогии «Прометей», где чувствуется настоящий дух европейской жизни того времени, герой пожертвовал всем, что он мог бы получить от общества, не будучи так сострадательным к нуждам простых людей и имея такие выдающиеся способности (что на самом деле подвигло его на эту стезю, лучше справляться у более беспристрастных его биографах, например, у Ф. Меринга). Он мог бы стать министром. Богатство и титулованность его жены могли открыть перед ним любые двери и дать полный простор для безмятежной и плодотворной умственной работы. Наконец, его любила одна из самых красивых женщин, какие только можно себе представить, которая к тому же была умной и преданной до невозможности, что подтверждает вся их дальнейшая, полная горя и лишений жизнь. Здесь же присутствует его верный друг и соратник Ф. Энгельс, который в такой же мере пренебрег всеми преимуществами положения фабриканта ради своих идей и убеждений. Но Энгельсу все-таки пришлось много лет и против своей воли провести на фабрике, пожертвовав время своей жизни другу, а через него и той грядущей цели, которая должна была преобразовать человечество.
Можно еще упомянуть Стефана Продева, художественно воссоздавшего жизнь молодого Ф. Энгельса, еще до знаменательной, но уже предрешенной встречи с его будущим другом и единомышленником. Из многочисленных работ советских авторов, всегда отличавшихся «серьезностью», работа Н.И. Лапина о молодом К. Марксе несколько выходит за рамки, представляя собой соединение слегка художественного и научного.
Что касается воспоминаний современников, писем и переписок К. Маркса и Ф. Энгельса со своими близкими, с другими известными революционерами и, конечно же, между собой, то их было более чем достаточно.
Если говорить о стиле письма, то мне особенно нравится стиль Ф. Энгельса. Когда-то они были и моими кумирами. Временами я поныне перечитываю многие из их работ. Я уж не говорю о том, как советская действительность исказила наиболее существенные моменты их теории, и как однажды самая утопичная утопия, получив шанс стать реальностью, на протяжении многих десятилетий не укреплялась, а самым безответственным и порочным образом убивалась «на корню» (по-моему, это было любимым выражением политработников, судя по кинофильмам).
Настоящим идеологом и зачинателем популяризации в советскую эпоху был Я.И. Перельман. Отсюда и пошла вся последующая увлеченность ученых всех мастей и направлений выставлением своей и смежных областей знания в доступной форме перед так называемыми широкими слоями населения. Среди этой литературы встречались истинно красивые вещи. «Жизнь растения» К.А. Тимирязева – настоящий шедевр, написанный знаменитым ученым. Признанным мастером популяризации был не менее известный ученый А.Е. Ферсман.
Отдельно стоят имена корифеев, не только выдающихся писателей, но одновременно и тех, про которых говорят, что они – ум, честь и совесть эпохи. Я поставлю в этот ряд, по меньшей мере, четыре имени: Ромен Роллан, Стефан Цвейг, Андре Моруа, Томас Манн.
13-16.11.06. Что касается температуры, то она уже неделю не опускается ниже нуля. Погода стоит безветренная и лежит немного снега. Он успевает за день подтаять настолько же, насколько нападает. Стоит еще раз возвратиться к осмыслению того, что мы называем физическим и умственным трудами и так часто упоминаемыми и замечаемыми отличиями между ними. Поскольку я уже определился для себя с внутренним содержанием, с сутью профессии или, как у нас говорят, дела, то в дальнейшем я уже буду говорить и описывать только внешние ее проявления, феномены ее земной жизни. Физический труд в большинстве своем всегда направлен на неодушевленный предмет и результат этого труда, как правило, предназначен для удовлетворения плоти. Каменщик строит дома, чтобы в них жить; столяр делает стулья и столы, чтобы на них и за ними можно было сидеть. Однако так ли это на самом деле, то есть, удовлетворяем ли мы только плоть, имея перед собой продукт физического труда? Можно назвать много профессий, где важно удовлетворить потребности человека не материально, а делая приятное его душе. В наше время вещи не только должны быть удобными для нашего тела, что вполне естественно, но в них, кроме этого, должен присутствовать некий дух, отпечаток чьей-то души, стиль и вкус мастера, сумевшего запечатлеть саму красоту. Поэтому в пределе, стремящемуся к идеалу, трудно назвать профессию, где бы наблюдался явный переход от труда физического к труду умственному. На самом деле мы имеем социальное разделение людей, выполняющих в одном случае грубую и грязную работу с использованием исключительно мускульной силы, а в другом – все прочие, мускульная работа которых не превышает силы, необходимой для приподымания ручки и нажимания кнопки. Писательское ремесло в этом отношении находится довольно далеко от центра схождения противоборствующих сил, потому что в работе писателя перо и бумага имеют ничтожно малое значение. Исписанная бумага для потребности тела может быть использована в самую последнюю очередь, когда, например, все остальные предметы мира каким-то образом исчезнут с лица земли. Но это не главное. Главное то, что истинно писательская работа как бы вовсе выставляется за скобки. Она не участвует в дележе социальных приоритетов. Она не может быть ни модной, ни полностью отвергаемой. Она относится к категории терпимых и позволяемых, она есть некий излишек. Но, честно говоря, это такой излишек, ради которого делается всякая работа – и грязная, и нудная.
Наблюдается интересное явление: тот, кто имеет дело с физическими предметами, стремится угодить душе человека, а тот, кто непосредственно работает для удовлетворения души, в конечном счете, управляет телом человека. Красивые вещи мы покупаем, руководствуясь велениями нашего сердца, наших чувств, помыслов и надежд. Покупая вещи, мы исходим либо из приобретенных нами вкусов, либо из знания каких-либо сведений о данных вещах. Прочитав ту или иную книгу, мы стараемся поступать в соответствии с понравившейся нам идеей или мыслью. Мы начинаем обустраивать нашу телесную жизнь, строить свое окружение, беря стимул от полученного нами общего образования и воспитания, реальное содержание которых мы также почерпнули из прочитанных нами книг, добрых слов и примерного поведения людей, достойных подражания. Поэтому говорят, что наше тело есть выражение нашей души.
17.11.06. Каждый день преподносит нам сюрпризы, абсолютно не считаясь с нашими желаниями. Мы ходим под солнцем уже много тысяч лет, но человека никогда не покидает мысль о бренности и абсолютной беззащитности человеческого существа. За все эти миллионы лет Земле было достаточно встретиться с каким-нибудь астероидом или одним из любых миллионов подобных причин, чтобы человеческая и любая другая жизнь перестали существовать. Разумная жизнь, зависящая от простой концентрации кислорода в атмосфере планеты, – что еще может быть менее устойчивой во всей Вселенной. Кажется весьма несимметричным такое положение дел, когда с одной стороны простейший химический состав, поддерживающий человеческую жизнь, а с другой – столько потрачено человеческой силы, физической и душевной, чтобы построить всю земную цивилизацию, со всей ее культурой, техникой и страстями. На этом фоне неустойчивости кажется ничтожно незначительной все эти человеческие игры в любовь и ненависть. Великий Кант говорил, что только крайности придают миру его цену, лишь средний уровень устойчивость. Чтобы человек стал разумным, требуется большое горе; чтобы люди стали ценить друг друга, требуется вторжение инопланетян. Во всем этом есть большая доля истины и, наверное, именно она представляет собой ту реальность, перед которой человеку остается только преклонить колени. Именно от человека исходит смертельная угроза, но никак не от окружающей природы. Природа слепа и пассивна, в то время как человек активно претворяет свою агрессию в жизнь. Люди считают, что человек должен быть сильным, точно в таком же смысле, как понимается значение силы в мире животных. Они считают, что выживает сильнейший. Более того, они на самом деле полагают, что не только выживает, но и должен выживать. Поэтому они считают, что некоторые люди, не имеющие никаких агрессивных качеств, должны не иметь потомства. Я это говорю потому, что сам непосредственно слышал такое из разговоров между людьми с хорошим достатком и хорошо устроившимися. Я не придаю этому большого значения, хотя сам с этой точкой зрения ни в коем случае не согласен. Люди в своей жизни на девяносто девять процентов тратят себя на такие дела, ценность которых, в истинном смысле этого слова, исчезающе мала. Я бы очень хотел сказать, что бы я делал в своей жизни, чтобы она не превратилась в гонку под названием «не отстать от сильнейшего». С помощью слов этого не выразить, потому что уже завтра жизнь начнет «смеяться» над тобой и твоими словами. Единственное место, где это выражено словами, наперекор смеющейся жизни, – это Библия. Как я уже сказал выше, в этой Книге жизнь не застыла в мгновении, но как будто время вплелось в нее. Люди все еще отождествляют физическую жизнь и физическую силу с самой Жизнью, хотя всем известно, что физическая сила человека не идет ни в какое сравнение в борьбе хотя бы с самыми ничтожными силами природы. Но зато они отлично знают, какой физической угрозы следует опасаться и с какой стороны ее ждать.
18.11.06. Что ни говори, но материальный мир каждый день доказывает свою силу. Человек пытается противостоять ей в своих мыслях, а по существу в своих чувствах, тешит себя надеждой в их значении, но суровость и безразличие внешнего мира предстает перед ним как каменная стена. Хорошо тому, кто уверовал в это, кто стал верным служителем мира сего. Можно даже позавидовать такому человеку, для которого существующий мир идет навстречу. Иногда приходит мысль, что настоящая истина на его стороне, а нам, идеалистам, остается жить, довольствуюсь химерами. Спрашивается, где найти аргументы в защиту того, что и твоя жизнь имеет право на существование. Я знаю, что жизнь идеалиста не лишена смысла. Это я попытаюсь сейчас высказать. Первое и основное, на что нужно обращать внимание – это честность и полное изживание себя в мысли. Никогда не следует врать самому себе, что ты делаешь какое-то дело хорошо, если на самом деле чувствуешь неудовлетворенность своей работой. Это касается любого дела: и физического, и умственного. Работа в полсилы, может быть, и сохраняет человеческое тело и здоровье, но разрушает душу. Поэтому человек свою работу должен делать до последнего изнеможения. Что касается мыслительной работы, то здесь особенно нужна тщательность и сноровка, потому что, как я уже говорил, «уловить» мысль не то же самое, что почувствовать крепость рукоятки лопаты. Мысль должна вырываться изнутри с кровью, только так можно почувствовать ее силу и правдивость. Выражение «философствовать молотом» относят к Фридриху Ницше. Теперь, что касается физической работы, которую принято считать «настоящей» или «истинной» работой, потому что эта работа «от мира сего», а все остальное может считаться случайным приобретением, случайно привставшим к человеческому обществу. Во-первых, нужно сказать, что работа сама по себе, безотносительно к человеческому обществу не существует. Значение и ценность работы всецело зависит от потребностей общества, – от меры его развития, от моды времени, от всевозможных катаклизмов, будь то войны или стихийные бедствия и т. д. То, что работа никогда не выступает как нечто, что идет с основания бытия, представляет для человека величайшую трагедию. Из-за этого он чувствует бренность своего существования, бессмысленность и бесполезность всего того, что им создано, ибо в один прекрасный день все это может разрушиться до основания. Когда он наблюдает за животными, которые из года в год проделывают одну и ту же операцию, когда пчелы или муравьи с бессмысленной настойчивостью восстанавливают свою прежнюю работу, разрушенную случайными прохожими, то перед человеком непременно появляется картина трагедии Сизифа, над которым смеются безжалостные боги. Но эта боль усиливается еще больше, когда он приходит к мысли, что все наши стремления и наша работа объясняются таким же проявлением инстинкта, каковое мы видим на примере наших братьев меньших. Действительно, ни один здоровый человек не задумывается и не приходит в отчаяние от осознания бесполезности своего существования, он живет потому, что в нем заложен определенный запас энергии и пока этот запас не будет исчерпан, он будет цепляться за жизнь. И лишь некоторые, по словам психиатров, нездоровые психически, кончают жизнь самоубийством или слишком часто задумываются о смысле своей жизни (не все так думают, чему является подтверждением высказывания В. Франкла). Даже животные способны на самоубийство и этот пример только подтверждает наше родство с ними. Но самый большой и значимый аргумент в пользу того, что мы такая же естественная часть Природы, как и животные и растения, дает наука – та самая наука, за которой в жизни современного человека последнее и решающее слово и это слово не Бог, а Природа и Инстинкт. Спрашивается, откуда же мы должны находить душевные силы и восполнять нашу волю к жизни, если мы осознаем бессмысленность нашей жизни. Большинство людей живет за счет заложенных с рождения биологических сил, особенно это касается молодых. За удовольствие прожитой жизни они платят временем, которое с каждым днем кто-то тщательно высчитывает с нашей «кредитной карточки». Когда человеческая кровь начинает стареть, физические удовольствия сменяются удовольствиями духовными, созданными не природой, а обществом. Кто-то начинает поддерживать свою жизнь верой, кто-то искусством, кто-то заботой о детях и т. д. Но основная сила, движущая человеком, всегда остается в области физического мира. Так называемые инстинкт к жизни и страх перед смертью до самого конца не оставляют человека. Таким образом, цель человеческой жизни тоже покоится на могучих волнах физического предначертания и по мере его бурления движется в том направлении, которое, как нам кажется, соответствует нашему призванию.
19-26.11.06. Если наука познает окружающий мир, то что же познает философия? В науке, если она хочет двигаться вперед, должно быть все однозначно: термины, понятия, представления и язык. Если представить себе идеальное развитие науки, то ученые в конце концов должны превратиться в муравьев или в элементарные частицы, которые, как они говорят, тождественны друг другу. По-другому, они должны превратиться в саму природу, которая познает саму себя, то есть быть тождественным самому себе. Такое явление я называю замещением в человеке индивидуальной духовности духовностью социальной. Начиная примерно с Огюста Конта, философию начали сравнивать с наукой, предъявляя к ней такие же требования, какие выдерживала наука. С этого времени философию начали считать бесполезной, так как она не может произвести на этот свет истину, поскольку философий и соответствующих ей истин было много и это противоречило тому, что истина должна быть единой и общепринятой.
Сегодня прекрасный солнечный день с температурой в минус четырнадцать по Цельсию. Дней пять погода держалась такой же приятной, но намного более теплой. На улице уже достаточно снега, чтобы почувствовать полную свежесть зимней природы. По телевизору говорили, что декабрь будет холоднее, чем январь и февраль, а в марте наступит ранняя весна. Вот на такой приятной ноте мы и начнем наше невеселое повествование. Природа вложила в нас много разных способностей и в том числе способность получать удовольствие от работы. Само собою разумеется, что это удовольствие идет от каких-то внутренних психофизиологических источников. Если мы решили, что человек целиком и полностью является продуктом естественной истории развития животного мира, то мы не можем найти никаких других источников и причин для возникновения в человеке даже самых возвышенных стремлений, мыслей и чувств. Современная наука полагает, что это самая надежная на сегодняшний день информация или факт, которым можно доверять и на которые можно положиться. Итак, мы пытаемся выяснить, имеет ли какой-либо вид деятельности более привилегированное положение, чем какой-либо другой по самой своей природе, безотносительно к различного рода условностям. Мы можем допустить, что и рабочий, и крестьянин, и служащий, и писатель находятся в равных условиях, с равными шансами на успех, если только человеку нравится его дело. Конечно, могут возразить, что работа писателя самая творческая, а работа остальных, если и не тяжелая физически, но монотонная. Зато писатель не сможет прожить, если он не найдет покупателя. Остальные профессии гарантируют стабильность, хотя она может быть и минимальной. Все это, впрочем, не суть важно. Возможно, меня просто-напросто беспокоит мнение толпы или, как ее еще называют, народа. Начиная заново писать, я снова мучаюсь вопросом о реальности. Я знаю, я слабый человек, потому что я боюсь, что мне скажут, что все, что я здесь написал, является словоблудием. Это унизительное слово пугает меня. Есть такой афоризм, что слово калечит больнее, чем рана, нанесенная мечом. То есть, я хотел бы этим сказать, что реальность слова, пустого звука, не менее сильна и правдоподобна, чем реальность кирпича. Но все равно мне от этого не легче, ведь с помощью слова дом не построишь. Я пытаюсь самому себе доказать, что я могу сделать что-то значительное, в чем уже никто не сможет упрекнуть меня. Я знаю, у меня просто нет сил кому-либо доказать, что все, что считается сегодня приемлемым, в такой же мере является условным, как и то, что с таким пренебрежением отвергается. Самой главной жертвой в наше время выступает философия. Ее обвиняют во всех смертных грехах, ее ни во что не ставят, ее отвергают все, кому ни лень – от бомжа до академика. Все, что считается не настоящим, называют литературой, а философия среди этой литературы занимает последнее место по значимости, потому что писатель, если ему повезет, может хорошо зарабатывать, а философ всегда останется в изгнании, так как философия это и не литература, и не наука. У нее нет опоры в земной жизни. Она получает свои идеи и мысли из потустороннего мира, и туда же устремляется с помощью человека, на которого она случайно может снизойти.
Я уже как то говорил о своей установке на сущность профессии или даже призвания. Но теперь вопрос этот поворачивается и предстает перед нами со стороны, где у него самое острое ребро. Да, я забыл реальность, я взял из этого неимоверно тяжелого только схему, может быть даже только лишь воображаемую. Реальность предполагает несовершенное общество и далеко не идеальных людей. Та сторона вопроса, которая еще позволяла говорить о равноправии физического и умственного труда, теперь выглядит, по сравнению с этой, лишь иллюзией. Мы имеем дело с материальным миром, с необходимостью поддерживать свое тело, с правами и обязанностями, со справедливостью и угнетением, с любовью и ненавистью, с нравственностью и пороками. В общем и целом это называется обычной жизнью. Если в груде движущихся камней в качестве истинно реального мы выделяем только лишь физические законы, то в среде людей, на уровне конкретного человека, этого никак не сделаешь, поскольку придется ждать, пока человек не закончит свою жизнь. Хотя общество и имеет большую власть над человеком, но все равно, какая бы гнетущая или, наоборот, освобождающая она ни была, она в любом случае остается лишь внешней по отношению к нему. Человек, в конечном счете, предоставлен только себе и времени. Если он борется за справедливость, как ,допустим, боролись или Томас Мюнцер, или Жорж Дантон, или К. Маркс и Ф. Энгельс, или Махатма Ганди, или Мартин Лютер Кинг, или наш еще не завершенный современник – они все делали свое непосредственное дело, пришедшее к ним в процессе их личной жизни. Они не занимались им частично, между делом, но в этом они были целиком. Они несли в себе свое предназначение, свою судьбу. Это мы уже можем сказать. А вот относительно самих себя, живущих и не завершенных, никто не отважится вынести окончательный приговор. Мы думаем, что у нас всегда есть выбор и мы обладаем свободой воли. Перед нами необозримый простор, каким бы узким он на самом деле не оказался. Мы заблуждаемся относительно общества, думая, что оно становится гуманнее и разумнее, что оно вбирает в себя опыт прошлых роковых ошибок. Но общество – это мы, наши мысли и чувства, наши отношения к себе и другим, наши убеждения и поступки. Простые и понятные заповеди христианства и любой другой религии не смогли до сих пор искоренить человеческую жадность и корыстолюбие, являющиеся и поныне основными движущими силами любого общества. Наука и техника не касаются внутреннего человека. Более того, они только усугубляют разрыв внешнего и внутреннего, превознося первое и подчиняя ему второе. В таком обществе человек превращается в средство, в безликий член коллектива, в лабораторный инструмент.
Такому индивидуалисту как я трудно найти место для других людей, связать себя с ними необходимыми узами, чтобы они вошли в мое миропонимание. Я до сих пор не вижу путей для истинно насущного объединения. Может быть любовь? Конечно, любовь! Но я, к сожалению, еще не дорос до этого. Вот и представьте себе, какого это взрастить в себе любовь не только к своим родным, но и ко всякому человеку. Вот поэтому намного легче соизмерять себя с внешней точки зрения, иметь отношения с людьми посредством предметов и договоренностей. Но одинокий человек в любом случае оказывается в пустоте, не будь рядом с ним людей, к которым он мог бы направить или свою душевную теплоту, или мастерство своих рук. Вот как описывает Мишель Турнье свое воображаемое житие на безлюдном острове: «Теперь я знаю, что каждый человек носит в себе – как, впрочем, и над собою – хрупкое и сложное нагромождение привычек, ответов, рефлексов, механизмов, забот, мечтаний и пристрастий, которые формируются в юности и непрерывно меняются под влиянием постоянного общения с себе подобными. Лишенный живительных соков этого общения, цветок души хиреет и умирает. Другие люди – вот опора моего существования… Я каждодневно оцениваю то, чем был им обязан, замечая все новые и новые трещины в здании, называемом «душа»».
«Мое видение острова – вещь, замкнутая на самое себя. Все то, чего я не наблюдаю здесь, является абсолютной неизвестностью. Повсюду, где меня сейчас нет, царит беспросветная тьма. Впрочем, я констатирую, что этот беспрецедентный опыт, который пытаются зафиксировать данные строки, самою своею сутью противоречат написанным словам. И в самом деле: речь зарождается главным образом в том обитаемом универсуме, где окружающие тебя люди – словно испускающие свет маяки, где благодаря этому свету все если не знакомо, то хотя бы узнаваемо. Сияние огней маяков погасло для меня. Питаемые моею фантазией, их отсветы еще долго не умирали во мраке, но нынче – конец, тьма восторжествовала.
Вдобавок мое одиночество убивает не только смысл вещей и явлений. Оно угрожает самому их существованию. Меня все чаще и чаще мучат сомнения в истинности моих пяти чувств. Теперь мне известно, что земля, по которой ступают мои ноги, нуждается в том, чтобы и другие попирали ее, иначе она начнет колебаться подо мной» (Мишель Турнье Пятница Санкт-Петербург АМФОРА, 1999, стр. 60-61).
Вот и работа, а с нею и профессия оказываются тесно связанными с наличием других людей, точнее, того общества, которое позволяет существовать тому или иному виду занятий. Занявшись работой на необитаемом острове, Мишель Турнье пришел к выводу: «Сберегать, хранить!.. Слова эти вновь напомнили мне все убожество одинокого моего житья! Сеять для меня – благо, собирать урожай – благо. Но горе мне в тот миг, как я примусь молоть зерно и печь хлеб, ибо тогда я буду трудиться для себя одного. Американский колонист может без всяких угрызений совести доводить до конца процесс хлебопечения: ведь он продает свой хлеб, а деньги, за него вырученные, сложит в сундук, где они воплотят в себе затраченное время и труд» (Мишель Турнье Пятница Санкт-Петербург АМФОРА, 1999, стр. 68).
Я не хочу ставить на этом точку, ибо в человеческой жизни она ставится в самую последнюю очередь, на границе, отделяющей наш трудный временной мир от мира неизведанного. Кроме того, если мысли проистекают из другого мира, они сами лишь ощупывают этот мир, оставляя нам место и время для самостоятельного освоения его. Свобода и реальность в нас самих – вот истинное наше основание. Ситуация Робинзона Крузо – это не объективная реальность физического мира, налагающего на нас непреодолимые ограничения, а духовный факт из жизни Даниеля Дефо или – заново осмыслившего его – Мишеля Турнье.
06.12.06. Сегодня я могу показать свое истинное лицо. Я не только не выполнил своего обещания писать каждый день, но прожил эти дни так, как мне и не представлялось в самом начале. Я всегда знал, что в жизни происходит так, как будто кто-то подшучивает над нами. А как же воля и нравственность, спросят другие. По правде говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Во-первых, я сам никогда не доходил до такой жизни. Самое большее, меня хватало на несколько дней, и поэтому я не могу сказать ничего определенного по поводу силы воли и последствий нравственной жизни. Во-вторых, я чувствую полное бессилие исправить в своей жизни что-либо, не потеряв при этом самого ценного или, точнее сказать, я попросту упираюсь в глухую стену своего собственного бессилия. Это всего лишь мои чувства, их слепая, но все же искренняя с их точки зрения жизнь. А что лежит в их основании – об этом я пока умолчу, как молчит провинившийся школьник. На первый взгляд, кажется, очень просто состряпать себе вполне сносный день, два дня и т.д. Но потом вдруг выясняется, что где-то произошел обрыв или сбой, отбрасывающий тебя назад с полной конфискацией когда-то добытого с большим трудом. Тебе оставляют только воспоминания, как пищу для твоей же совести. Я полагаю, что именно в этом заключается глубокий смысл терпимости и смирения. Мы не можем экстраполировать свою жизнь в будущее даже хотя бы на секунду. Будущее не в нашей власти. Но в таком случае, нам неподвластно и настоящее, поскольку будущее складывается из песчинок настоящего времени. Наша реальная жизнь, что бы это ни означало, состоит из множества связей, происхождение и протекание которых мы не можем ни предвидеть, ни проконтролировать. Если жизнь общества и его устройство подчинены определенному порядку и протекают более или менее согласованно с идеей закона, то и жизнь отдельного индивида может быть направлена в какое-то русло. Но если устройство этого общества состоит в том, чтобы постоянно отрицать это устройство, то и в жизни каждого отдельного индивида не может быть никакой устойчивой стези. Россия как раз принадлежит к одному из множеств таких государственных устройств, где редко бывает стабильного течения времени. Вот в этом и состоит особый путь России, а именно: искать то, чего никогда не было и не будет. Русское понимание нравственности отличается от западного понимания тем, что в России нравственность ищут, а на Западе следуют ей. Только в России больше всего говорят о терпимости и смирении, поскольку каждый русский человек чувствует присутствие этой неопределенности и хаоса и поэтому он не так строг к недостаткам и погрешностям в жизни другого человека, так как он понимает, что то же самое может случиться с ним самим. Я здесь говорю исключительно об отдельном человеке, а не об обществе в целом, хотя они в своих существенных чертах подобны друг другу. В этой глупой снисходительности к российскому менталитету кроется большая опасность, она как-то проглотила целиком Вальтера Шубарта и не его одного.
07-12.12.06. Что касается погоды, то она у нас совсем не соответствует тому представлению, какое сложилось о природе России в зимние месяцы. Э. Распе от лица своего Мюнхгаузена говорил о том, что в России по улицам бегают медведи и волки, а снега столько, что даже церковные купола засыпаны им по самые кресты. Так вот я вам скажу, что уже две недели температура воздуха прочно стоит на отметке выше нуля. Говоря литературным языком можно сказать: вдруг в декабре земля обнажилась. Таким образом, судя по словам метеорологов, в январе будет еще теплее, чем сейчас, во что, однако, никак не верится. Когда они говорили о том, что декабрь будет холоднее, чем январь, они, по-видимому, вовсе не предполагали, что в декабре будет плюс пять, а в январе, например, плюс десять. Оставим в покое гидрометеоцентр, так как мы уже все знаем, что у природы нет плохой погоды и, что самое важное, к этому нужно относиться с терпением и принимать ее (плохую погоду), если мы не в силах изменить это явление.
08-14.12.06. Температура не меняется. Меняюсь ли я? Да, меняюсь. Как насчет человека и его претензий на бессмертие. Не слишком ли это большая наглость с его стороны. Мы можем смеяться над самим собой и своими нескромными мечтами, зачем-то заложенными в нас природой. Я отнюдь не первый, кто задумывается над этим. Сколько существует человечество, столько же времени возникают трудные вопросы. Что постоянного в этом мире? Конечно же, изменения и трудности. Это своеобразные потолки для человека, выше которых может быть только небытие.
16.12.06. Выпало немного снега, а температура плюс два. Для декабря это необычно. Говорят, в новый год будет минус тридцать два. Поживем, увидим. Меня сейчас волнует понятие силы воли. Интересно было бы знать, какова была сила воли у А. Шопенгауэра. Я знаю, жизнь у него была не легкой, можно даже сказать не очень счастливой. Можно ли жить по плану, составленному с большим умом, то есть я хочу сказать с большой тщательностью и заведомо разумный. Я говорю можно, но очень трудно придерживаться таково плана в реальной жизни. По-моему, трудность бытия представляет собой самую ощутимую реальность, ее надо принять как неизбежное. Когда мы говорим о трудности, то наши доводы, которые призваны подтвердить наши слова, заполняют наше внутреннее пространство целиком, не оставляя внутри нас места для надежды и радости. Мы не можем одновременно смеяться и плакать, быть наполовину счастливыми и наполовину печальными. Но так ли это? История и свидетельства людей показывают, что это не так. Любая трудность не может до конца вытеснить в человеке надежду на преодоление этой трудности. Более того, человека надо определять или понимать в том смысле, в какой пропорции трудность и счастье могут уживаться в нем, не разрушая его человеческой природы. Странное дело, в обычных условиях, когда на улице светит солнце, когда тебе и твоим близким не угрожает видимая опасность, человеку достаточно услышать обидное слово, чтобы он весь заплылся гневом. Он, должно быть, не был подготовлен к этому. Говорят, он изнежился. Мы не можем жалеть о том, что привыкаем к хорошему, что наша жизнь не похожа на жизнь полярного исследователя. Трудности, выпавшие на долю Ф. Нансена, Р. Амундсена, Р. Скотта и других первопроходцев были выбраны ими самими и хотя эти трудности не сравнить с неудобствами совместного проживания в коммуналке, но для человека из этой обстановки мир все равно видится только в заунывном цвете. Может быть, он и воодушевляет себя, что ему не приходится замерзать с книжкой в руках и что он не узник концлагеря, но он не может постоянно думать об этом. Его жизненные силы не соперничают с трудностями такого же масштаба, с которыми приходилось сталкиваться Ф. Нансену или Р. Скотту, но, по иронии судьбы, внутренняя пропорция счастья и горя у этих совершенно разных людей могут быть равными, за исключением Р. Скотта, который не вернулся домой. Должно быть, у человека внутренний объем «жизненного мира» автоматически регулируется, и чтобы эти душевные фибры не одрябли, их следует постоянно держать в напряжении, ставя перед собой трудные задачи.
17.12.06. По-моему, моя затея с каждодневными записями выродилась в пустое занятие. Я, наверное, потерял предмет, суть того, о чем хотел писать. Карл Поппер говорил, что всякое дело начинается с проблемы. Тогда получается, я подсел на псевдопроблему или потерял первоначальную нить. Я могу закончить сегодняшнее обязательство под тем предлогом, что мне нездоровится, я чувствую упадок сил.
18.12.06. День сегодня начался с трудом, так как я не выспался. После того как я проводил сына в школу, мне пришлось наверстать упущенное. В 11 часов позвонили с работы, пригласили на елку. Дальше, если не говорить о фактах, а о чувствах, пошло не очень гладко, но в общем привычно. День закончился благополучно, но в душе осталось огромное пятно досады. Сегодня я с полным правом мог бы обратиться к самому себе и спросить с восклицательным знаком: «Чему, в самом деле, могли бы еще научить новые десять лет такого человека, если это не удалость сделать предыдущим десяти годам!» (Ф. Ницше).
19.12.06. Сегодня день рождения моего сына. Ему исполнилось 8 лет. Я должен сегодняшний день вести себя благоразумно. Это слово «благоразумие» мне очень нравится. С этим словом ассоциируются мой отец и моя бабушка по отцу. Есть много людей, которые не пьют и как будто трезвы каждый день, но до благоразумия им так же далеко, как до Луны. Вспоминая свою прошлую жизнь, иногда хочется раствориться, а решимость изменить ее в сторону благоразумия, иногда не выходит за пределы желания.
20.12.06. На улице по-прежнему не холодно (минус шесть) и теперь уже есть небольшой слой снега, который сохраняет зимнее ощущение свежести. А вот мне трудно сохранять внутреннее равновесие. Периоды подъема сменяются полной апатией и упадком сил, когда я с трудом удерживаю себя от искусственного способа взбудоражить свою вялотекущую кровь. Но я знаю, что это всего лишь кратковременное явление и я даже знаю, как можно прийти к успеху в борьбе с самим собой. Нужно только потерпеть как минимум месяц, вырабатывая у себя привычку к каждодневной и регулярной работе. Дальнейшее может пойти по принципу снежного кома, все время увеличиваясь и увлекая за собой все большее и большее количество предметов. В принципе, все это я хорошо знаю, более того, уверен в успешном исходе дела, но я иногда не уверен в целесообразности всего этого. Ведь можно всю жизнь пытаться в совершенстве овладеть каким-нибудь музыкальным инструментом, но от этого не будет проку, если человек лишен музыкального слуха. Хороший пример: есть такие люди, которых называют графоманами, но, тем не менее, они не становятся ни Бальзаками, ни Толстыми, ни Диккенсами. Мне это не грозит, поскольку я с трудом заставляю себя написать хотя бы несколько строк. Этого, я думаю, достаточно на сегодня.
02.01.07. Вот и наступил Новый год. Новый виток жизни начинается как будто хорошо, без видимых глупостей и происшествий. Мое внутреннее состояние тоже удовлетворительно, поскольку я решил в этом году подвести итоги своей жизни. Но удовлетворенность чувствуется не из-за того, что я решил, а из-за того, что во мне появилось чувство решимости делать то, что я задумал. Держать себя в форме и не поддаваться искушениям плоти – это, я думаю, хорошее начало. Мне скоро стукнет сорок лет, и если я не преуспею ни в каком деле, то это уже будет говорить само за себя. Даже если я ни в чем не найду себя, это ровным счетом ничего не изменит в общем процессе жизни. Я буду влачить свое существование до какого-то предначертанного конца. Но я не должен такое говорить, в этом проявляется губительное свойство релятивистского мышления. Я должен верить самому себе, значит, я должен строить самого себя в соответствии с моими собственными мыслями. А мысли у меня, должен сказать, не просто оптимистические, а нравственно-конструктивистские. Это означает, что я верю в рост и прогресс, идущие рука об руку с укреплением духа, а может быть и тела, хотя отчет времени пошел не в мою пользу.
Кстати говоря, температура в новогоднюю ночь действительно снизилась до двадцати пяти градусов, а сегодня уже ноль. Снега много и будет весьма плачевно, если все это опять превратится в лужу. В такую погоду хорошо пить пиво. Но я не умею ограничивать себя одной кружкой, точнее сказать, пластиковым стаканом, а без продолжения я не вижу в пьянстве никакого смысла.
18.01.07. Я не смог сдержать слова. В такой ситуации обычно говорят следующее: ничего не поделаешь, жизнь продолжается. В данный момент сильно болею от похмелья, но бывает намного хуже. Сейчас я только сообразил, что поставил не ту дату, потому что сегодня крещение, 19 января. Мое состояние не из приятных. Сколько я говорил себе, что не стоит повторять одни и те же ошибки, но, как видно, безрезультатно. Вероятнее всего, во мне мало веры, хотя я не могу с этим согласиться. Может, не хватает силы воли? С этим я тоже не согласен. Скорее всего, я думаю, это происходит от того, или связано с тем явлением, о котором говорил А. Дж. Тойнби. Я это понимаю интуитивно. Приходит Время, и завладевает человеком. Иногда я думаю, что у человека нет ничего, кроме того, что он дан, что он просто, без всякой причины присутствует в этом мире. Причину, цель, извилистый путь свой и просто сам факт своего присутствия в этом мире ему не понять. Должен сказать об этой пресловутой температуре окружающего мира – она до сих пор не опускается ниже нуля. Некоторые ругают погоду так же, как если бы они ругали маленького ребенка за непослушание. Это выглядит даже не смешно, а чрезвычайно глупо. Если они, то есть мы, и я среди них в большей степени, не в силах изменить в себе самом к лучшему ни одну молекулу своего существа, точнее сказать не-существа, то что говорить об атмосферных явлениях. С одной стороны жизнь держится как будто только благодаря существованию постоянностей и устойчивости, а с другой – я не вижу нигде того, за что можно было бы удержаться и держаться так мертвой хваткой.
20.01.01. Сегодня я уже, конечно же, оклемался. Вчера ночью я посмотрел фильм с Николь Кидман, который назывался «Другие». Потрясающий фильм. Обычно по ночам показывают хорошие фильмы. Когда-то также на меня произвело очень сильное впечатление фильм под названием «Мотылек» и, наверное, еще и другие. Идеи, если они затрагивают тебя, долго остаются в качестве мотивов для поступка и тем более для размышлений. Во вчерашнем фильме с невероятной силой обострена тема реальности, которая с недавних пор стала моим излюбленным объектом влечения. В последнее время, вообще говоря, эта тема стала всеобщей. Во всех выдающихся фильмах, так или иначе, реальность и стремление ее понять или интерпретировать, выступила с невероятной силой. Но конец у всех интерпретаций одинаков – человеку этого не осилить. Поэтому остается глубокая горечь или бездонная досада. Но у человека всегда есть последняя надежда или последняя пуля, припасенная для случая безвыходного положения – это смерть. Я здесь имею в виду не самоубийство, а то, что в любом случае, при всех наших неудачах и разочарованиях, мы с неумолимой неизбежностью придем к тому, что сможет поставить все на свои места. Думаю, что в этой жизни, как бы это ни было банально, все решает обыкновенное здоровье. Человек всю свою жизнь стремится к познанию основ, но никогда не приходит к полному соприкосновению с ними. Его всегда отделяет промежуток, пространство, или пропасть, по ту сторону которой живут так называемые идеи реальности или сама реальность. Температура на улице плюс пять.
26.01.01. Как видно, я провалил операцию. Стал писать так редко, что даже мой первоначальный замысел потерял свою актуальность. Но я пока не сдаюсь. Я все еще лелею мечту, которую так восхитительно выразила Аделаида Анна Проктер: мы всегда можем стать теми, какими бы хотели стать. Эта великолепная мысль поддерживает меня в трудные минуты, когда в очередной раз приходится горько сожалеть о том, что все могло бы быть совсем по-другому. Сейчас я подумал: как хорошо писать непринужденно, не оглядываясь на то, что тебя не так поймут или здесь написано неудачно. Обычно легкость письма теряется, когда человек пишет для других и мысленно контролирует себя, боясь, как бы не нарушить каноны. Лучше всего, всегда нужно делать и работать только на себя, судить только по своим меркам и по своим вкусам. То есть нужно писать так, как будто ты ведешь дневник. Правда, это позволительно, если твое невежество осознает саму себя. Полностью от него не избавиться никогда, но ты можешь почувствовать радость от того, что ты не испугался своей собственной глупости, а продолжаешь грести. Достигает успеха тот, кто становится самим собой. Если всю жизнь оглядываться на других и бояться противоречить авторитетам, то, я думаю, вся жизнь может пройти в попытках понравиться кому-нибудь. Вот еще одна великая мысль, принадлежащая Канту: имей мужество пользоваться собственным умом. По причине недомогания, я на этом заканчиваю. На улице прекрасная погода, падает пушистый снег, а температура минус семь, как в Швейцарии.
27.01.01. По большому счету, мы все делаем только для себя. Даже любим для того, чтобы подольше сохранить объект любви, который либо возбуждает дремлющие в нас чувства, либо сам приносит и одаривает нас лавиной своей симпатии. Слова не призваны быть точными, они оцениваются по смыслу, охватывающему некоторую область. Люди общаются друг с другом при помощи слов, но если их смысловые области не имеют общих точек соприкосновения, они просто не поймут друг друга. Возвращаясь к тому, о чем я говорил выше, а именно к вопросу о реальности, я мог бы сказать, что слова соприкасаются с реальностью, может быть, в меньшей степени, чем руки человека. В Библии написано, что человек должен будет в поте лица своего добывать хлеб свой насущный. Обычно потеют от физической работы, и кто-то еще сказал, что человек должен пахнуть потом. Я хочу привести здесь слова О. Бальзака, взятые из книги Андре Моруа «Прометей, или жизнь Бальзака». В самом начале своих литературных «проб и ошибок», в письме к своей сестре, он писал: «Ах, сестра, как мучительна оборотная сторона славы! Черт побери, да здравствуют лавочники!.. Вот счастливцы! Впрочем, нет, они всю жизнь проводят, торгую мылом и швейцарским сыром! В таком случае долой лавочников! Да здравствуют литераторы»! Это как нельзя лучше характеризует двусмысленное положение, когда сомневаешься, что же ближе к истине: или жизнь, близко соприкасающаяся с материальным миром, или же жизнь опосредованная. Откуда же нам знать, что непосредственно, а что опосредованно?
03.02.07. В конце концов, приходится остановиться на чем-либо одном. Либо ты сочиняешь, либо становишься лавочником. Конечно, здесь скажут: не всякий лавочник может стать Бальзаком и наоборот. Бальзак пробовал стать издателем, но не получилось. Это не означает, что он не смог бы стать каким-нибудь коммерсантом. Скорее всего, дело здесь в другом. Его история развития больше подходила и больше подводила его к писательству. Его мысли и тело многие годы, частичка за частичкой, строили тот путь, который вел к одной цели. Чтобы стать лавочником, надо было вытравить из себя все надежды и все пути, которые могли еще навести на прежнюю стезю. Издателем на короткое время его сделал случай, временные трудности, временные колебания. Как знать, этот промежуток, может быть, еще больше подвинул его к первоначальному занятию, к первоначальной цели его жизни. Говоря об этом, можно обойтись без понятия предопределенности, потому что это предполагает наше намерение докопаться до основ. Но человеку не дано познать дно и познать небеса. Он может барахтаться где-то посередине и иногда тешить себя надеждой, что ему удалось увидеть дно, надежную опору. Это всего лишь самообман.
17.02.07. Я в полной мере доказал свою несостоятельность как человека, не способного справиться со своими пагубными привычками. Я бы сказал лучше, что я меньше времени уделяю работе и самоорганизации, чем всему тому, без чего можно обойтись. Я не могу вырваться из этого заколдованного круга. Сейчас мне захотелось было сказать, что бытовые или житейские обстоятельства сильнее меня. На это можно ответить словами некоего человека, который сказал, что неудачники (или вроде этого) жалуются на обстоятельства, а люди успешные преодолевают их. По-моему, смысл его высказывания именно таков. Но еще кто-то сказал следующее: если трудности меня не убили, то тем самым они сделали меня еще сильнее. Сколько бы мы ни говорили, нам не станет лучше. Слова, которые ты говоришь самому себе, не приносят особой пользы, так как они не подкреплены какими-нибудь весомыми фактами или делами. Бумажные деньги без золотого фонда – суть кусочки тщательно обрисованной бумаги. Когда ты вертишься по замкнутому кругу, усеянному одними голыми словами, тогда ты рискуешь сойти с ума. Слова человека должны подкрепляться действиями этого же человека, или его слова должны быть восприняты другими людьми, для того чтобы через них претворяться в действие.
12.03.07. Я давно уже забыл о своих фенологических наблюдениях. Скажу лишь, что зима была достаточно теплая, не в пример предыдущим годам. Она была не только теплая, но и приятно теплая. Такая зима особенно подходит людям, которые ведут здоровый образ жизни. Можно было ходить на лыжах, бегать или просто прогуливаться пешком. Наступившая весна еще более радует глаз. Мягкие солнечные дни сопровождают март уже с самого начала. Иногда падал медленный и пушистый снег, покрывая все кругом обворожительно нежным пухом.
Такова прелюдия. Говорят, что чувства субъективны, но можно ли предположить, что когда светит солнце, один воспринимает это как солнечную погоду, а другому кажется слишком пасмурно. Конечно же, нет. Солнце всегда воспринимается как солнце, если только человек здоров в общечеловеческом смысле этого слова. Другое дело, нравится ли тебе, когда светит солнце или, напротив, по душе пасмурный с моросящим дождем осенний день.
21.03.07. Иногда кажется, что ты пересыхаешь как колодец и чтобы снова появились силы, подобно воде в колодце, необходимо передохнуть. Это состояние можно описывать или на языке отдыха, то есть впитывания в себя или питательных веществ, или новых идей, или же на языке времени. Можно сказать, что для того чтобы появились новые силы, необходимо переждать, необходимо, чтобы протекло какое-то количество времени. Но это одно и то же. Правда, первый вариант более содержателен. Нельзя исключать также то, что при других обстоятельств язык времени может стать намного более проницательным и дальновидным.
19.04.07. Как видно, расстояния между отрывками все более и более увеличиваются. Говорить о том, чтобы писать каждый день уже не приходится. На самом деле получается, что я пишу примерно один раз в месяц и то лишь маленький кусочек. Я уже смирился с этим, так как взамен я получил кое какие пояснения насчет самого себя. Это – смирение через понимание. Обо всем, что ценно для меня или могло быть ценным, я уже писал для себя самого много лет тому назад. Прискорбно, что все это оставалось на словах. Я ограничивался первой стадией, без необходимой для этого дела практической завершенностью. Мой дух рождался нежизнеспособным. Теперь, накануне критического возраста, я почувствовал некоторые силы в себе, способные удержать меня от глупых поступков. Но было бы лучше, если бы я почувствовал в себе силы, которые смогли бы подвигнуть меня на какие-либо смелые и стоящие того предприятия. А то, что я понял, можно объяснить иссяканием сил, как это можно видеть на примере стариков и особенно старух, которые к концу жизни буквально метут своими подолами пороги церквей. Вряд ли хоть одна из них в молодости заходила в церковь. Но следует сказать, что многие в то же время несмотря ни на что остаются в прежнем состоянии и это состояние более чем желало бы изменения к лучшему. Поэтому, если не лукавить самому себе, мне очень повезло, что я понял, и самое главное, обрел в себе силы к тому, чтобы противостоять дальнейшему скатыванию по наклонной плоскости. Во мне смирилась глупая гордость, но в то же самое время я почувствовал некоторую обреченность, связанную как с моими недостатками, так и невозможностью извлечения из жизни в обществе тех естественных благ, которые были бы возможны, если бы не мои фатальные недостатки.
