Пламя преисподней. Путешествие по загробному миру
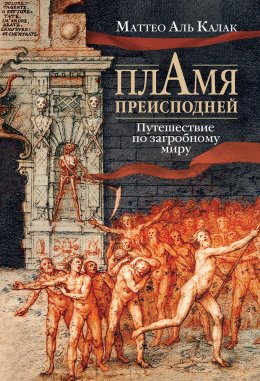
Matteo Al Kalak
Fuoco E FIAMMEStoria e Geografia dell’inferno
Опубликовано при посредничестве ELKOST International literary agency
Перевод с итальянского Оксаны Вроны
© Giulio Einaudi editore s.p.a., 2024
© Врона О. Х., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство Азбука», 2025 КоЛибри®
Аббревиатуры
BCJ – De Backer A., Sommervogel C. Bibliothèque des ecrivains de la Compagnie de Jésus. Bruxelles: Schepens, затем Paris: Picard, Liège: Grandmont-Donders, 1853–1876.
BS – Bibliotheca sanctorum. Roma: Istituto Giovanni XXIII della Pontificia
CCC – Катехизис католической церкви, www.vatican.va/archive/catechism _it/index_it.htm (1992).
DBI – Dizionario Biografico degli Italiani. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960–2020.
DBI – Dictionnaire de théologie catholique, Paris: Letouzey et Ané, 1902–1950.
Minois – Minois G. Histoire des enfers. Paris: Fayard, 1991.
Vorgrimler – Vorgrimler H. Storia dell’inferno. Bologna: Odoya, 2010
Библейские сокращения
Деян. Деяния апостолов
Откр. Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)
Быт. Бытие
Ин. Евангелие от Иоанна
Ис. Книга пророка Исаии
Лк. Евангелие от Луки
Мк. Евангелие от Марка
Мф. Евангелие от Матфея
2 Пет. Второе послание Петра
Пс. Псалмы
1 Цар. Первая книга Царств
Прем. Книга премудрости Соломона
Сир. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова
Чтобы облегчить чтение в переписанных текстах и заголовках старинных книг, осовременено использование заглавных и строчных букв и пунктуации, интервокальный u заменен на v. В некоторых случаях адаптированы разбивка слов и система ударений.
Предисловие. Преисподняя в Сибири
В Сибири мало чем можно заняться. Бо́льшую часть года температуры низкие, часто и запредельные, а короткое лето дает жителям передышку лишь на несколько недель. Ее 13 миллионов квадратных километров скрывают несметные богатства сырьевых материалов, которые извлекаются на поверхность благодаря человеческой изобретательности. Однажды в некоем месте команда русских инженеров начала бурить и выкопала очень глубокий колодец. Там они наткнулись на неизвестную пещеру. Горнорабочие решили исследовать ее подробнее: они прикрепили к буру специальный микрофон и различные датчики. Результат всех ошеломил. Были записаны странные крики, а температура достигала 1000 °C. Не было никаких сомнений, что эта смена нашла преисподнюю.
Вероятно, 12-километровый колодец, который был выкопан советскими людьми на Кольском полуострове (не в Сибири) в 1989 году вдохновил на создание этой истории; однако в реальности для нее не было никаких оснований. Тем не менее те, кто ищет что-нибудь о колодце в ад, все еще находят многочисленные сайты и каналы, не в последнюю очередь среди пятидесятнических американских и европейских церквей, где эта информация подается как достоверная. Именно оттуда берутся доказательства существования преисподней и возникают различные ее варианты (колодец в Сахаре, как в фильме «Ужас на глубине 9 миль» (Nine Miles Down); или на Аляске, где Сатана лично убивает некоторых шахтеров, которые нарушили границы его царства), и все это уносится энциклопедическими потоками третьего тысячелетия (для тех, кто захочет послушать эти стенания, есть также записи на YouTube) [1]. Но интересен вовсе не тот факт, что эта история, хотя и чистая выдумка, более-менее основана на реальности, а то, что для многих она вполне достоверна. Иными словами, много таких, кто полагает, что можно копать и найти впадину, где грешники обречены на разные пытки и мучения.
С этого и начинается наша книга. С того обиталища, которое (почти) всегда сопровождало историю человечества и в котором концентрировались его глубочайшие страхи: преисподняя. По следам несуществующих сибирских горняков попытаемся проследить ее материальность, пространственное измерение, поскольку, как увидим, именно на них зиждется повествование, длящееся тысячелетия, которое закреплено в ментальных и эмоциональных структурах людей.
При исследовании был применен метод истории культуры, пытающийся примирить между собой различные области и языки, чтобы воссоздать общую отчетливую и многообразную картину. Хотя подобный подход позволяет продемонстрировать невероятное культурное богатство, но в то же время навязывает выбор, который необходимо учитывать, чтобы ориентироваться в столь скользкой теме.
Главный вопрос, который предстояло решить, заключался в том, какой подход принять в отношении элемента, структурно переплетенного в эталонной традиции (христианство) с темой ада: зло и его персонификация. Возможно ли отделить анализ края вечного проклятия от сущности (индивидуальной или фактической), благодаря которой он был создан? На следующих страницах попытаемся, насколько возможно, разделять эти два элемента, отделяя понятие ада от «биографии» его властелина (ангела, восставшего против своего создателя, которому присваиваются разные имена: Сатана, Люцифер, дьявол и т. д.). Как потому, что существу, воплощающему зло, были посвящены бесчисленные исследования, так и потому, что разделение греха и наказания, преступления и приговора позволяет сделать акцент на различных его чертах, которые со временем стали вести автономную, хотя и взаимосвязанную жизнь.
В действительности есть две полярности, с которыми приходится считаться. С одной стороны, линия Сатаны. Исключительная и уникальная история существа, восставшего против Божьего порядка и поэтому бесконечно несчастного, гневного и злобного: и человек входит в подобную игру в той же степени, в какой его грехопадение ухудшает и увеличивает вызов дьявола Божественной воле. При этом, если можно так выразиться, он не является или не обязательно является главным действующим лицом. С другой стороны, само создание преисподней: хотя еще предстоит установить, было ли царство зла задумано для человека или, что наиболее вероятно, он там всего лишь «нежеланный» постоялец, стоит отметить, что сосредоточиться на месте истязания означает привлечь внимание к осужденным, к их мучительному опыту, и в конечном итоге к значению этого наказания по отношению к личности и ее жизни.
В силу этого необходимо различать эти плоскости, что позволяет с точностью выяснить границы проблемы и не пасть жертвой отношения, которое, со многих точек зрения, считается генетическим. По сложившейся традиции царство зла родилось вследствие выбора Сатаны (наряду с Богом): акт мятежа и его наказание посредством создания физической локации как части единого сюжета, и поэтому они неразрывно связаны. Преисподняя была создана по причине или в предвидении мятежа Люцифера, и вследствие его действий грех вошел в мир. Ад привлекает человека из-за его испорченной природы и благодаря искушению самим дьяволом, таким образом, присутствие души в загробном заточении оправдывается только в связи с бунтарским и злодейским замыслом демона. В то же время правда и то, что locus inferni живет независимой от своего властелина жизнью и становится инструментом, обладающим узнаваемостью и идентичностью (и то же самое можно сказать про дьявола).
Эту двойственность довольно-таки легко увидеть также в историографических дискуссиях, которые уделяли внимание то одному, то другому компоненту, демонстрируя тем самым потенциально двунаправленный путь.
В последние десятилетия развиваются многообразные по восприятию и перспективам пути исследования темы преисподней. Если ограничиться наиболее важными отрывками, то первенство получат исследования Жоржа Минуа, который воссоздал длинную историю ада (или лучше во множественном числе «адов») и одновременно его самого знаменитого жителя – дьявола (следует отметить, что эти два понятия различаются) [2]. Работа Минуа о царстве зла нарисована как фреска о постоянстве и изменениях места, вобравшего в себя страхи великих цивилизаций, в которых оно появилось (histoire des variations[1]), вплоть до самых современных тенденций: от народных представлений до психоанализа. Если оставаться в кругу французов, то можно похвастаться авторитетнейшими именами: Жак Ле Гофф, Жан Делюмо, Филипп Арьес и т. д. [3]; странствия души после смерти входили в круг интересов Клода Кароззи, который серьезно занимался потусторонней географией в эпоху Средневековья с историко-литературной точки зрения [4]. В подобных исследованиях преобладает социокультурное представление, не лишенное методологических достижений других дисциплин (антропология и социология in primis) и находящееся в постоянном диалоге с изменением исследуемых обществ.
Другой ключевой термин для обсуждения был предложен немецкоязычной традицией, которая, в основном сохраняя теологический подход, исследовала формирование изобразительного ряда и верований об аде: наряду с исторической трактовкой Петера Динцельбахера средневековых представлений о загробном мире выделяется фундаментальный труд Герберта Форгримлера, который описал эволюцию места проклятия от ветхозаветных времен до современности [5]. В диалоге с Минуа и традицией школы «Анналов» Форгримлер провел исследование концепций ада с особым акцентом на доктринальных последствиях его существования и его отражении на христианских церквях и их догматических установках. Будучи выразителем великого возвращения эсхатологической тематики в теологии XX века [6], Форгримлер провел изыскание, по своей структуре и хронологическому изложению аналогичное тому, которое проделал Минуа, однако он поставил себя в более выраженные теоретические рамки, ориентированные на определение теологических задач.
Многие ученые из англосаксонской среды, которые занимались различными аспектами темного царства, казалось, руководствовались другими вопросами, по крайней мере отчасти. Основной целью было выявить культурные и мифологические корни преисподней с почти позитивистским намерением освободить человечество от невыносимого и ужасающего понятия. Например, такова цель произведения, в котором Барт Эрман использовал библейскую экзегезу, особенно новозаветную, чтобы подчеркнуть противоречия и эволюцию иудео-христианского ада с целью показать его становление, а затем и радикальное изменение в библейском каноне (согласно теории Эрмана, христианский ад не совпадает с тем, в который верил Иисус, и еще меньше с оригинальными концепциями Ветхого Завета) [7]. Другие работы способствовали широкому прочтению понятия загробного мира. В этом направлении опубликованы сочинения Джона Кейси и Филиппа Алмонда: в них отдается предпочтение всесторонним описаниям, в которых ад растворяется в более широкой концепции afterlife с сильной привязкой к поискам ответа на дилеммы беспокойной современности [8]. А затем решающий вклад в изучение личности властителя ада был внесен самим дьяволом и посвященной ему монументальной работой Джеффри Бертона Рассела. Вырисовывается практический путь утверждения фигуры Сатаны и его медленная трансформация во времени (и конфессиях) при смене эпох и восприятия [9].
Наконец, если говорить об итальянских произведениях, следует отметить, что исследования направились по особому пути, во многом благодаря Пьеро Кампорези, внимательному наблюдателю культурной и религиозной динамики Средних веков и современности. Его работы, которые подтвердили конец преисподней и одиночное выживание дьявола в качестве «короля в изгнании», останавливались на различных воплощениях ада и продемонстрировали переплетения и связи с другими символами западного католицизма (в том числе Евхаристии) и его модулирующую ценность для художников и писателей [10]. Многочисленные исследования были посвящены иконографии, особенно яркой образной средневековой вселенной, в которой, по недавнему утверждению Андреа Гамберини, ад понемногу угасал и съеживался, чтобы освободить место для менее ужасающего зрелища Страшного суда [11]. Стоит упомянуть также монографию Кьяры Франческини о лимбе за ее систематичность и завершенность [12] и вклад Туллио Грегори в пространственное измерение священного и загробного мира средневекового Запада [13].
Невозможно утверждать, что мы исчерпывающе рассмотрели все те многочисленные произведения, которые программно или per incidens затрагивают тему ада, учитывая, что те продолжают находить такую питательную среду, как загробная жизнь, в уязвимости, обнажающейся после катастроф и пандемий и возникающих из-за них страхов [14]. Скорее наша цель – в диалоге с такой внушительной библиографией – понять, к какому аду мы направляемся, как начертить осмысленный путь в этом густом лесу побуждений и призывов.
Начнем с устойчивой и неизбежной тени «Божественной комедии» Данте. В ходе анализа было умышленно опущено систематическое сопоставление с прототипом Данте, чтобы выделить другие источники, которые повлияли на представления о вечном наказании. Хотя мы не будем ни заниматься Данте, ни исследовать его судьбу, очевидно, как сильно ад, о котором мы будем говорить, повлиял на конструкцию, созданную поэтом: пространство, появившееся после падения Люцифера в глубокой древности; место в глубинах Земли, которое после контакта с мятежным ангелом образовало полость в девять концентрических кругов, постепенно сужающихся по мере погружения ко дну. Все организовано согласно геометрии, в которой пространственное измерение соответствует моральному – геометрии, происходящей от «Этики» Аристотеля, переосмысленной средневековой теологией. Чем выше, то есть ближе к земной поверхности, тем незначительнее и зауряднее грех; чем ниже спускаешься, тем тяжелее вина, которую нужно вечно искупать. Налагаемые наказания следуют закону возмездия, который устанавливает связь подобия или противоположности между грехом и положенным за него наказанием (сластолюбцы погружаются в бесконечный шторм, как в жизни были захвачены своими страстями; гадалки идут глядя назад, поскольку в течение жизни хотели предвидеть будущее, и т. д.). В дантовой модели ад дополняется чистилищем, состоящем из земли, которая когда-то наполняла потустороннюю бездну: накопившись в южном полушарии, она представляет собой круглую гору, окруженную водой. Здесь души поднимаются по ступеням, пока не достигнут эмпирея, где смогут насладиться вечной наградой.
Следование подобной модели загробного мира сколь запоминающегося, столь и громоздкого, вместе с исключительной фигурой поэта могло бы ввести в заблуждение на пути, который мы намеревались описать, учитывая также, что, как уже упоминалось, в периферийных обществах влияние «Комедии» было не настолько велико, как можно было подумать [15].
Есть и второй вопрос, который затрагивает в особенности иконографию, – огромное количество образных и символических изображений Страшного суда. Как было сказано, Средние века были усеяны предостережениями о последнем призыве Христа-судьи в час, когда «пойдут сии в му́ку вечную, а праведники в жизнь вечную»[2] [16]. По причинам, которые нет необходимости объяснять, эта тема предоставила живописцам, художникам и всем их заказчикам возможность придать форму преисподней в момент, когда демоны безжалостно раскрыли пасти, а Божьи ангелы направляют избранных к долгожданной награде. Здесь мы бы предпочли не рассматривать подобную иконографию, которая вынудила бы нас расширить тему за пределы царства тьмы, открывая такие сюжеты, для которых она всего лишь один из элементов. Подобным же образом были рассмотрены трактаты о Страшном суде – о четырех последних истинах: смерти, суде, рае и аде, ограничившись выявлением полезных сведений, чтобы определить отличительные черты исследуемого объекта, дабы не сбивать читателя с главного пути.
Третья степень сложности определяется желанием отделить тему ада от темы дьявола: выбор, о котором мы недавно уже говорили, вынуждает нас держать в стороне или только затронуть довольно значительные вопросы: от комплексного развития демонологии, которая существенно продвинулась в современную эпоху, до проблемы одержимости дьяволом (частично связанной с предыдущей), вплоть до практик экзорцизма [17].
Наконец, чтобы остаться в рамках, которые позволят избежать слишком глубокого погружения в теологические диспуты, мы обратились ко множеству источников, посредством которых можно было установить конкретное, если можно так выразиться, ежедневное отклонение, случившееся с понятием ада. Наряду с культовыми произведениями и благочестивой литературой, столь дорогой сердцу дона Джузеппе Де Луки [18], были добавлены малые и большие эпизоды аллегорических изображений, взятых из живописи, скульптуры и из того мощного выразительного средства, коим является гравюра. Мы настаиваем не только на присутствии различных дополняющих регистров в жизни тех, кто думал (или кому предлагали подумать) об аде, но и на взаимодействии между письменным текстом и картинками – «документами политической или религиозной истории» с любой точки зрения [19], между устным творчеством и исполнительским, речитативным или музыкальным искусством, которые часто были частью единого процесса, чтобы доступно донести тонкости доктрины [20].
Таким образом, мы столкнулись с трактатами, сборниками проповедей, текстами размышлений, благочестивыми упражнениями, катехизисами, ораториями, кантатами, поэмами, космологическими и астрономическими сочинениями, научными текстами, алтарными картинами, фресками, картинами и гравюрами с полным осознанием, что каждый из этих материалов потребовал бы профессиональной компетентности, которая, конечно же, превышает способности одного автора, но в то же время верно, что единственным способом погрузиться во внутренний ландшафт преисподней было пристально вглядеться как в целую картину, так и в его остаточные следы. Царство Божьего наказания питалось словами, звуками и цветами, которые активизировали все людские способности от интеллекта до чувств и требовали сложных описаний.
Наконец, этот множественный ад, всесторонне рассмотренный и различно воспринимаемый, необходимо было вписать в контекст времени и пространства. Его центр был определен в оживленную эпоху «мучительного и навязчивого влечения-отталкивания» к царству зла, каким было Новое время (XVI–XVIII вв.) [21]. Этот период воспринимали как активного и преобразующего наследника Средних веков, когда ад подробно исследовался, поэтому в первой главе мы попытались создать краткое соединение, иллюстрирующее, как теологическое наследие Средних веков возродилось и «обновилось» в свете новых требований католицизма Контрреформации, который во многом впитал, сформировал и адаптировал его.
Как нам доведется показать, исследуемый период составляет переходный этап между неукоснительным, почти схематичным порядком в дни Данте, о которых уже шла речь, и современностью, которая стремится понимать царство зла как внутреннее состояние души, состояние разобщения и в более общем плане строго субъективное страдание, вызванное добровольным отлучением от Бога и последствиями этого.
В пересечении этих двух миров Новое время видит преодоление древнего образа преисподней, но без упразднения фонового порядка: происходит немеханическое соединение между ним и таинственными действиями Бога, обладающими такими свойствами, как пропорциональность или различная интенсивность наказания в зависимости от греха, за который оно дается. Поэтому наличие такого критерия возмездия – это и защита, и поддержка основного признака Божьего суда. Таким же образом ад по-прежнему необходим как часть более обширной системы. Хаотичное или организованное, царство тьмы сохраняет и должно сохранять свое место в структуре, где оно располагается в середине мироздания: ад остается несущей колонной (и геометрически сердцем) вселенской архитектуры, где зло и добро составляют две полярности, в том числе не только духовные. Мир современного человека еще не готов отделить вселенную от места вечного проклятия и именно поэтому не может оставить его в неуправляемом беспорядке ни внутри, ни снаружи [22].
Другое дело, когда мы обращаемся к современности, которой посвящена последняя глава. В этом случае Новое время служит пробным камнем, terminus post quem для оценки глубокого разлома начиная с XVIII века между западными обществами и христианскими укладом, в котором они возникли. Таким образом появляются элементы разрыва (и параллельно мечтание о «невозможном восстановлении») [23] с прошлым и разрушение ада, который, несмотря ни на что, продолжает выживать под чужим именем.
Хронология исследования приобретает сравнительную ценность по аналогии и при сопоставлении: представления об аде, созданные после Тридентского собора (1545–1563), соответствуя средневековой версии, придали ей новую форму и ретроспективно (то есть на основе недавних разработок) стали причиной полемики, а также синтезом системы преодоленных (по-видимому) верований и более чем спорным способом передачи веры. С помощью такого обзора возможно понять, по Кроче, что еще живо, а что умерло в преисподней, иначе говоря, те культурные, религиозные и антропологические структуры, для которых она была и до сих пор является катализатором.
В связи с этим нетрудно заметить, как под поверхностью повествования всплывает еще одна тематика, связанная с самой концепцией современности: отношения между наукой и верой, распространение познавательного прогресса на широкие народные массы. С продвижением истины о космосе и земной геологии, все более освобожденной от церковной опеки, в действительности отодвинулись непрочные и скользкие границы между догмой и суеверием. И это случилось не только благодаря противникам религиозной мысли, но благодаря действию сторонников более открытого и обновленного христианства, менее враждебного разуму, куда входили совершенно различные люди: от англиканских полемистов и хранителей лютеранской правоверности до янсенистов-католиков. С течением времени сами церковные власти свидетельствовали, насколько переменчивыми могут быть границы суеверий, вплоть до «понижения» до неуместных (или прямо-таки вредных!) фантазий и убеждений, которые раньше считались наследием веры.
Что касается географии, избранные примеры которой мы предоставили, в основном они взяты из Италии. Как было сделано в другой работе [24], мы использовали их здесь из-за их исследовательской ценности, где католицизм благодаря близости к папству мог пробовать различные модели и подходы к теме ада, а затем распространять их на более широкую аудиторию. Однако эта ориентированность не помешала включить в исследования европейские обсуждения, в которых Италия была всего лишь одной из частей. Тогда они оказываются встроены в оживленнейший контекст, например английский, эхо которого дошло даже до Рима, немецкий, то есть в отношения с германской территорией – страной импорта и экспорта католического ада, или во французский, то есть в тревоги французской культуры, особенно между XVIII и XIX веками. В этой навигации внутри и за пределами границ Полуострова ожидаемая помощь пришла от религиозных орденов, в особенности иезуитов, чей транснациональный характер облегчил распространение и постоянное переосмысление конструкций царства зла.
Само собой разумеется, что основное внимание будет уделено католичеству, хотя использованные источники позволяют выбрать дискуссии, которые заинтересуют другие христианские конфессии, от англиканской церкви до протестантских конфессий. Не обойдемся и без набегов на еврейскую культуру, что приведет нас к созданию европейской панорамы между Италией, Голландией и Польшей.
Внутри заданных координат эта книга воспринимается как исследование, погружение в негостеприимные уголки таинственного грота: подобный выбор нацелен на исследование с критический точки зрения различных компонентов адской архитектуры с систематическим подходом, который, подражая восприятию современного человека, помогает понять его видение и мыслительные категории.
Отправной точкой послужит возникновение царства тьмы: миф о его создании, проанализированный в первой главе, представляет собой связующее звено между концепциями, разработанными в Новое время, и древнейшей историей, конечно, дохристианской, которую можно только изобразить в общих чертах. Мы намереваемся уловить те сложные и часто незамеченные остаточные следы языков, мифов и легенд, которые возвращают нас к самим истокам средиземноморской цивилизации. Это единственный момент, когда князь ада неизбежно занимает сцену, будучи не только господином, но и прежде всего причиной для существования locus horribilis. Только установив, как и почему ад начал существовать, можно приступить к его характеристикам. Воскресим в памяти длинную дискуссию о форме царства зла, его внутренней структуре и его месте во вселенной (глава 2); затем разъясним точки и способы, которые, согласно мнению экспертов, предоставляли доступ к месту вечного проклятия (глава 3), и укажем многих героев – от Иисуса до его последователей, которые по различным причинам могли отправиться в загробный мир и вернуться из него (глава 4).
Перейдя через порог преисподней, рассмотрим ее топографические характеристики: огромная пропасть, в которой находятся речные системы, озера, моря, ледники, скалы, более-менее связанные подземные ходы, фауна, флора и метеорологические условия (глава 5). Все в этой среде пребывания каталогизировано и определено с изобретательной вольностью или нередко с предполагаемой истинностью, чтобы создать энциклопедию ужасов, которые дополняются психологическим измерением грешников. Отдельная глава посвящена именно им, исследованию их чувств, боли, им причиняемой, пыток, предназначенных им в наказание; мы рассмотрим pendant состояние демонов, их мучителей и одновременно жертв Божьего суда (глава 6).
Затем понаблюдаем и проанализируем темноту подземного царства с его равновесием и его жителями в связи с обществом живых: ад как зеркало мира, как низвержение реальности, как момент критики политических противников и тех, кто ставит под вопрос сохранение души (глава 7).
Исследование завершается на эволюции царства тьмы в современную эпоху (глава 8). Как было указано, с эпохи Просвещения вечное проклятие и домостроительство, которое его питало, стали предметом едкой критики, нацеленной на разрушение верований, признанных архаичными, иррациональными и ошибочными. Процесс секуляризации довершил это дело, подорвав влияние религиозной мысли на европейское общество. Тем не менее вместо того, чтобы задаться вопросами, как и где ад пребывал последние два века (частично мы это сделаем), движение по хронологии станет поводом проанализировать более личную сущность царства проклятых и его отношения с ликом Божьим. Мы обнаружим, как ад говорит, конечно же, о зле и грехе, но в то же время о Божественной доброте и ее границах.
Чтобы отправиться в это путешествие, мы иногда упрощали язык, прекрасно понимая, что за каждым определением стоит расслоение и семантическое богатство, которое не так-то просто кратко описать. Князь ада, фигура, связанная с зарождением и управлением краем вечного проклятия, будет бесстрастно называться Сатаной, демоном, дьяволом, Люцифером, властелином тьмы (и другими именами, предоставленными источниками), таким же образом преисподняя будет описываться как место вечного проклятия, ад, царство зла, Геенна и т. д. [25], всегда предлагаемое в его «расширенном» значении – том, которое разделяют люди Средневековья и современности, как совокупность лимба (детей и патриархов), чистилища и ада проклятых. Тем, кому хватит терпения погрузиться в бездну зла, нужно взять с собой этот словарь.
А вместе с ним мужество сибирских горняков.
I. В начале
1. Война на небесах
«Знамена веют царские», – писал в VI веке Венанций Фортунат. Прославляя реликвию креста, к которому был пригвожден Христос, поэт превозносил высочайшую и неразгаданную царственность, в которой слава Иисуса, приговоренного к смерти, проявилась на лобном месте, где он был распят. Однако этот инструмент спасения мог бы изменить свой знак и, как демонстрирует нам «Комедия» Данте, превратиться в знамя другого господина. В глубинах земли действительно были подняты знамена темного и устрашающего царя, который осуществляет свою власть над тем, что зовется адом, и, по слухам, никому не удавалось выйти и вернуться из его глубин [1].
Кем был этот повелитель? Почему его история была связана с сотворением преисподней? И что он делал в глубинах земли? Именно от этих вопросов, которые ведут к истокам христианства и его связям с иудаизмом и средиземноморскими религиями, необходимо оттолкнуться, чтобы понять основы, на которых было выстроено толкование преисподней между Средними веками и Новым временем. Она была основана на очень древнем фундаменте, который устоялся в веках и навсегда вошел в изобразительный мир Запада.
Главным образом эта история вошла в Писание, дав жизнь невероятно ярким страницам. Кажется, одна из них наиболее полно отразила повествование о зле и тех потрясениях, которые оно произвело, – 12 глава Апокалипсиса [2]. Святой автор рассказывает о видении «великого знамения», появившегося на небе: жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, кричит от болей и мук рождения. Внезапно на горизонте возникает красный дракон с семью головами и десятью рогами, который повергает на землю треть небесного свода. Дракон и женщина противостоят друг другу: чудовище пытается пожрать только что рожденного младенца мужеского пола. Однако младенец, которому пророчат судьбу мессии, был восхищен к престолу Божьему, в то время как жена убежала в пустыню. Таким образом началась битва, великое сражение, в котором архангел Михаил и его воинство противостоят дракону и его последователям. Защитники младенца одержали вверх, и дракон – «древний змий, называемый диаволом и Сатаною, обольщающий всю вселенную» – низвержен на землю. Небеса оглашаются радостной песнью в честь победы добра. В ярости дракон пытается отомстить, преследуя женщину, которая тем не менее спасается благодаря защите Бога и земли. Змей напал на детей женщины, то есть, как мы понимаем, на учеников Иисуса.
Рассказ прерывается до тех пор, пока через восемь глав «змий древний, который есть диавол и Сатана» не возвращается на сцену: ангел (имя не уточняется) сковал монстра цепью в бездне на тысячу лет, после чего он будет освобожден для последней битвы [3]. По завершении битвы его поражение окончательно, и злобное существо стремительно ввергнуто в «озеро огненное и серное», где его ожидают вечные муки.
Уже по этим нескольким признакам очевидно, что смысл эпизода нужно искать не в объяснении происхождения преисподней или власти демонов, а в общих рамках последней книги Библии, которая своим оригинальным языком вновь предлагает нам историю Иисуса и человечества в разгар больших преследований первых христианских общин. По крайней мере, именно это толкование поддерживали многие отцы. Для Цезария Арелатского (ок. 470–543) война на небе была внутренним конфликтом в Церкви: «В Михаиле нужно видеть Христа, в его ангелах – святых. «И дракон, и ангелы его воевали», иными словами дьявол и люди, подчиняющиеся его воле» [4]. То же самое утверждает Беда (ок. 673–735), рассуждая, что «небо указывает на Церковь, в которой Иоанн [автор Апокалипсиса] говорит, как Михаил со своими ангелами борется против дьявола» [5].
Тем не менее можно догадаться, почему видение битвы между Михаилом и апокалиптическим чудовищем трактуется авторами следующих эпох как космогония, относящаяся к истории спасения и вместе с тем проклятия [6]. Есть три элемента, по-разному переработанные, которые способствуют этому прочтению: отвага Михаила, своего рода альтер-эго змея, содействующего победе добра; дракон – древний змей, Сатана, в котором слились воедино искуситель, введший во грех, из книги Бытия, и персонаж из иудео-вавилонских мифов; и на третьем месте падение апокалиптического чудовища и его наказание в огненном озере, тесно связанное с глубинами земли.
Прежде всего нужно обратить внимание на Михаила. Защитник врат рая и небесный герой, архангел обладает древней историей и в западном мире ставит под вопрос те изменения, которые христианство пережило во время своего перехода от греко-латинской культуры до культуры выходцев с Севера после падения Римской империи. В Писании он появляется пять раз, фактически всегда в связи с небесным войском: Михаил возглавляет его, и этимология его имени (Ми-ка-Эль: «кто подобен Богу?») подтверждает превосходство Бога над своими врагами. Его культ был широко распространен на византийском востоке и вскоре вызвал широкое одобрение среди лангобардов и франков. Михаилу посвящали гроты, бывшие прорицалища языческих оракулов, базилики и места, где проводились архаические ритуалы, как, например, знаменитое святилище Гаргано, а также высоты и горы, когда-то принадлежащие богу Меркурию. Михаил для большинства тех, кто его почитал, играл роль защитника, каким он был для древнего Израиля [7]. Подобные обязанности слишком ясно отражали его роль борца против зла, послушного Богу, сражающегося за Его превосходство во вселенной.
В отрывке из Апокалипсиса ему поручают ответить на мятежный план дракона, второго действующего лица, которое нам встречается. Согласно тексту, он и есть дьявол. В действительности было установлено, как за описанием войны на небесах скрывается изображение фигуры Сатаны, выработанное за эволюцию от позднего иудаизма к началу христианской религии. Истоки христианского демона и его изгнание с небес можно найти в апокалиптической апокрифической литературе [8]. Первым таким упоминанием была ссылка на фигуру патриарха Еноха, на которую повлияли мифы культуры Месопотамии. Между 210 и 60 гг. до н. э. подобные письменные источники обращаются ко времени зарождения зла, рассказывая о мятеже ангелов под предводительством Семиаза. Среди восставших были Азазель, Белиал, Мастем, Сатанаэль и Саммаэль, которые, совокупляясь с женщинами, породили великанов. Чтобы наказать их, Бог поручил четырем хорошим ангелам, включая Михаила, изгнать их потомство в бездну. Согласно другим текстам, таким как Книга Юбилеев (135–105 гг. до н. э.), мятеж был под предводительством Мастема (имя нарицательное, образованное от корня stm – «ненавидеть», аналогично stn – «противостоять, препятствовать, обвинять» – от чего произошло «Сатана»): Мастема-Сатана – это искуситель. Некоторые апокрифы этой же эпохи сопоставляют Сатану со змеем из Книги Бытия: злобное существо поручает змею стать носителем его воли и ввести человечество в заблуждение. Ненависть к жителям земли родилась из отсутствия у дьявола почтения к созданиям Божиим, таким образом, Михаил должен был изгнать его из рая. Многие из этих положений затем проникли в культуру ессеев, которые, как известно, поддерживали обширные контакты с той средой, в которой жил Иисус.
При наличии этих предпосылок неудивительно, что со Средних веков бунт змея-дьявола из Апокалипсиса связывают с зарождением преисподней. Мятежник был сброшен на землю подальше от небес, и идея падения была принята единогласно с первых веков христианства. Такие отцы, как Григорий Великий (ок. 540–604), основываясь на средневековой демонологии, утверждают, что дьявол был низвергнут на заре мира, когда человек еще не был сотворен [9]. Такой исход предполагал, что где-то есть место, куда он приземлился, в то время как в первое тысячелетие христианства происходили некоторые расхождения относительно того, где находится место заточения Люцифера и его демонов: на земле, под землей или в воздухе рядом с земной поверхностью. Постепенно для Сатаны и его последователей стали выбирать преимущественно подземное пространство.
В позднее Средневековье образ, кажется, уже был определен в основных своих чертах, как нам показывает впечатляющая панель, изготовленная в среде сиенской школы так называемым Мастером падения мятежных ангелов (ок. 1340). Под Божественным троном, поддерживаемым серафимами, виднеются скамьи эмпирея: справа от Отца сидят хорошие ангелы, слева никого нет, потому что мятежные ангелы были сброшены. Орава ужасных демонов бросается к земной коре в ожесточенной битве с войском Михаила; на пустынной и еще не населенной планете открываются заметные трещины, в которые ныряют демоны, обнаруживая предназначенные им убежища [10].
Даже не принимая во внимание упомянутую картину или многие другие примеры, на которые можно было бы сослаться, земля и ее окрестности (воздушные и подземные) стали, по общему мнению, царством лукавого, и пытки, которым он подвергается, реальны и ощутимы (в особенности пытки огнем). В таком толковании апокалиптических страниц составные части преисподней уже готовы, даже если образ этого места и его точная связь с Сатаной потребовали еще несколько веков оформления и присоединения к «зрелой» архитектуре, о которой потом пойдет речь.
Подобное изображение породило затем другие вопросы: почему Сатана был сброшен на землю и архангел Михаил по Божьему приказанию должен был изгнать его из небесной славы? Какие причины подтолкнули его взбунтоваться против Господа и объявить Ему войну? И в особенности как же разум Создателя, знающий все, позволил столь серьезное возмущение вселенского порядка? Если появление преисподней отвечало требованию создать равновесие между добром и злом, то наметились серьезные сомнения в персоне того, кто господствовал на сцене, в запутанных связях царства и его властителя.
2. Грех Люцифера
Уверенность, что дьявол утратил благодать и был физически изгнан в место, называемое преисподней (или, по меньшей мере, на землю), воинствами архангела Михаила, сопровождалась в христианской традиции бурными дискуссиями о природе греха Сатаны. Вопрос был отнюдь не второстепенным, поскольку проливал свет на происхождение самого зла и способствовал формированию ада в его материальном измерении. Как будет видно далее, место наказания отражало его происхождение, напоминая наиболее заметные черты через сходство или противопоставление.
Для многих древних отцов, которые частично приняли концепции еврейской мистики, падение Сатаны произошло из-за зависти к людям, так же как мятежные ангелы впали в немилость из-за похоти и желания совокупляться с женщинами. Однако созидательное измерение Сатаны продолжало ставить вопросы об отношениях добра и зла и об ответственности Бога за дела дьявола (свободная? разрешающая? предопределенная?) [11].
Во II веке в том же русле размышлял Ириней Лионский, который подтвердил природу демонов: они – ангелы, созданные Богом, и виновны в богоотступничестве, а именно в бунте против Бога (на него повлияла этимология, предложенная Иустином: Сатана становился бы «змеем-отступником»). Дьявол завидовал Господу и хотел, чтобы его так же обожали; таким же образом он завидовал человеку, сделанному по подобию Бога, попечителя мироздания. Сложные представления Иринея ставили множество вопросов к хронологии и совпадения с библейской историей (человек в действительности должен был уже существовать ко времени грехопадения Сатаны, или последний, по крайней мере, должен был знать о планах Бога), тем не менее они ясно показывали ограниченность власти дьявола над человеком (существующей, но никогда не преобладающей) и подтверждали подчинение первого Божественной власти вопреки любым дуалистическим отклонениям [12].
С IV века стали широко толковать вину Сатаны как акт гордыни, совершенный до создания человечества (затем это стало преобладающим представлением). В частности, святой Иероним подкрепляет это прочтение (высокомерие дьявола было вызвано его величием) и, как можно увидеть из приведенного ниже отрывка, выводит его из отрывка Апокалипсиса, описанного в начале [13]:
Дьявол, который был могущественный и упал, не умер. В действительности ангелы не могут принять смерть, а только падение <…> Прочтите Апокалипсис Иоанна: когда дракон упал с небес, то захватил с собой треть звезд.
С различиями, иногда незначительными, средневековые писатели приняли эту традицию, в частности, изображение демона как ангела, изгнанного за собственное высокомерие. Наиболее значимые моменты представлены в трактате Ансельма Кентерберийского «О падении дьявола» (De casu diaboli) [14]. По мнению богослова (1033/34–1109), дьявол отказался признать превосходство божественной воли, считая свою более важной. Будучи неспособным предвидеть собственное падение, он все-таки ясно понимал, что не должен пестовать желание бунта, и в то же время знал, что подобное поведение заслуживает наказания. Сатана заслужил падение, потому что не хотел участвовать в Божьей справедливости и правосудии: Бог создал его добрым и устойчивым, но гордыня его погубила. Ансельм резюмирует эти концепции, используя технику диалога между учеником и учителем.
УЧЕНИК. Ясно вижу, что дьявол согрешил, когда хотел того, чего не должен был, и когда не хотел того, что был должен. Ясно, что он хотел больше, чем должен был, не потому, что не хотел поддержать справедливость, но не поддержал справедливость именно потому, что хотел другое, и тем самым отказался от справедливости <…>
УЧИТЕЛЬ. Но когда он хотел того, чего не хотел Бог, он хотел, нарушив порядок, уподобиться Богу [15].
Важность трактата Ансельма состояла не столько в его рассуждениях о Сатане и его вине, сколько в попытке преодолеть дилеммы о предопределенности, которые тянулись с первых веков христианства: как уже говорилось по этому поводу, для грехопадения Люцифера не нужно искать предопределенную причину или «искать причину для выбора свободной воли» [16]. Если дьявол был свободен и решил согрешить против Господа, питая свою гордыню, выходило, что и Христос мог добровольно принести себя в жертву Отцу, чтобы искупить человечество. Перед лицом подобного утверждения о свободе созданий и самого Иисуса (что снизило эффект представления, что все предопределено Богом) дьявол стал играть вспомогательную роль, не столь необходимую для оправдания грехопадения человечества и его искупления [17].
Схоластика следовала дальше в этом направлении, продолжая отождествлять грех Сатаны с высокомерием. Даже Фома Аквинский не слишком отклонился от показанных тезисов [18]. Его доктрина о зле рассматривает это состояние как утрату добра, но не как абсолютную реальность. В то время как причины греха для людей можно было найти в свободе воли, для ангелов они лежали в сверхъестественной плоскости, что отличало их от людей. Если говорить конкретнее, Бог предложил дьяволу неземную благодать, которая сделала бы его полностью счастливым, но тот отказался. Аквинат считал, что Сатана хотел быть подобным Богу, а именно решил быть свободным, чтобы распоряжаться собственным спасением, независимо от сверхъестественного дара, предложенного Господом. Следовательно, он не желал стать равным Богу, потому что знал, что невозможно стать таким, как Он, возвысив свою природу, наоборот, он желал уподобиться Ему; не по божественному разрешению, но по собственному прямому действию (propria virtute et non virtute Dei). Даже Фома считал, что Сатана согрешил из гордыни, и такое мнение разделяли многие авторы (Кассиан, Григорий Великий, Руперт из Дёйца). Битва, описанная в 12 главе Апокалипсиса, воспроизводит то, что случилось сразу после создания ангелов, когда дьявол и его приспешники противостояли Михаилу. Поскольку небесные существа в отличие от людей обладают всеобъемлющим полным интуитивным пониманием событий, они не могут отказаться от сделанного выбора в пользу Бога или против Него; поэтому Сатана заслужил вечное наказание, и все злобные создания, его последователи, по сути являются его частями (перевернутое изображение мистического тела Христа): «дьявол – глава всех злых сил, в той степени, в какой они ему подражают», – говорит «Сумма теологии» (Summa theologiae) [19]. После падения демоны жили в преисподней, где мучили проклятых, но, поскольку Бог хотел их использовать, некоторым было разрешено действовать в темном надземном мире.
Таким образом, с конца XIII века преисподняя и дьявол достигли своей зрелости, приобретя тот вид, который, как мы увидим, будет сопровождать многих христиан вплоть до XX века. Как и в других сферах, наработки схоластов сыграли решающую роль и от иудейских традиций, проникнувших в Новый Завет, перешли к подробной кодификации преисподней, греха, который ее создал, и их повелителя.
Однако только три века спустя для преисподней и теологической архитектуры, в которую она была встроена, возникла новая проблема: в XVI веке западное христианство столкнулось с беспрецедентным расколом, который безвозвратно отделил католиков, верных папе, от протестантского мира. Значительная часть тех, кто отдалился от Рима, соглашалась с существованием ада с признаками, не отличающимися от выработанных в Средние века: у Лютера, Меланхтона, Цвингли и Кальвина не было сомнений в наличии места, предназначенного для грешников, хотя в некоторых наиболее радикальных протестантских группах (например, анабаптисты) распространились доктрины, ставящие под сомнение существование места вечного наказания. Зато общая структура загробного мира подверглась значительным изменениям с отменой чистилища (ада «на время»), и посмертная судьба человека оказалась резко поляризована между спасением и проклятием [20]. У нас нет возможности остановиться на концепциях реформаторов и их взглядах относительно действий дьявола в жизни человека, но эти изменения неизбежно отразились на католической стороне. Для теологов и проповедников, послушных римской иерархии, преисподняя и рассказ о ее создании как результате столкновения добра и зла оставались определяющими элементами, так же как внутренний порядок строго трехчастной схемы (место блаженства – рай, место/места вечного проклятия – преисподняя, место временного очищения – чистилище).
Наиболее авторитетная и во многих аспектах наиболее полная относительно этого вопроса трактовка, написанная сразу же после Тридентского собора, представлена иезуитом Франсиско Суаресом (1548–1617). Ему принадлежит составление трактата «Об ангелах» (De angelis), в котором дотошно описан портрет Люцифера как мятежного ангела, его проклятие и полчища его последователей. Целые две книги, седьмая и восьмая, сосредотачиваются на злых ангелах, их падении и их неистовом противостоянии Богу и его верным [21]. Испанский богослов прежде всего пытался прояснить множество легендарных и фантастических аспектов, которые окружают битву, случившуюся в глубине веков: присутствие плохих ангелов соответствовало христианской вере, но никогда не существовало земных ангелов, от которых родились великаны. Ересью было полагать, что ангелы злы по природе: на самом деле их грех произошел от добровольного действия, выразившегося в гордыне, понимаемой как безграничная любовь к себе и своему совершенству. Поскольку вина Сатаны была не просто желанием, а стремилась к полному его исполнению, она не могла совпадать с целью стать равным Богу – желание, которое само по себе совершенно невыполнимо. По мнению Суареса, который следовал некоторым современным ему богословским гипотезам, Люцифер жаждал единосущного слияния Слова Божия со своей ангельской природой, допуская тем самым, что Бог сам открыл ангелам тайну воплощения Иисуса. Поэтому Сатана не хотел становиться таким, как Бог, но скорее стремился соединиться своей природой с Божественной и приобрести таким образом превосходство (в этом корень греха гордыни). С точки зрения иезуита, было совершенно невозможно, чтобы Сатана верил в возможность освободиться от Бога, поскольку знал, что его тварная природа ставит его намного ниже своего создателя. Уже упав, Люцифер стал вместилищем многих других грехов, которыми возрастало зло: высокомерие, честолюбие, тщеславие, зависть ко Христу, гнев против сына Божия и т. д. Прежде чем погубить себя и быть низвергнутым, Сатана был серафимом, то есть принадлежал к высшему рангу ангелов, хотя и не был высшим среди них (так что Михаил может считать себя равным ему). Люцифер подтолкнул многих ангелов идти по его следам – их грех состоит в том, что они полагали, будто мятежнику надлежит по праву единосущное слияние со Словом Божиим. Хотя грех Сатаны предшествовал греху его последователей, низвергнуты были все вместе. Их неповиновение, хотя и близкое по времени, могло совершиться сразу после их сотворения: возможно, прямо в первый день в то время, как Бог создавал небо и землю, Сатана и его ангелы были изгнаны. Никто из них не покаялся за то время, что им было отпущено для осознания своих ошибок, поэтому они были осуждены на вечное проклятие.
Текст Суареса, который вскоре стал образцовым, отразил и частично пересмотрел концепции, выработанные в предыдущие эпохи, внеся их в рамки нового языка тридентского католицизма. Различные элементы выражали преемственность с традициями Средних веков и схоластики: Люцифер был создан свободным и согрешил после своего создания (неразрешимыми остались споры о промежутке времени между созданием и падением); ангелы, которые последовали за ним, стали демонами и были низвергнуты. Грехом Сатаны была гордыня: в концепции Фомы он отказался подчиняться Богу и захотел уподобиться ему, используя собственную добродетель; для Суареса грех состоял в желании единосущного слияния со Словом Божиим. По мнению Аквината, Люцифер был величайшим среди ангелов; по мнению Суареса, наоборот, он был одним из серафимов; в обоих случаях он оказался способным убедить других ангелов последовать за ним, хотя их было значительно меньше, чем оставшихся верными Богу.
От их падения родилась преисподняя, подземное место, где мятежники продолжают свое существование. Хотя некоторые демоны остались над землей, чтобы искушать людей вплоть до Страшного суда, Люцифер, закованный в цепи, ожидает в своем царстве того дня, когда в конце истории он бросится в последнюю атаку: Суарес комментирует, ссылаясь на текст Апокалипсиса, что, возможно, он был заперт и запечатан в подземном пространстве, и ему не позволят выйти до времени испытаний, вызванных Антихристом [22].
Долгие дискуссии о зарождении преисподней, равно как и реальные и точные объяснения ее существования, стали частью тридентского католицизма наряду с четко определенной личностью мятежника. На следующих страницах мы попытаемся проанализировать, как богословские рассуждения проникли в коллективное воображение Нового времени (и, в свою очередь, сами оказались под его влиянием), в особенности через литературу и художественные произведения: на самом деле иконографические и повествовательные труды гораздо больше, чем рассуждения богословов, повлияли на народные представления и утвердили идею материального ада, возникшего в глубине веков после сражения между противоборствующими силами, персонифицированными и действующими в мире.
3. Эпическое сражение
Как уже было сказано, богословие в течение веков продолжало перерабатывать библейскую традицию, пытаясь понять истоки преисподней, кто такой дьявол, откуда произошло его падение и что и кого он возглавил. Основы из Писания и их толкования поддерживали постепенно формировавшийся рассказ. Желая изучить, как все это взаимодействовало с литературными образцами, появившимися во время Контрреформации, из различных свидетельств, которые показывают, что этой теме уделялось особенное внимание, можно извлечь пищу для размышлений. Возможно, излишне напоминать, что падение Люцифера пользовалось определенным успехом в Новое время и, чтобы расширить охват по Европе, достигло своей вершины в «Потерянном рае» (Paradiso perduto) Мильтона (1608–1674) [23]. Что касается Италии и большого количества текстов по теме, то отправной точкой послужила поэма, сочиненная в 1568 году Антонино Альфано и посвященная, как указывает название, «Небесной битве между Михаилом и Люцифером» (Battaglia celeste tra Michele e Lucifero) [24]. О самом авторе мало что известно, только то, что он умер десять лет спустя после публикации своего произведения (16 августа 1578) [25]. Тем не менее эта тонкая книжица стала родоначальником малоизвестной традиции об эпическом падении мятежного ангела. Страницы Альфано родились в рамках палермской Академии дельи Аччези, основанной вице-королем Франческо Фердинандо д’Авалосем на Сицилии во второй половине XVI века [26]. По всей вероятности, Альфано вдохновился подвигом Мальты в 1565 году, когда католические армии с успехом сопротивлялись османской угрозе, предвосхищая окончательную победу при Лепанто. Вместо того чтобы рассказывать о «мечтах и сказках поэтов», как в рыцарских сочинениях, лучше прославить первую великую битву, которая породила все остальные («первая, настоящая и небесная битва») [27].
В различных песнях появляются многие детали, упомянутые раньше, в оригинальном сочетании, которое, по сути, отдаляется от строгих определений доктрины. Рассказ Альфано сразу же представляет нам грех Люцифера: конечно же, гордыня, но с чертами, которые лишь частично похожи на те, что определило богословие. Связь между высокомерием Сатаны и воплощением Христа определяет небесную битву: вместо желания единосущного слияния с Богом (оставленного для Сына) кипит гнев и ненависть от пришествия в мир Иисуса. Сатана неистребимо враждебен человеческой природе, которую решил принять Христос, отсюда происходит яростная атака на небесные планы, которые будут исполнены в ходе истории, он борется, чтобы расстроить замысел вечного Отца. Безумное намерение Люцифера – уничтожить Сына Божия, а именно разрушить план Создателя и остаться в небесах единственным существом, равным Богу:
- Изрек Свое слово Отец Небесный,
- И, плотью облекшись, Оно стало Сыном.
- Пролился на землю свет чудесный,
- Так стали они целым единым.
- Один Люцифер, узрев то явление,
- Исполнился гневом, объят он гордыней.
- Он к мести стремится в своем исступлении,
- И ярости волны вздымаются ныне.
- В сердце рождается жажда бесчинства,
- Других к мятежу в Небесах призывает.
- Желает разрушить он это единство,
- С оружием грозно вперед выступает.
- Безумная мысль душой овладела,
- Покоя не знает он, злобой мучимый.
- Быть равным с Творцом стремится он смело,
- Достигнуть Того, кто непостижимый [28].
Богословская традиция приспособилась к греху, наиболее простому для восприятия: Сатана хочет быть равным Богу, Христос представляет препятствие на его пути. Во второй песне в уста Люцифера вложены очень ясные слова: «Выше звезд я поставлю свой трон и буду равен бесконечной силе высочайшего» [29]. Быть как Бог (тема, которая, помимо непослушания Сатаны, напоминает искушение первого человека [30]), следовательно, было целью Люцифера, который, соответственно, не мог принять унижения, когда почитали «столь презренное облачение», как человеческая природа Иисуса. Исходя из этих предпосылок, дьявол призывал к восстанию других небесных существ; Альфано принимает традицию, не восходящую к библейскому тексту, согласно которому часть ангелов объединилась против Бога, а часть осталась нейтральной, не принимая сторону ни Создателя, ни Сатаны: первые были отправлены в ад, а вторые в царство воздуха [31]. После совета Люцифера со своими приспешниками поэма останавливается на сражении и заканчивается сценой, в которой побежденный Сатана бежит, чтобы подготовить преисподнюю для своих войск:
- Дрожат Небеса от раскатов гневных,
- Ангелы падают, облик теряя.
- И змей среди них спешит самый первый,
- Под землю стремится, ад создавая [32].
Мятежники, превращенные в монстров, и змей, то есть Люцифер, представленный как искуситель из книги Бытия, были изгнаны с небес, наконец-то свободны и радостны: Сатана скатывается к земле и сам создает преисподнюю. По мнению Альфано, князь тьмы сам же и создал свое царство или, по крайней мере, обустроил пространство, чтобы принять свои полчища. Поэма открывается светом эмпиреев и заканчивается суровой реальностью преисподней, в которой дьявол, надменный и озлобленный, скрылся, как раненый зверь.
Мало кто сомневается в том факте, что видение преисподней как результата падения Люцифера и эпического сражения, в котором он противостоял архангелу Михаилу, отныне стало частью общего изобразительного ряда (в случае Альфано выражением высокой культуры). Сюжет, представленный во многих произведениях на священные темы, в Италии XVI и XVII веков заслужил значительное внимание, что показали другие тексты, которые после «Небесной битвы» сконцентрировались на нем.
Двигаясь дальше на север, можно остановиться, например, на творчестве литератора из Фриули Эразма ди Вальвазона (1528–1593) [33]. Обладатель небольшого имения на границах Венецианской республики, он установил контакт со столичными литературными кругами и такими личностями, как Диониджи Атанаджи, Лодовико Дольче, Франческо Сансовино и Жироламо Рушелли. Автор перевода на итальянский язык Стация («Фиваида» (Thebaide) Франчески, Венеция 1570), после этого он сдал в печать «Слезы святой Марии Магдалины» (Lagrime di santa Maria Maddalena) в восьмистишиях (Гуэрра, Венеция 1586), показывая приближение к религиозным вопросам. Четыре года спустя появились три песни Ангелеиды (Angeleida; Сомаско, Венеция, 1590), в которой рассматривался эпизод небесной битвы [34]. Поэма, задуманная, чтобы прославить Светлейшую, вызвала различные дискуссии по поводу использования образов, которые описывают духовную сущность ангелов многозначительными терминами. Но важно отметить, какой смысл придается грехопадению Люцифера и – в последней из трех песен – созданию преисподней. Использую свободную волю, данную ему Богом [35], Сатана поддался гордыне [36]. Приводятся аргументы, подобные виденным у Альфано, о природе и содержанию такого греха, только с одним значимым изменением: ангел «самый любимый и самый отважный, самый сияющий среди всех милостей, взор не бросил на красоту свою, но на высокомерие духа» [37]. Propria virtute богословия – Люцифер, который полагается на самого себя, а не на милость Божью, переходит в чрезмерную тщеславность и слепое утверждение превосходства, когда Сатана призывает к войне своих приспешников в конце первой песни («Он не больше меня, каждый меня чтит») [38]. Из-за этого мятежа самый красивый из ангелов, уничтоженный Михаилом, погружается в «вечную темницу», расположенную «в бездне» [39].
После свержения, когда высокое и низкое поменялись местами, Люцифер оказался придавлен весом царства, куда он был заброшен: он был превыше всех, пишет поэт, а теперь царство зла легло на него тяжким грузом [40].
Большой интерес представляют строки о рождении преисподней относительно ее владыки. Темное царство не было бы нужным для «вечного правосудия, чтобы наказать подлости и ошибки других», потому что поначалу всё было создано чистым и невинным [41]. Тем не менее «адская пещера» оказалась необходимой после грехопадения Сатаны. Проиграв битву, мятежный ангел был поглощен недрами земли, которые сразу же потом закрылись:
- Ангелы Божьи идут в наступление,
- Битва Небесная все разгорается.
- Ангелы темные в ожесточении,
- И Сатана с ними сверху бросается.
- Только недолго их ослепление.
- Полость подземная вдруг открывается,
- В центр земли он поспешно спускается
- И безвозвратно внутри закрывается [42].
Как в октавах Альфано, Люцифер низвергнут с небес. Земля в ужасе от злого ангела раскрыла пропасть и поглотила его. Оказавшись в бездне, Сатана оглядывается вокруг, чтобы осмотреть бесконечную темницу, к которой он приговорен. Как он, так и его приспешники оплакивают потерянную родину, в их порывах скорбь и одновременно гнев [43].
Адская пещера описывается с помощью присущих литературной и изобразительной традиции деталей: безвоздушная, грязная, темная, освещенная лишь неугасимо горящим огнем и одновременно окруженная заледенелыми стенами [44].
Сатана во всех смыслах «несчастный царь» этих владений, который, сброшенный с эмпиреев, направляет свои мысли на «основание нового царства»: его корона изготовлена из тьмы, и он изрекает свои приказы из семи ужасных уст [45]. Адское пространство «лексически напоминает “Ад” Данте, тем не менее в ужасной всенощной присутствуют “другие” образные и звуковые знаки», Люцифер организовал его так, чтобы раздавать поручения и обязанности и в конечном счете спускать с цепи силы зла, чтобы искушать и приводить в смятение человечество [46].
Продолжая этот беглый осмотр, стоит указать несколько вариантов, которые распространились в те же десятилетия, когда творили Альфано и Вальвазон, в подтверждение постоянно меняющегося пейзажа. Например, книжечка «История Люцифера в восьмистишиях» (Caso di Lucifero in ottava rima) Амико Аньифило (1555–1601), опубликованная в Акуиле в 1582 году [47]. Потомок кардинала-тезки, который в XV веке управлял епархией в Абруццо, Аньифило был автором некоторых сочинений религиозного содержания (кроме «Истории Люцифера», «Пленение Иосифа» (Cattività di Giuseppe)) и оставил различные творения, вдохновленные классикой (например, «Суд Париса» (Giudizio di Paride)) [48]. Произведение о падении Сатаны состоит из одной песни в 124 восьмистишия, в которой последовательно изложены события, произошедшие на заре творения. Грех Люцифера и природа мятежного ангела были изображены в обычной манере: обладающий великой доблестью и красотой («поражающий стихии»), Сатана стал ужаснейшим среди демонов [49]. Его проступок был в желании нарушить волю Бога, чтобы провозгласить себя царем вселенной. Это свидетельствовало о безумии, в которое дьявол впал, чтобы «присвоить себе имя всемогущего»:
- В безумии своем готовится к броску,
- Не видит, что напрасны усилия его.
- И никогда не выпадет чести гордецу:
- Не может творение равным стать Творцу.
Нелишним будет отметить то, как Аньифило касается богословской темы, а именно – невозможность творению стать равным творцу. Строптивый Люцифер упорствует в своем стремлении, ослепленный жаждой власти: спрашивается, зачем быть превыше всех в свете и славе, если в конечном итоге не можешь быть похожим на Бога? [50]. В «Истории Люцифера» возникают парадоксальные подробности небесного бунта: именно божественная сила дала Сатане такую мощь и, конечно же, предсказала его мятеж. Но вожделение сподвигло ангела на бунт против его создателя. Даже осознавая, что хочет слишком многого, Сатана в то же время не может сдержаться, подталкиваемый величием своей природы:
- <…> Предвидел ли Бог такой мой проступок,
- Сомнения меня не терзают ничуть.
- Воспользуюсь силой, свыше мне данной,
- Чтобы добиться цели желанной.
- Я слишком вознесся в мечтаньях своих
- И слишком позволил себе возгордиться.
- Желаний великих, но всё же не злых
- Хочу исполнения ныне добиться.
- Природа моя выше всех остальных,
- Я слишком прекрасен, чтобы склониться [51].
Если стремление мятежника описывается как непреодолимый и одновременно безумный импульс, то его сумасшествие сопровождается иллюзией безнаказанности: будучи чистым духом («у меня есть бесстрастная и божественная сопричастность»), Сатана полагал, что никогда не будет страдать от боли, причиненной огнем и льдом, ждущим его [52].
Акт бунта отмечен изменениями Люцифера и его последователей, в один миг превращенных в ужасных и темных существ («красота столь светлая и чистая | вдруг помутнела и мгновенно потемнела») [53]. Главный герой целой поэмы, однако, вовсе не Люцифер, а сам Бог. Он сам движущая сила сценического действа; показывают именно Его гневное лицо, полное ярости от высокомерия демонов. В то время как у Альфано и Вальвазона кажется, что Божественность остается над противниками, здесь Он мстит за мятеж, и Михаил выступает в качестве инструмента его ярости («Воспоследует наказание, насколько вина ужасна <…>; злодеяние слишком серьезно, слишком велико», вскричал) [54]. На протяжении многих восьмистиший Создатель обрушивает на Люцифера и его последователей проклятие, что порождает другую версию происхождения преисподней. Обычно падение Сатаны вызывает реакцию земли, которая открывает глубокую пропасть; у Аньифило, наоборот, небесное предвидение уже придало форму тому место, которое предназначено для Сатаны. В своей гневной речи против мятежников Бог приказывает силам добра выслать Люцифера в центр земли в самую черную темноту [55]. Вечное правосудие уже приготовило место с цепями «из льда и огня», в котором два элемента, не отменяя действия друг друга, мучают Люцифера, а неспособность умереть становится худшим из наказаний [56]. Наконец, сам Бог накладывает вето на любое возможное покаяние Сатаны и его мятежников, потому что они не вызовут его прощение: «За безумной крайностью | не последует раскаяние, нет милосердия, | не поколеблется моя вечная доброта» [57]. Со страниц Аньифило сходит лицо разгневанного Бога, который, уверенный в своей победе, с началом войны открывает темницу, уготованную для мятежников. Как только голос с небес выносит дьяволу приговор, открывается преисподняя, и Люцифер, пронзенный болью, начинает думать, что для него было бы лучше быть навеки похороненным:
- Голос ужасный с небес раздается,
- Земля содрогается, ад открывая.
- А выше извечная битва ведется,
- И волны на берег сильней наступают.
- От страха коварное сердце трепещет,
- Пытается скрыться, избегнув страданья.
- Из тьмы подземелья он смотрит зловеще,
- Навеки останется в мрачном изгнанье [58].
Люцифер побежден и, скованный Михаилом, отправляется в преисподнюю [59]. Опускаясь в нее, проклиная себя и день, в который он был создан, и чтобы не видеть Бога, Люцифер погружается в земную полость: «Откройте, распахните передо мной двери, | спуститься в ад – мое желание: | будь проклят день этот и час, | с которого началась моя природа» [60].
