Разлом
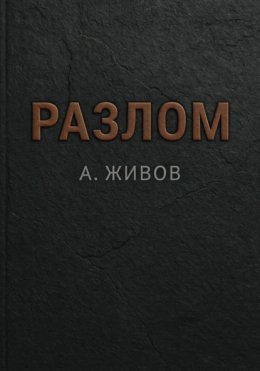
Пролог
Пустую, белую до боли в глазах. Белые стены, белый пол, белый потолок – все залито ровным дневным светом, от которого никак невозможно скрыться. Он льется не из лампы, не из окна – он просто есть. Как будто сама реальность решила стать ослепительно белой.Представьте себе комнату.
В этой комнате нет теней. Здесь нечему падать, нечему отбрасывать, нечего прятать. Здесь нет времени – только «сейчас», растянутое до бесконечности.
В центре – письменный стол. Простой, чуждый здесь, будто принесен извне. На нем – печатная машинка. Не ноутбук, не книга, не свиток – старая, тяжелая, черная, с потертыми клавишами. Continental Standard, модель 1938 года. Она здесь всегда.
Это сознание, застывшее в пустоте, в ожидании.Это место – не реальность, не сон.
Каждое напечатанное слово – трещина в белом, тропинка наружу.Каждое нажатие клавиши – искра.
Я не знаю, кто будет жить на этих страницах, но я знаю лишь одно – пока я печатаю, комната заполняется. Сначала звуками, потом запахами, образами.
Появляется голос – и с ним первое имя.Появляется берег – и запах залива. Появляется башня – и чьи-то глаза, наблюдающие за мной.
И однажды кто-то снова пройдет его. Возможно, уже проходил. Возможно, не один раз.Когда появится первое слово, появится и первый путь.
Пусть слово станет миром.
И пусть этот мир, как бы он ни был сломан, родится снова
Глава 1
Первое, что я почувствовал – запах. Он пробрался внутрь с первым вдохом, обволакивая изнутри, до боли знакомый, ни с чем не спутаешь. Запах дождя, впитавшегося в брусчатку, только недавно иссушенную летним зноем. Запах мокрого камня, земли, ржавого железа. Сырой, чуть металлический, с горчинкой – как будто сама земля впервые за долгое время вдохнула полной грудью. Он ворвался в грудь, зацепился за легкие, и я вдруг вспомнил, как в детстве замирал под летним дождем, позволяя себе ни о чем не думать.
Я ощутил дыхание – прерывистое, неровное, будто каждый вдох давался усилием. Веки были тяжелыми, как мокрая ткань, липли к глазам. Под затылком ощущалась влага – то ли пот, то ли влага из воздуха. Кожа под ней зудела, будто от долгого лежания. Я не знал, сколько прошло времени. Все казалось размазанным – сон, боль, память. Мир не спешил возвращаться, и тело тоже. Оно лежало, инородное, чужое, как будто я оказался внутри не себя, а кого-то другого. Дышать становилось легче, но все остальное – еще нет.
Вторым ворвался звук – легкий шелест капель дождя, падающих с крыши на подоконник. Каждое падение, каждая капля, разбиваясь на тысячи частей, будто проникала внутрь меня. Этот ритм мягко входил в сознание, вытесняя пустоту, рисуя знакомые пейзажи – Суррейские холмы, залитые теплым летним дождем. Тем самым дождем, под которым хочется просто стоять, закрыв глаза, замирая, пока вся природа дышит сквозь тебя.
Следом пробился свет – утренний, сквозь едва приоткрытые веки. Он был тусклым, но упрямым. Не ослеплял, но раздражал, щекотал глаза, будто кто-то тряс их за плечо, пытаясь разбудить. Свет ложился на стены, выхватывая из тени пятна сырости, пыль, блеклые очертания мебели. Он не оставлял шансов снова уйти в темноту. Все в комнате становилось слишком ясным – и оттого чужим.
Кажется, я… все еще жив? – промелькнуло в голове. Мысль, возникшая из ниоткуда – возможность сознания, ясности – вспыхнула, как слабый отблеск в ночи. Я попытался вдохнуть полной грудью, почувствовать этот мир – легкие сжались, внутри будто обожгло. И в тот же миг, будто в ответ на дерзость, нахлынула боль.
Боль не просто вспыхнула – она расползлась по всему телу, как жидкий металл: обжигая, сдавливая каждую мышцу. Она пульсировала, пронизывая из глубины спины и поднимаясь к горлу, неумолимо заставляя замечать только ее. Боль была в каждом вдохе, в каждом движении – жила в теле, как своя собственная воля.
Я медленно, почти не веря себе, попытался пошевелить пальцами ног. Они откликнулись – слабо, но все же. По ступням прокатилась тупая, отстраненная боль. Затем – руки. Один палец дернулся, будто нехотя. Суставы горели, словно их долго не шевелили. Значит, я цел. Или… почти. Все тело отзывалось на попытки движения болью, как будто протестовало.
Я лежал на узкой койке – это теперь ощущалось отчетливо. Под лопаткой что-то упиралось – то ли сбившийся ком, то ли торчащая доска. Простыня была натянута, но не туго – скорее небрежно, шершаво, с комками и складками. Где-то под боком – влага, липкая, похожая на пот. Я попробовал пошевелить ладонью – движения были короткими, едва ощутимыми. По ощущениям, это была холщевка по типу больничного белья – грубая, неровная, пахнущая стиркой и чем-то кислым, может быть, уксусом. Она не грела. Не укрывала.
Я попытался осмотреться. Комната была тусклой, как будто старалась впустить как можно меньше света. Обои – потемневшие от времени, с выцветшим цветочным узором, больше похожим на плесень. Стены – высокие, давящие. В углу стоял шкаф – вытянутый, угрюмый, с облупившейся полировкой. Его дверца была чуть приоткрыта – возможно, из-за сквозняка. Он выглядел так, будто его давно не открывали.
На стенах были прямоугольные следы разных размеров, чуть светлее, чем облезлые обои вокруг. Похожие на отпечатки от картин, или икон. Да, скорее всего, именно иконы. Но сейчас это только пятна. Немые, пустые. Словно память, которую пытались стереть, но не до конца.
И будто в подтверждение этому, я начал улавливать едва заметный запах ладана – тонкий, сухой. Я не почувствовал его сразу. Он будто прятался в старых досках, в стенах, в ткани.
На противоположной стене было окно – большое, с кованой решеткой, как в тюрьме или старом лазарете. Я не знал, где нахожусь, и эта решетка совсем не помогала ответить.
За мутным, грязным стеклом угадывался сад, какие-то заросли и деревья – искаженные, словно вытянутые временем.
Ветви их были слишком длинными – непропорциональными, словно в кривом зеркале. Я не сразу понял, что именно тревожит, но в какой-то момент мне показалось, что они дернулись. Не от ветра, а сами по себе.
Я моргнул. Изображение расплылось. Воображение дорисовывало то, чего не было в действительности. Тонкие, вытянутые пальцы, тянущиеся к стеклу. Будто кто-то пытался ухватиться за подоконник. Эти руки не были страшными, скорее… настойчивыми. Зовущими. Как чужая воля, пробившаяся сквозь сон.
Я крепко зажмурил и снова открыл глаза. Руки исчезли, остались только ветви. Это зрелище не давало покоя – я смотрел и чувствовал, как внутри растет тревога, хотя я не мог объяснить, почему.
Свет за окном был странный – тусклый, но не вечерний, ровный, без тепла. Он не давал понять, утро сейчас или полдень, день или вечер.
В остальном – почти полная тишина. Ни шагов, ни голосов, только дождь, монотонно барабанящий по подоконнику. Иногда – отдаленный скрип, будто здание дышало само по себе. Все это придавало ощущение застывшего времени. Я был один – или, по крайней мере, так казалось.
Внезапно за стеной раздался крик. Короткий. Сдавленный. Словно кто-то звал, но не надеялся, что его услышат. У меня сжалось горло. Я затаил дыхание – неосознанно, как перед ударом. Внутри все замерло.
Шагов не было. Ни голосов. Только дождь. Я вдруг понял, что ждал. Еще одного крика? Скрипа двери? Шумных шагов?
Но ничего не происходило. Лишь тишина – плотная, мокрая, как шерсть, прилипшая к коже.
Все вокруг было чужим – и в то же время слишком реальным. Крик растворился в тишине, но тревога осталась.
Пространство не удерживало меня насильно, но и не отпускало. Решетка на окне, высокая дверь, пустота – все говорило: ты здесь не просто так.
Кто меня сюда привел? И почему? Я не чувствовал оков, но и свободы тоже.
В моем состоянии не нужны были ни замки, ни охрана – тело само становилось тюрьмой.
Я отчаянно силился вспомнить хоть что-то – но сознание упрямо сопротивлялось, и каждый усилившийся импульс отдавался болью в затылке. Будто между мной и прошлым стояла стена – тонкая, мутная, как стекло в этом окне, но непробиваемая.
И все же… что-то мелькнуло. Словно слабый луч света пробился сквозь задернутые шторы памяти. Вспышка. Еще одна – чуть ярче, чуть ближе.
Тени. Движение. Звук.
Сердце застучало быстрее. Тело будто вспомнило то, чего ум еще не осознал.
Что-то внутри дрогнуло. Не мысль – скорее импульс, рефлекс. Перед глазами пронесся чужой свет – и вдруг я уже не лежал. Я стоял. Где-то высоко, среди камня и ветра.
Ночь. Гроза. Воздух – тяжелый, гудящий, в каждом вдохе был привкус электричества. Ливень хлестал в лицо, обжигал кожу. Внизу – тьма, вверху – небо, вспарываемое молниями.
Все происходило так быстро, и в то же время – слишком медленно.
Передо мной – силуэты. Несколько фигур, темные, размытые. Они двигались, кажется, спорили – не слова, а гул, словно говорили под водой.
Я не слышал, что они говорят, но чувствовал: все это – обо мне. Или вокруг меня. Один из них подошел ближе.
Капюшон. Лицо скрыто. Или это я просто не мог сфокусировать взгляд? Он что-то произнес. Голос был ровный, но глухой, как в колоколе.
Я хотел ответить, но не успел.
Движение.
Резкое.
То ли замах, то ли толчок – я не разобрал. Мои руки поднялись – инстинктивно, будто чтобы защититься. Влажный воздух обтекал кожу.
Затем – вспышка. Гром.
И я полетел.
Не вниз – а в пустоту. В провал. Тело обмякло, образы вырвались из-под контроля. Гроза осталась вверху, голоса исчезли. Все исчезло.
Только сердце билось – частое, испуганное, будто кто-то стучал в запертую дверь.
А потом – ничего.
За дверью раздались шаги. Тяжелые, размеренные, будто чьи-то башмаки нарочно давили каждый звук, давая понять – кто-то идет. Не спеша. Властвуя.
Шаги приближались. Они звучали глухо, но не потому что тише – просто стены, казалось, сами их приглушали, как будто знали этого человека.
Пауза. Скрип.
Дверь отворилась с натужным, сухим звуком, будто ее не открывали годами.
Кто-то вошел. Он не сказал ни слова – но воздух сразу стал суше, строже.
Человек приблизился к кровати и остановился всего в шаге.
– А-а, Мистер Колдуэлл, – раздался голос. Сухой. Ровный. Почти лишенный участия.
Колдуэлл. Да. Итан Колдуэлл, это мое имя – тут же всплыло в голове.
Голос был мне незнаком… ни по тону, ни по звучанию и ритму, но он был как голос офицера, человека, привыкшего отдавать распоряжения.
У меня в голове тут же всплыл образ профессора: круглые очки, усы веером, козлиная бородка. Картинка из далекого коллежского прошлого. Может, и не случайно. Может, именно таков он и был.
Я попытался что-то сказать, но язык едва ворочался.
– А-гм… хм…
– Тише. Я не ждал ответа, – спокойно произнес он. – Вам пока нельзя почти ничего.
В его интонации не было ни строгости, ни сочувствия. Только усталое знание порядка.
– Сестра, пройдите, пожалуйста, в пятую палату, – сказал он немного громче.
Я попытался повернуть голову, но боль ударила, как плеть – по шее, по черепу. Все тело вспыхнуло. Я зажмурился.
Свет померк. Звук исчез.
Мир снова провалился в себя.
А в самом конце – перед тем как исчезнуть окончательно – я снова почувствовал запах.
Не боль. Не воздух. А его.
Сырой, родной, знакомый.
Глава 2
Вечерело.
Я стоял на берегу реки и впитывал в себя запах воды. Он был густой, тягучий – с привкусом водорослей, мокрой глины и чего-то медного, как будто старая лодка ржавела поблизости. Ветер с воды тянул прохладу, тормошил волосы, поднимал от поверхности клочья сырости.
Под ногами хлюпала вязкая земля, перемешанная с песком и илом. Я чувствовал, как она втягивает, скользит под ступнями, будто хочет удержать. Камешки царапали пятки, в пальцах застревали мелкие ракушки.
Волны лениво набегали, обдавая щиколотки холодной водой. По глади плыли обломки тростника и старые перья – чайки носились над головой, тревожно крича в багряное небо.
Мне казалось, если стоять так достаточно долго, можно стать частью этого берега – как старая коряга, вросшая в песок.
– Итан! – крикнула мама. – Сколько раз я тебе говорила не убегать? А ну сейчас же вылезай из воды!
– Хорошо, мама… – буркнул я. – Я только хотел прикоснуться к воде.
– Это не отменяет того, что сначала нужно спросить разрешения у меня. Ты понял?
– Да, мама.
– Хорошо. Мы идем домой.
Мы двинулись по тропе вдоль воды. Я бросил последний взгляд на берег – на покосившийся деревянный настил, на брошенную лодку, наполовину засыпанную илом, и на маяк вдалеке, силуэт которого расплывался в сгущающемся тумане.
Солнце почти скрылось за линией крыш, и все вокруг стало медным – тени вытянулись, крыши темнели, воздух словно стал плотнее.
Наш дом стоял в самом конце улицы Линден – угловатый, с узким фасадом и темной шиферной крышей. Он выглядел чужим, как вырезка из другого времени, словно кто-то случайно перенес его сюда из старой гравюры.
Отец купил его у семьи, чьи портреты все еще висели на стенах. Выцветшие, с серьезными лицами и глазами, следящими даже в темноте.
На веранде пахло сосновой пылью и лаком. Мама говорила, что этот запах не выветрится никогда. А в углу под самой крышей была моя комната – с маленьким окном, глядящим на реку и маяк. Тот маяк всегда казался мне живым. Даже когда он молчал, я знал: он смотрит в темноту за нас всех.
Когда мы вошли в дом, мама мягко закрыла за мной дверь, а в холле нас встретил привычный полумрак. Огромная люстра висела под потолком, но света ее едва хватало. Сквозь витражное окно брезжило закатное солнце.
– Роуз, это вы? – отец спускался по лестнице со второго этажа, видимо, услышав, как открылась и закрылась дверь. Голос его звучал как всегда мягко и тепло. – Я уже начал было переживать, скоро ночь.
– Итан опять убежал к воде, да и у Сомерсонов вел себя совершенно неподобающе.
– Что еще он натворил? – серьезно спросил он, но улыбка все равно его выдавала.
– Он не отвечает, когда с ним говорят, витает в облаках, словно его не волнует ничего вокруг, – продолжала мама. – Я не знаю, что происходит с этим мальчишкой!
Отец усмехнулся.
– Может, он просто думает? Такое иногда случается.
– Думает? – переспросила она. – Дети его возраста играют, смеются, шалят. А он стоит и глядит в воду, будто ждет, что она заговорит с ним.
Отец посмотрел на меня спокойно, внимательно.
– Итан, о чем ты думал сегодня у реки?
Я пожал плечами.
– Не знаю. Я просто… смотрел.
– Ты часто так смотришь, – сказал он. – Как будто хочешь понять, как все устроено.
– Хватит, – вмешалась мама. – Он ребенок. Не нужно заставлять его копаться в себе.
– Роуз, он и сам уже этим занимается, – мягко ответил отец. – Не от нас это зависит.
Он тихо вздохнул и добавил:
– А может быть, это даже хорошо.
Он протянул мне руку, и мы вместе поднялись по лестнице.
Портреты на стенах будто ожили в тенях вечернего света. Казалось, они наблюдают. Но я не отводил взгляда.
– Мистер Колдуэлл… – произнес он вдруг.
– Мистер Колдуэлл! – повторил тот же голос, но уже не его.
Мир вокруг меня содрогнулся и начал постепенно таять, портреты смотрели с лестницы прямо на меня и, будто смеялись надо мной и всем, что происходило. Мать с отцом исчезли в синевато-белом дыме моих грез, и я проснулся.
Свет вокруг меня изменился, стал более холодным и неуютным. Я моргнул, стены комнаты качались как сумасшедший маятник. Влажный воздух имел явный привкус металла и нашатыря.
Я снова оказался в моей камере или где я там нахожусь. Рядом со мной стоял мужчина, совершенно не похожий на моего отца – среднего роста, худощавый, в белом халате и в очках в круглой оправе. Его лицо не выражало абсолютно ничего, но в глазах его читалось некоторое сочувствие и сопереживание. Говорят, что глаза – это отражение состояния души, а также, что именно по глазам можно определить возраст человека. Его глаза были… пустыми. Строгий голос казался фальшивым рядом с тем взглядом – будто за зрачками пряталась боль, старая как само время.
– Вот и славно, – сказал он, заметив, что я открыл глаза. – Я уже начал сомневаться… Но Вы вернулись. Видимо, еще не время.
Он внимательно посмотрел на меня, слегка приподнял бровь и сдержанно произнес:
– Как Вы себя чувствуете?
Я попытался пошутить, хотя голова еще была тяжелой:
– Чувствую себя так, словно меня переехала карета… Если серьезно, я почти ничего не помню.
Доктор кивнул, не меняя выражения лица:
– Это нормально. Вас привезли со множеством переломов и ушибов. Сказали, что Вы выпали из окна, но я слабо в это верю, учитывая обстоятельства, мистер Колдуэлл.
– Привезли? – слабо спросил я.
– Прямо из города. В больницах нехватка мест, да и врачи там, скажем так, не самые надежные. О том, кто Вас сюда доставил, спросите у сестры Анны.
– А Вы..?
– Меня зовут доктор Ольман. Я – врач в приходе святого Луки, где, собственно, мы с Вами и находимся.
Он еще раз внимательно на меня посмотрел, потом что-то записал себе в блокнот.
– За память свою не волнуйтесь, она восстановится, раз уж вы выжили после такого. Сейчас Вам нужен покой. Сестра Анна присмотрит за Вами.
Он развернулся и быстро ушел, оставив меня наедине со своими мыслями. Я помнил отца, или мне казалось, что я его помнил, будто он стоял передо мной всего минуту назад. Его черты лица, такие добрые, вечно смеющиеся глаза, короткая окладистая борода, как у русских императоров. Он был одним из тех исследователей, которые отдают себя целиком на благо науки и просвещения, и подолгу не выходил из своего кабинета.
Он исчез при таинственных обстоятельствах, когда мне было шесть. Просто ушел в свой кабинет на втором этаже – и больше его никто не видел. Полиция тогда проверила весь дом вдоль и поперек в поисках какого-то черного хода, лаза, тайного прохода, но они ничего не нашли.
Мать решила, что во всем виноват дом, что он проклят, что это происки бывших хозяев его, которых зверски убил местный люд, считая, что они – оплот зла и невзгод, но я твердо знал, что дом не при чем.
Я вспомнил дневник отца. Нашел я его спустя пару лет – задвинутый под стеллажом, между старыми справочниками. Он описывал в нем свои исследования. Листая дневник, можно было наблюдать как менялся отец, но о том, что с ним происходило, можно было только догадываться. Ровный почерк превращался в судорожные каракули. Некоторые строки были перечеркнуты. Некоторые страницы были вырваны. Его зарисовки вселяли ощущение беспокойства и беззащитности.
Из того, что я понял, отец хотел доказать существование параллельных миров. Он очень много писал о том, что в разных мирах одно и то же общество находится на разных стадиях развития, и если у нас только-только появилось электричество, то где-то его еще может и не быть. Но, например, третий мир может быть намного более технологичным, чем наш.
Очень много в дневнике было написано о том, как люди из разных миров могли бы помочь друг другу, передавать знания, использовать их, или, например, вернуть вымершие виды животных.
Эта идея крепко устоялась в его голове и он стал искать возможность перехода. Некоторые страницы его дневника были вырваны, но, судя по всему, до чего-то он докопался, так как на последних страницах было описано окно, через которое он увидел город, похожий на Лондон, но безжизненный. Дома стояли пустые, заводы не работали, птицы не летали, там не было ни одной живой души. Только флаги – выцветшие, грязные – продолжали развеваться над крышами, как будто время там застыло.
– Нет… Это всего лишь раненое сознание, – пробормотал я, опуская взгляд.На долю секунды в оконном стекле мне почудился знакомый силуэт. – Отец?.. – хрипло спросил я, но видение тут же исчезло.
Я продолжал блуждать в воспоминаниях, пока в палату не вошла сгорбленная старуха в серой монашеской одежде. В руках она держала миску с чем-то дурно пахнущим.
– Тебе надо поесть, – сказала она, не глядя на меня.
Я не ответил. Просто смотрел, как она подходит.
Не особенно церемонясь, она сунула мне миску прямо на грудь – горячую, тяжелую. Края обожгли сквозь тонкое одеяло.
Запах был едкий. В нос ударила кисловатая, вареная вонь – смесь капусты и чего-то не различимого. Желудок тут же сжался, как от удара.
Она уже шаркала к двери.
– Хлеба нет, – бросила она на прощание, не оборачиваясь.
Я лежал, стараясь не двигаться. Пальцы дрожали, когда я потянулся к ложке. Поднимать миску я не мог – просто ел прямо с груди, ложка за ложкой.
Это было ужасно. Вкус напоминал теплую воду с пригоревшей солью. Но голод был сильнее.
Когда миска опустела, я неловко сдвинул ее вбок. Плечо отозвалось резкой болью. Тело налилось свинцовой тяжестью. Сон подкрался так быстро, что я не успел даже удивиться.
Глава 3
Так прошло несколько дней. Или недель? Доктор Ольман приходил несколько раз – справиться о моем состоянии. Внятного диалога пока не получалось: мысли оставались беспорядочными, мечущимися между сном и явью.
Постепенно я начал ощущать и контролировать тело: сперва пальцы, потом ноги, руки. Голова поворачивалась с трудом, но все же слушалась. Однако даже приподняться на локтях – пока было выше моих сил.
Сестра Анна продолжала приходить. Свет за окном почти не менялся, а время текло вязко, без четких границ дня и ночи. Она появлялась тихо, словно по обряду, с миской в руках. Мешковатая серая ряса, шаркающие шаги, лицо – упрямо смотрящее вниз, куда-то под ноги. Ни единого слова. Как будто я был не человеком, а просто частью маршрута. Очередной точкой остановки.
Запах похлебки поначалу вызывал отвращение – кисловатый, затхлый, с привкусом пережаренной капусты и чего-то землистого. Но я довольно быстро перестал морщиться и даже начал угадывать различия в оттенках. Иногда – намек на сушеный корень. Иногда – будто остатки рыбы, вываренные до прозрачности. Монастырская ли это стряпня? Или так кормят всех?
В этот раз, услышав знакомый скрип двери и приближающееся шуршание подошв, я собрался с силами. Голос все еще звучал неуверенно, как у человека, долго не говорившего, но я выдавил:
– Спасибо, сестра.
Она замерла. На мгновение. Как будто слова ударили ее между лопаток. Потом медленно повернулась – не до конца, но достаточно, чтобы я увидел в ее глазах не раздражение, не усталость… а растерянность. Будто я нарушил какой-то обет, сказав это вслух.
– Сестра, доктор Ольман говорил, что вы можете рассказать… о человеке, который меня сюда привез.
Пауза. Миска в ее руках чуть дрогнула, но она сдержалась.
– Мужчина. Высокий. – ответила она и, развернувшись, зашаркала к выходу.
– Пожалуйста. Мне это очень важно.
Она не обернулась. Дверь скрипнула громче обычного, как будто с упреком. И тишина вновь сомкнулась вокруг.
Я не могу сказать, что помню совсем все – скорее наоборот. Мое детство, колледж, служба – ясные, как гравировка на лезвии клинка. А вот последние месяцы… или годы… будто кто-то вырезал из ткани памяти, оставив лишь клочья. Тени. Эхо. Воспоминания ускользали, как вода сквозь пальцы – еще чувствуешь ее прохладу, но на самом деле ее уже нет.
В двадцать я поступил на службу в Королевский корпус инженеров – тогда еще слишком молодой, с руками, вечно испачканными чернилами и глиной, с головой, полной идеалов и чертежей. Я был одним из тех, кто искренне верил: можно изменить мир, если точно рассчитать нагрузки, правильно разметить опоры и не ошибиться в угле наклона моста.
Первые годы прошли под дождем и солнцем, в сапогах, в которые все равно затекала вода, хоть они и не были дырявыми, и в шинели, прилипшей к спине. Учения, раскладка полевых карт, ругань командиров, первые планы укреплений. Доска для чертежей, привязанная ремнями к седлу, и ночи с линейкой в одной руке, с винтовкой – в другой. В дозоре.
Я служил под началом опытных инженеров – сперва на родине, затем в Гибралтаре. Там, в тесноте казематов и соленых ветров, мы укрепляли береговые батареи, зарывая в скалы массивные казематные блоки. Потом – Ирландия: туман, дождь, дороги через болотистые земли. Резиновый плащ, вечная сырость, трясина под ногами и карты, разъеденные влагой. Мы стояли по колено в грязи, размечая трассы, по которым должны были идти обозы. Один неверный шаг – и сапог исчезал в жиже до щиколотки.
Работа закаляла. Не столько тело – его можно вылечить – сколько характер. Там, среди глины и ржавчины, я понял, что инженерия – это не про расчеты. Это про ответственность. Строить – значит отвечать за то, что не должно рухнуть. Никогда.
Я дослужился до майора – не потому, что был самым умным, а потому, что умел слушать, планировать и нести груз решений. Иногда – по-живому. Иногда – в одиночку. Майор – это уже не просто чин. Это та черта, за которой на карту кладут не только металл и дерево, но и людей. Их жизни. Их страх. Их доверие.
Иногда, когда я стоял на высоте, смотрел на схему будущего укрепления и подписывал рапорт, мне казалось, будто я балансирую на краю. Вроде бы все верно – углы, расчеты, материалы. А все равно – тревога. Потому что всегда есть то, чего не знаешь ты.
А потом был Мадрас. Железо, пыль и солнце.
Мы строили железную дорогу – от побережья к внутренним станциям, через низины и джунгли. Влажный воздух с утра уже был тяжел, как вываренная ткань, и к полудню плавился прямо в легких. Все вокруг пахло потом, раскаленным железом и сухим деревом. Цикады звенели непрерывно, будто кто-то растянул струну поперек горизонта.
Я стоял у импровизированного стола – раскладной доски, положенной на два ящика. Поверх – карта участка, свежая, еще пахнущая краской. По ней перекатывались бусины пота, капая на ткань. Я вытирал лоб, снова и снова щурился на солнце. Даже тень под навесом казалась горячей.
– Капитан Крейн, – сказал я, не поднимая взгляда. – До конца лета мы должны соединиться с группой полковника Велори. Этот участок – ключевой. Без него все остальное не имеет смысла.
– Так точно, господин майор, – отозвался он. Голос ровный, но напряженный. – Наши ребята знают. Они выложились на прошлой неделе. Сегодняшняя новость их взбодрит.
Я кивнул, проводя пальцем по линии маршрута. Подушечка зацепила шероховатую нитку на карте.
– Вот здесь, – показал я, – между деревней Нагарапатти и рекой Тэйн. Если дожди начнутся раньше – это болото превратится в ровное месиво. Мы не пройдем.
Крейн наклонился ближе, губы сжались. Он всегда был сдержан, но сейчас лицо его казалось резче, чем обычно.
– Наши проводники… говорят, местные опять неспокойны. Исчезли несколько караванов. Один из носильщиков вчера ночью не вернулся.
Я вздохнул. В такие моменты разум сигнализирует об опасности, но в голове уже была дата завершения. Таблица. Ответственность.
– Что говорит комендант?
– Он держит людей на постах. Но напряжение чувствуется. Даже среди офицеров.
Я оторвал взгляд от карты. Посмотрел прямо на него. Он избегал взгляда, но уголок рта дернулся.
– Мы строим империю, Крейн. У нас нет роскоши бояться, – сказал я. Голос был тверже, чем хотелось бы. Я знал, что он запомнит эту фразу. И я тоже.
Он кивнул. Медленно. Сухо. После чего ушел.
Я остался один. С картой, жарой, и странным гулом в ушах. То ли кровь, то ли насекомые. Я снова посмотрел на линию. Цель была близка. Скоро мы все будем дома.
Позже я часто возвращался к этому моменту. К той складке на ткани карты. К взгляду Крейна, в котором была тень, которую я не смог или не захотел прочитать.
Это произошло под утро. День только начинался, воздух был еще не раскален, но уже вязкий, как мутная вода. Рельсы уходили вдаль, отбрасывая ровную линию бликов. Тишина стояла такая, что было слышно, как тележка на подшипниках перекатывается по шпалам – характерный, почти певучий скрип.
Я шел чуть в стороне, проверяя разметку. Не помню, кто крикнул. И был ли это крик вообще – может, треск, грохот, или тот особый, вязкий звук, с которым рушится конструкция, когда что-то внутри нее не выдерживает и сдается.
А потом – все разом.
Передняя пара рельс сорвалась с креплений. Тележка взвизгнула, накренилась, перелетела через шпалы и исчезла внизу, в пустоте. За ней – вторая. Третья. Вся платформа с рабочими обрушилась туда, где под рельсами, как выяснилось, не было ни подушки, ни креплений – ничего.
Я успел сделать шаг назад, но все равно оказался в воздухе. На полсекунды. Хватило, чтобы заметить, как правая рельса начинает изгибаться, как воронка, под тяжестью. Еще миг – и все исчезло подо мной.
Падение. Удар. Темнота.
А потом – тишина.
Как выяснилось позже, прошло несколько дней. Очнулся я в госпитале. Глухой звон в ушах. Веки тяжелые. Рот пересохший, язык будто прижгли. Запах железа и хлора, как будто кто-то попытался оттереть смерть, но не до конца.
Я не чувствовал ни ног, ни рук. Только жгучую боль в левом боку и глухой стук в голове, как если бы сердце пыталось выбраться наружу.
Сначала я не понимал, где я. Потом – вспомнил все сразу. Как бывает во сне: мелькание лиц, обрывки слов, чьи-то окровавленные руки, брус – на котором уже не было человека, только отпечаток.
Я выжил.
Из всей группы – только я и еще двое, которых унесли в другую палату. Один умер той же ночью. Второй – это был Крейн – через день.
В палате было тихо. Только капельница – медленный, монотонный звук, как метроном для чужой жизни. Все казалось размытым. Мир плыл. Слова в голове путались. Я ничего не говорил – только смотрел в потолок.
“Несчастный случай”, – сказали потом.
“Погодные условия.”
Но никто не хотел говорить слово “диверсия”.
Но я знал. Точно знал. Просто легче поверить в ошибку или в мать природу, чем признать, что кто-то хотел этого.
Дорога, которую мы строили, оборвалась не только под моими ногами, но и внутри меня.
После этого я не мог продолжать службу. Не потому что не позволяла рана – она зажила. А потому что все внутри разошлось по швам, как неправильно натянутый канат.
Меня отправили в Лондон. А оттуда – в дом, что перешел мне от отца, после того как его признали погибшим. Старый особняк в пригороде, где запах бумаги смешивался с пылью, а половицы скрипели при каждом шаге, будто напоминая о себе.
Первые недели я просто жил. Не более. Читал бессвязные статьи, перекладывал книги с места на место, забывал поесть. Был тем самым соседом, чье окно никогда не светится вечером, и к которому стараются не обращаться.
Однажды, перебирая вещи отца на чердаке, я снова наткнулся на дневник. Все такой же, каким я помнил его с детства: кожаная обложка, выцветшая, с мягкими краями; застежка – давно сломана; страницы пожелтели, но хранили запах чернил. Тогда, в детстве, он казался мне зловещим.
Почерк был до боли знаком: четкий, немного нервный. Такой, каким человек пишет, когда боится забыть.
Исчезновение отца так и осталось тайной. Все детство мне говорили, что он умер. Я никогда в это не верил. Или не хотел.
Я вчитывался в каждую страницу, как в зашифрованное послание. В попытке понять, в надежде найти хоть намек. И чем дальше читал, тем меньше сомневался. А если он не умер? Что, если другие миры существуют и он просто не смог вернуться?
Я думал об этом все чаще. Настолько, что временами начинал слышать шаги в пустом доме, видеть тени у лестницы, ощущать легкий шорох за дверью. Я понимал: это – травма. Разум ищет трещины, чтобы через них вытечь.
Я пытался избавиться от этих мыслей. Прятал дневник, уходил на долгие прогулки – бессмысленные, одинокие, никуда не ведущие. Но каждый раз возвращался к нему. Перелистывал страницы, ища ответы на вопросы, которых у меня толком и не было.
Постепенно мир становился зыбким. Казалось, стоит чуть прищуриться – и все вокруг начнет дрожать. Появятся трещины. Проступит то, что обычно скрыто.
Мне снились улицы, затянутые белым туманом. Башни, уходящие ввысь. Зеркальные залы, в которых отражения не совпадали с движением. Я просыпался с ощущением, будто кто-то смотрит из угла комнаты – и исчезает, как только открываешь глаза.
В один из таких дней, когда я сидел с дневником на коленях, из его корешка выпал тонкий, сложенный вчетверо лист бумаги. Я развернул его осторожно, как реликвию.
Это был чертеж. Ровные, аккуратные линии. Формулы – одни знакомы по колледжу, другие… чужие. Центр занимала странная схема: зеркала, линзы, шестерни. Что это было? Прибор? Устройство? Безумная идея?
Но не это поразило меня.
На обороте, среди бледных заметок, черными чернилами было выведено: “1308”.
Подчеркнуто. С заметным нажимом.
Тринадцатое августа. Моя дата рождения.
Совпадение?
Я пролистал дневник заново. Искал намеки, слова, которые могли бы объяснить. И вдруг вспомнил…
Старинные каминные часы. Они всегда стояли в кабинете, и отец запрещал мне к ним прикасаться. Циферблат с потертыми цифрами, стеклянный купол, латунный механизм.
Что, если…
Скрип двери выдернул меня из мысли.
Сестра Анна вошла, шаркая, как обычно. Но в руках у нее не было миски. Она подошла ближе, остановилась, протянула сложенный вчетверо клочок бумаги – и, не говоря ни слова, ушла.
Я развернул его. На пожелтевшем листке было выведено одно-единственное слово:
“Элайа”.
Глава 4
Я лежал и смотрел в потолок, изредка переводя взгляд на обрывок бумаги. Чернила были густыми, почти матовыми. Почерк – резкий, уверенный, не выражал ни капли сомнения.
Элайа.
Стоило только прочесть – и внутри что-то дрогнуло. Воспоминание молнией перечеркнуло все мысли.
Я знал его. Безошибочно.
Высокий. Черноволосый. Всегда в потертом плаще, пахнущем пылью дорог. Под ним – дорогая жилетка, тщательно выглаженная накрахмаленная рубашка. Даже в жару он не снимал перчатки. Внутренний карман оттягивали массивные фамильные часы на цепочке – он часто открывал их и вглядывался в циферблат, будто сверял не время, а нечто иное.
Часы. Все началось именно с них.
Они стояли в кабинете, на полке над камином. Странные, пыльные. Отец почему-то никогда не позволял мне их трогать. “Когда вырастешь, они будут твоими,” – говорил он.
Я открыл стекло циферблата и выставил часовую стрелку на час дня, а минутную – на восемь минут. Ничего не произошло. “Черт подери,” – выругался я. И тут заметил едва различимый рычажок сбоку, на правой стенке.
Когда я нажал его, послышался тихий щелчок, и циферблат подался вперед – как дверца старинной шкатулки.
Внутри лежал конверт. За ним – странного вида прибор.
Я взял конверт. Он был не запечатан. Внутри – несколько листов бумаги, испещренных отцовским почерком.
“Милая Роуз,
Уверен, что именно ты найдешь это письмо.
Я не знаю, сколько времени прошло с моего исчезновения… но я не мог поступить иначе. Мои исследования стали слишком опасны для нашего мира.
Я нашел способ открыть межпространственный разлом – переход в другое настоящее, в иной мир. Последний год я провел, изучая его, именно поэтому я исчезал по несколько недель. Это были не командировки, как я говорил… это были экспедиции.
Знаю, звучит как безумие – но это правда. В том мире время идет иначе: год здесь обернулся для меня пятью там.
Я не могу продолжать. Там, когда я рассказал о своих открытиях, нашлись те, кто захотел заполучить все себе. Обманом, покупкой, силой.
Я боюсь, что если продолжу, то однажды они найдут путь сюда. А я не уверен, что наш мир сможет им противостоять.
Я решил оставить прибор здесь, вместе с этой инструкцией. Надеюсь, ты сохранишь его и передашь Итану, когда придет время. Думаю, к тому моменту мы будем готовы.
Когда я смотрю на Итана, я вижу в нем себя. Он упрям, жаден до знаний, ищет глубину даже в простом. Я знаю, как тебе это в нем не нравится… но именно в этом его сила.
Мне жаль, что я не смогу вернуться. Там я рассказал слишком много, и это нужно исправить.
Помни: ты – моя муза. Моя любовь. Моя крепость. Храни вас Бог.
Твой муж, Джеральд.”
Из глубины часов я достал прибор. Размером он был с мою ладонь, вытянутый, по форме напоминал слишком большое семя. Корпус выполнен из потемневшей латуни. Сверху его защищало толстое, чуть выпуклое стекло, под которым виднелись шкалы и тонкие металлические указатели.
Я развернул оставшиеся листы. На них отец подробно описывал работу устройства. Прибор имел три шкалы: самая крупная, проходящая по внешнему краю, напоминала компас – ее стрелка указывала направление. Две другие, меньшие, располагались ближе к центру – слева и справа. Левая отображала расстояние, правая, оформленная в виде трехцветного круга, – высоту.
Инструкция гласила:
“Прибор указывает направление и расстояние до ближайшего места, где возможно открыть разлом.
Расстояние определяется с точностью до десяти метров. Шкала градуирована от нуля до десяти километров с шагом в сто метров.
Индикатор высоты основан на цвете:
Синий – цель ниже текущего уровня,
Зеленый – цель на том же уровне,
Красный – цель выше.
Использовать с особой осторожностью.”
Из того, что я понял, отец разработал прибор, способный находить места, где ткань реальности нестабильна. Но это лишь одна из его функций.
Прибыв к такому месту, прибор активируется: по бокам отщелкиваются две скрытые кнопки. На левой стороне выгравирован знак молнии, на правой – циферблат часов. Возможно, символическое разделение – энергия и время. Если зажать обе кнопки одновременно и удерживать в течение пяти секунд, прибор сгенерирует сигнал и передаст его в пространственную аномалию поблизости. Через несколько секунд появится портал.
Но есть одно обязательное условие: рядом должен находиться четкий архитектурный проем – дверь, окно, арка. Портал не создает проход с нуля, он натягивается на уже существующую форму. Если проема нет, портал не сможет стабилизироваться и исчезнет в тот же миг.
На перезарядку прибора уходит ровно сутки.
Даже в этой подробной, почти инженерной инструкции отец не удержался от загадки. В самом низу листа, выведенным аккуратным почерком, стояла строчка:
“Если не знаешь что делать дальше, вернись к началу.” Рядом, чуть выше, было обведено имя: “профессор Хартли.”
Я перевернул лист. На обороте, жирными, неровными буквами, будто написанными в спешке, значилось:
“Не доверяй Д.”.
Когда я вглядывался в страницы отцовского письма, сердце сжималось. Мама… Она умерла, так и не прочитав этих строк.
Она ненавидела этот дом. Все здесь убивало ее. Она не заходила в кабинет отца после того, как он исчез.
Словно боялась что-то узнать, найти, что дух прошлого задушит ее.
Я не виню ее.
Но теперь это все мое. Моя боль. Мое письмо. Мой путь.
Несколько дней я пытался разыскать профессора Хартли – безрезультатно.
Я обращался в коллегию инженеров, в Королевский исследовательский институт, заглядывал в университетские архивы Лондона – никто и никогда не слышал о нем.
Имени Хартли не было ни в списках выпускников, ни в записях научных журналов. Я побывал в технических училищах, университетских библиотеках, даже обратился в Лондонское собрание механиков.
Ничего. Ни единого следа. Такое ощущение, будто этот человек никогда не существовал.
На меня накатывало ощущение безысходности. Вопросы без ответов, пустые поиски, попытки разобраться в чертежах отца – все тщетно.
Я не мог сидеть сложа руки. Не теперь.
Сидя в гостиной, я взял прибор. Он лег на ладонь, тяжелый, непривычный. Через мгновение по коже пробежало едва заметное покалывание – как будто металл отзывался на прикосновение.
Он был холоден. Слишком холоден, как для предмета, пролежавшего в тепле каминной полки.
Я перевернул его, провел пальцем по выгравированным линиям. Под выпуклым стеклом – идеально ровная, неподвижная стрелка. Не дрожала, не колебалась, будто была нарисована – но все же указывала направление.
Прямо на окно, расположенное слева от меня. Указатель высоты был в красной зоне, а стрелка расстояния указывала между двадцатью и тридцатью метрами. Отец исчез из своего кабинета. Значит, там. – подумал я.
Сейчас я понимаю: это не было совпадением. Разом находился именно здесь, на этом месте. Отец не просто так купил этот дом. Он догадывался. Уже тогда.
Я подошел – прибор щелкнул, и по краям выдвинулись две небольшие кнопки, как раз там, где была гравировка.
Не медля, я зажал их.
Пять…
Четыре…
Прибор начал нагреваться. Под кожей побежало странное покалывание – как будто тонкие искры скользили по венам.
Три… два…
Разряд.
Мгновенный, холодный, будто гальванический удар, как в опытах Гальвани, о которых я читал в университетской библиотеке. Он прожег ладонь, но я не отдернул руку.
Один.
Вокруг дверной рамы побежали тонкие световые нити. Сначала едва заметные, словно трещины в воздухе, а затем – аура, мягкая, синевато-голубая, переливающаяся, как свет северного сияния, но направленная внутрь. Пространство в проеме затрепетало, задрожало – и с хрустом словно вывернулось наизнанку.
Портал.
Он не был похож на двери, показанные в романах. Не черная пустота, не вращающаяся спираль. Это было окно, за которым раскинулся… не наш мир. Я видел каменные дома с красной черепицей, улицу, залитую мягким светом. В воздухе висел запах – не объяснимый, но чужой. И очень реальный.
Только тонкая прозрачная пелена, искажавшая линии и цвета, выдает: это не просто вид из окна.
Это проход. Порог.
Я чувствовал, как границы реальности сдвинулись – и отступили, приглашая внутрь. В воздухе зазвенел легкий гул, будто от натянутой струны. Из портала веяло сыростью и чем-то металлическим. Кожа на затылке покалывала – будто что-то за гранью пространства смотрело на меня.
