Все возможно
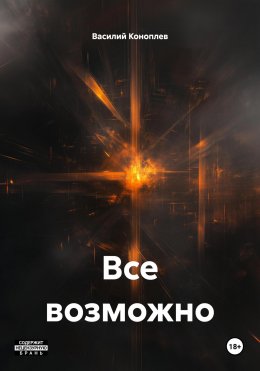
Начало вечера 3 июня 2012 года
Нанятая сиделка, она же медсестра, закончив процедуру, отставила в сторону капельницу, обратилась к лежащему на диване пожилому хозяину квартиры:
– Дмитрий Николаевич, как вы себя чувствуете?
– Лучше, теперь гораздо лучше – бодрясь, ответил пациент патронажной службы.
– Будем считать, что гипертонический криз мы преодолели.
– Да вы и мёртвого поставите на ноги, – вроде как пошутил Дмитрий Николаевич.
– Там, на кухне, ожидает мужчина, говорит, что вы его знаете. Впустить или выпроводить?
– Ну, хоть кого-нибудь увижу кроме вас, дорогая Галина Ивановна, а то привыкну к единственной красоте в вашем лице и возненавижу всех окружающих, – продолжал то ли шутить, то ли ёрничать Дмитрий Николаевич.
Медсестра никак не отреагировала на этот спич. А говорливый клиент продолжал балагурить:
– Вы не представляете, милая Галина Ивановна, как приятно, что именно ваш лик будет последним перед тем, как я навсегда сомкну свои очи!
– Так что, не звать ожидающего?
– Да уж зовите! А вдруг это ангел за мной прилетел, а вы его в шею!
Медсестра, хихикнув, вышла.
Расположившись поудобней, Михалёв приготовился к встрече. В проёме двери возникла фигура немолодого человека, застыла на мгновение. Если бы медсестра замерила в этот момент артериальное давление своего клиента, впору было бы вызывать «скорую».
Перед Дмитрием Николаевичем стоял его отец, погибший шестьдесят шесть лет назад. Именно таким Михалёв его и помнил – крепкий, подтянутый, с острым наблюдательным взглядом, светло-русый, сероглазый. Раскалённые мысли разрывали Михалёву черепную коробку: «Как такое может быть? Это что галлюцинации? Он же погиб в сорок шестом. Мне уже восемьдесят, а ему? Да ведь ему уже сто лет! Или я уже на том свете? Почему он молчит? Может «там» не разговаривают? Почему же, собственно, «там», если я уже умер, значит, «здесь». Интересно, а почему обстановка «здесь» такая же, как и у меня в квартире?»
Из-за плеча нежданного гостя выглянула медсестра:
– Дмитрий Николаевич, я на минутку в магазин выскочу. Хорошо?
– Да-да, пожалуйста! «О, если я говорю с сестричкой, то я ещё не «там». То есть, ещё не умер?» – поток глупостей бурлил в голове Михалёва.
Днём 31 мая 1954 года
Настроение у Дмитрия Николаевича Михалёва, учителя мужской школы, было заметно приподнятое, но радовался он явно не окончанию учебного года, вот и Ольга Ивановна, учительница географии, думала, что именно она была причиной его светящейся улыбки. Он пригласил её сегодня на девятнадцать ноль-ноль в ресторан. Может, Дима решится и сделает ей, наконец, предложение, он ведь сам так и сказал: «Возможно, сегодня произойдут большие перемены в моей жизни!»
Сколько лет они были знакомы? Уже почти пять. Из них четыре года учились в пединституте (она на географическом факультете, он на филологическом) и ещё год вместе проработали в одной школе. Их отношения незаметно переросли из приятельских в дружеские, а затем и в более нежные. Совместное участие в комсомольской жизни, в организации школьных праздников неожиданно сблизило их. Всё чаще и с нескрываемым удовольствием они задерживались после работы, готовясь к предстоящим мероприятиям, а потом подолгу гуляли. Ни у Дмитрия, ни у Ольги не было опыта в любовных отношениях, поэтому первый поцелуй, вызвавший необычайный трепет в их сердцах, случился только этой весной, и теперь они с нетерпением искали минуту уединения и предавались волнующему занятию – целовались. Прикосновения губами к шее вызывали неосознанную дрожь и желание задохнуться от восторга удовольствия. Правда, от поцелуя в ушко Ольга почему-то вжимала голову в плечи и хихикала.
Дмитрий Николаевич, как студент-отличник и стипендиат, обладал правом выбора места распределения после института, и, не особо задумываясь, он назвал свою родную мужскую школу. Работа ему не была в тягость, всё получалось у него как-то само собой. Кроме уроков по литературе, он ещё организовал поэтический кружок. Особо сдружился молодой педагог с семиклассниками. Наладил с ними выпуск школьной газеты, именно не стенной газеты, а самой что ни на есть настоящей тиражной под названием «Привет». Ещё учась в институте, Михалёв увлёкся журналистикой, стал внештатным корреспондентом областной газеты. И благодаря приобретённым связям, Дмитрий Николаевич, устроил шефство местной типографии над родной школой. Ученическая газета пользовалась успехом и среди педагогов, и среди учащихся, и среди их родителей. Сами же ученики были и журналистами, и распространителями газеты. Некоторые статьи из «Привета» публиковались в «Пионерской правде». А репортажи и очерки самого Дмитрия Николаевича постоянно печатали в областной газете «Ленинское знамя». Вот именно с редакцией этой газеты и было связано сегодняшнее особо приподнятое настроение Дмитрия. Пожилая секретарша директора школы Петровна зашла в кабинет литературы и сообщила, что позвонили из «Ленинского знамени» и попросили передать для учителя Михалёва, что главный редактор газеты Смирнов ждёт Дмитрия Николаевича у себя. Этого приглашения молодой педагог ждал с нетерпением и давно. От избытка чувств он неожиданно поцеловал в щёчку смутившуюся секретаршу, та зарделась – она уже забыла, чтобы кто-нибудь её целовал.
Как-то, после очередной удачной публикации Смирнов пригласил внештатного корреспондента к себе и спросил, а не желал бы Дмитрий поменять место работы и перейти в редакцию областной газеты. Тогда, а это было в конце зимы, Дмитрий растерялся и попросил дать ему возможность завершить в школе учебный год, чтобы до выпуска не бросать своих учеников. Смирнов удивился, мол, от таких предложений не отказываются, но согласился, похвалив молодого человека за совестливость.
А вот сегодня Михалёв, зайдя в кабинет главного редактора, услышал категоричное:
– Пиши заявление о приёме на работу. С директором школы я всё согласовал. Задерживать он тебя не станет. С первого июня будешь принят к нам переводом, так что получай расчёт, прощайся с коллегами и с завтрашнего дня на работу в редакцию. Кстати, Дима, как идут дела по моему заданию?
Ещё тогда, при первом разговоре зимой, Смирнов поручил Дмитрию начать журналистское расследование по теме очень необычной для начинающего корреспондента. Начатая в 1953 году амнистия, привела к тому, что в стране быстро потребовалось найти миллион двести тысяч новых рабочих мест. Где их было взять? В общем, каждый из освобождённых устраивался, кто как мог. В их областном центре тоже появилось немало бывших зэков. Но, по правде говоря, вернувшаяся из лагерей и тюрем уголовная шушера и не собиралась начинать честную трудовую жизнь. К концу зимы 1954 года особо криминальными сделались окраины города, где и без того процветало пьянство, а с появлением соскучившихся по свободе бывших заключённых дебоши, грабежи, пьяные мордобои и хулиганские разборки стали повседневным бытом рабочих окраин. Школа, в которой работал Михалёв находилась именно в таком районе. Потому редактор и предложил ему заняться социальным исследованием криминальной обстановки в среде его учеников и их родителей. Эта не та тема, которой хотелось бы заниматься Дмитрию в газете, но тогда отказаться от задания он не решился, а как старательный комсомолец привык выполнять поручения добросовестно и как бывший отличник – доводить дела до конца.
– Информации накопилось много, – похвалился Михалёв, – хотелось бы с вами обсудить, как построить статью на основе собранного материала, – Дмитрий слегка смутившись закончил фразу, как бы извиняясь, – вот только я с собой не захватил блокнот с записями.
– Спешить нам некуда, – успокоил его Смирнов. – Завтра я тебя послушаю. Статья эта будет взрывная, у меня тоже есть, чем с тобой поделиться. Мне тут друзья из прокуратуры подкинули немало сведений. Ну, а пока беги, забирай документы.
В школу Дмитрий Николаевич летел как на крыльях. Приветствовал встречных, как на празднике. Директор, Иван Пертрович Коротков, протянул ему навстречу левую руку, правую-то он потерял ещё в Гражданскую:
– Ну что ж! Я рад за Вас, Дмитрий Николаевич! Вижу, тесно Вам в школьных стенах. Оно и понятно. Мальчишек жаль, они к Вам привязались.
Дмитрий, смущаясь, ответил на рукопожатие:
– Да я тоже как-то без них и не представляю себя. Будем вместе продолжать выпускать нашу газету.
– Вот и хорошо! Вот и договорились. Заглядывайте к нам. Кстати, и я не долго задержусь здесь, – неожиданно директор перевёл тему разговора на личное. – Поделюсь с тобой не для переноса в чужие уши. Грядёт очередная реформа. Женские и мужские школы расформировываются, и уже с сентября все средние учебные заведения будут смешанными. А меня на пенсию.
– Так это ж здорово! – вырвалось у Дмитрия Николаевича, но когда он увидел удивлённое лицо директора, понял двусмысленность своей радости. – Ой! Нет, «здорово» в смысле, что девчонок и мальчишек объединяют под крышей одной школы.
Вот эта неожиданная новость и собственная радость от разговора с редактором, вот они-то и светились в улыбке Дмитрия, когда его увидела в школьном коридоре Ольга.
– Так чтó, Дмитрий Николаевич, – изобразила она показную официальность, насколько это было возможно в присутствии учеников, – изменения в вашей личной жизни грядут?
– Ещё какие, Ольга Ивановна! – поддержал он её напускную строгость. – Сегодня вечером ожидается сообщение ТАСС по этому поводу.
– Буду с нетерпение ждать! – и она прошла мимо, расцветая в улыбке от собственных догадок. Вечер в её воображении должен был завершиться чем-то необыкновенным.
– Дмитрий Николаевич, Дмитрий Николаевич! – по коридору нёсся семиклассник Ваня Коротков, его самый активный участник по изданию школьной газеты. – Мои стихи опубликовали в журнале «Пионер».
Учитель и ученик обнялись и закружились на радость обступившей их детворе.
* * *
Дружба Дмитрия и Вани завязалась с первого дня их знакомства. Что-то необъяснимое было в том, как им было необходимо общение друг с другом. Учитель всячески поддерживал в ученике стремление к поэзии, а Ваня всей душой воспринял идею создания школьной газеты и сразу стал надёжным помощником Дмитрия Николаевича. После выхода в свет первого номера «Привета», название газеты, кстати, предложил именно Ваня, учитель подарил своему юному товарищу необычный блокнот. Страницы в нём были разлинованы, а в нижнем левом углу красовался вензель – сплетение букв. И почему-то Ваня в них увидел буквы «В» и «Д», хотя Дмитрий Николаевич пояснил, что это сочетание букв «Л» и «З», то есть «Ленинское знамя». Ещё в 1952 году, к тридцатипятилетию революции, редактор газеты Смирнов заказал большой тираж блокнотов для своих сотрудников, и студенту-филологу Дмитрию Михалёву тоже вручили эту журналистскую принадлежность как внештатному корреспонденту. Дима хранил этот подарок, пользуясь самодельными записными книжками, вырезанными из ученических тетрадок. А когда он вручал блокнот Ване, вдруг представил себя Василием Жуковским, а ученика – Александром Пушкиным. Растроганный мальчишка обнял своего наставника, а учитель потрепал кучерявую голову паренька. С тех пор их отношения более напоминали дружеские, даже, можно сказать, братские, нежели ученически учительские. И если случались дни, когда они не виделись, это были муки мученические. Белобрысый учитель и чернявый ученик – внешне они, казалось, были абсолютно разные. Вот только глаза у обоих серые, и притягательная улыбка постоянно скрыта в уголках губ. Но объединяло их, конечно, не это. А что? Безотцовщина? Может быть. Ваня своего родителя помнил плохо, был ещё совсем мал, когда тот пропал. У Дмитрия отец был военным, но погиб уже после войны, в 46-ом. А мать он потерял еще раньше, в 43-ем. У неё было белокровие. Зато у Вани мама была жива, и жили они с ней в земляном домишке.
Таких хибар было много в рабочем посёлке, который возник во время войны, когда вместе с эвакуированным заводом в их областной центр прибыло несколько эшелонов с семьями рабочих. Хотя самих рабочих было немного, только лишь их семьи. Обеспечить жильем всех сразу было просто невозможно. Вот и приспособились сами эвакуированные копать ямы, укреплять стенки, сооружать подобие крыши, накрывать её дёрном и переселяться под землю. Хоть и промерзали порой стены, но в таких землянках было намного теплее, чем в палатках. Пиломатериалом местная администрация более-менее снабжала. Говорили, что это временный выход из положения. Кто ж этого не понимал?! Но закончилась война, шёл уже пятьдесят четвёртый год, а землянки для многих так и оставались единственным приютом.
Рабочий посёлок – это неофициальное название стихийно возникшего городского района. Сколько друзей-одноклассников было у Дмитрия из этого посёлка! Но, приходя к ним в гости, он всегда чувствовал себя неловко. То ли из-за того, что постоянно ожидал упрёков в свой адрес, мол, вот интеллигенция живёт в благоустроенном доме с ванной и тёплым туалетом под крышей, то ли из-за какого-то особого образа жизни посельчан. Ему казалось, что рабочинские ребята были покрепче, поразвитее остальных пацанов. Общались они более открыто, но всегда присутствовала в них некая тайна, как будто они знали нечто такое, что городским недоступно. А если честно, Димка школьником даже побаивался старшеклассников из Рабочего. Нередко он видел в их руках сверкающее лезвие «финки», иногда сверстники приглашали его в посадки пострелять из «пугачей» – самодельных пистолетов. Случалось ему принимать участие и в массовых драках, и в разборках один на один до первой крови. Нет, трусом Дмитрий никогда не был, хлюпиком тоже, за это и уважали его однокашники, но всё же, он всегда испытывал внутреннее волнение, наведываясь в Рабочий посёлок.
Это было в школьном детстве, но и теперь, уже как учитель посещая своих воспитанников, он по-прежнему ощущал некоторое неудобство. Так случилось и в тот раз, когда на весенних каникулах Дмитрий Николаевич заглянул в землянку Коротковых в Рабочем посёлке.
25 марта 1954 года
– Ой, какой молоденький и уже красивый, – громкое обращение из уст изрядно подвыпившей соседки относилось явно к нему.
– Да ты шо, Мань, он тобой побрезгует, мля, эт только я тебя так крепко люблю, мля, – подначивал разговорчивую бабу её беззубый хахаль, – а то ж, мля, интеллигенция.
Парочка, разогретая выпитым и весенним солнцем, сидела на завалинке домика, соседнего с Коротковыми.
– Эй, красавчик, побрезгуешь мной? – назойливо приставала к Дмитрию пьяная хозяйка.
Михалёв счёл за лучшее промолчать. Открыл калитку во двор своего ученика, оставалось сделать несколько шагов до двери, ведущей вниз, в землянку, и тут над его головой пролетела пустая бутылка.
– Эй, ты, белобрысый, чо молчишь, мля? Не уважаешь чо ли? К тебе дама обращается, мля! – шепелявый ухажер пытался обострить ситуацию.
– Ой, не могу, Куцый! – закатилась смехом польщённая баба. – Дама! Это я что ли? Дама! Ну, ты даёшь!
– А чо, мля! – заржал ухажёр, обнимая свою зазнобу. – Ты для меня и дама, и леди, мля!
Довольные друг другом, они забыли уже о соседском госте и, не раскрывая объятий, спотыкаясь, скрылись в дверях своей избушки, перед этим несколько суетливо потоптавшись перед входной дверью – она у них, как положено, открывалась наружу.
А навстречу учителю из землянки уже выскочил Ваня:
– Дмитрий Николаевич, здравствуйте! Вы к нам? Проходите! Мама, к нам гости!
Ваня опять быстро заскочил в землянку и придержал дверь, она открывалась вовнутрь. Эта народная хитрость позволяла зимой спокойно выбираться из дома после снегопадов и буранов, а заваливало снегом порой с крышей. Тех же, у кого двери (по пожарной безопасности) открывались наружу, обычно откапывали соседи или сердобольные родственники, у кого были дома с высоким крыльцом.
Мать у Вани, женщина неопределённого возраста, была, казалось, малообщительна. Всегда в платочке, из-под которого выбивались такие же, как у Вани черные кудряшки. Не первый раз Дмитрий Николаевич встречался с ней и всегда ловил на себе очень внимательный, если не сказать пронизывающий, изучающий взгляд Надежды. Отчество своё она не назвала: «Просто Надежда», – представилась при первом знакомстве. Глаза у неё, в отличие от Ваниных, были тёмно-карими, они притягивали и завораживали. И, утопая в её зрачках, Дмитрий смущался. «Очи чёрные, очи жгучие», – вертелось на языке у молодого человека, когда он виделся с Надеждой. У него дома ещё с довоенных времён стоял патефон, и среди пластинок был романс, он так и назывался «Очи чёрные»:
