Мы, Николай II
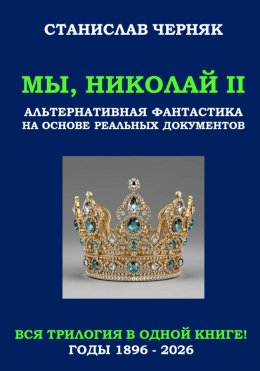
Первая часть
Вступление
Что я помню? Несколько последних секунд, размытые контуры приближающегося грузовика, истерический скрип тормозов и удар… а потом – боль, обволакивающая, всепоглощающая, и крик, разрывающий уши. А буквально через мгновение – темнота и падение в спасительную бесконечную бездну небытия…
– Николай Александрович, что с Вами? – Я открыл глаза и внезапно зажмурился от обилия золота, бархата и странных всполохов света. Воздух был сладковатым, тёплым, немного спёртым. Сотни прекрасно одетых мужчин и женщин, стоявших вокруг, устремили на меня свои взгляды. Свет отражался от драгоценных камней на их орденах и украшениях и пытался ослепить меня бесчисленными солнечными зайчиками.
– Где я? – В моём вопросе самому себе явно слышался испуг, мысли лихорадочно прыгали в голове. Если я умер, то что окружает меня – Рай или ад? Судя по запаху ладана, зажжённым свечам и обилию священнослужителей, скорее всего, я оказался в Раю. Но где же обещанный свет в конце тоннеля, где полёт в пустоте и короткометражный фильм о моей грешной жизни? Я почувствовал себя даже в некоторой степени ущемлённым, но потом усилием воли отогнал эти дурацкие мысли и постарался внимательнее осмотреться.
– Николай Александрович, – голос был мягкий, бархатный, насквозь пропитанный заботой и уважением. – Николай Александрович, как Вы себя чувствуете?
– Спасибо, всё хорошо, – с трудом вымолвил я, до конца ещё не осознав своей роли в происходящем действии. Возможно, я сошёл с ума или мне всё это снится? Мой взгляд скользнул по собеседнику – довольно высокий, статный, седой с основательной залысиной мужчина в чёрном мундире, украшенном золотыми аксессуарами, классифицировать которые при всём желании я в тот момент не мог. Потом я перевёл свой взгляд вниз и, к своему огромному удивлению, понял, что чёрные брюки на мне почти до пола прикрыты шикарной горностаевой мантией. Вот уж чего точно никогда не было в моём гардеробе.
– Николай Александрович, прошу, ещё буквально пара шагов вверх, к алтарю, – рука вежливо отстранилась, а я смог сделать довольно уверенный шаг навстречу благообразному священнослужителю в праздничной золотой рясе.
Всё происходившее дальше вспоминается мне будто подёрнутым лёгкой дымкой нереальности. Сначала оборвалась и упала на пол какая-то блестящая цепочка, как я узнал позднее – от ордена Андрея Первозванного, потом – то ли вскрик, то ли всхлип красивой пожилой женщины и тихий взволнованный шёпот окружающих. Голова страшно закружилась, мне вновь стало нехорошо. Проведя по толпе мутным рассеянным взглядом, я внезапно понял, что одно из лиц мне очень знакомо. Впрочем, как и происходящее таинство.
– Николай Александрович, преклоните, пожалуйста, колено, – человек, прошептавший это, сделал три солидных шага назад. Мой лоб и руки помазали чем-то холодным и ароматным, а потом вручили два очень странных предмета.
– Скипетр – в правую, державу – в левую, – шептал чей-то приятный голос. Огромная корона легла на мою голову. Никогда не знал, что короны так много весят. Тяжела ты, шапка Мономаха, – шёпот, скорее всего, принадлежал моему подсознанию. И действительно, под короной была настоящая шапка алого цвета. На миг я представил себя – горностаево-золотистым, в шикарной короне, со странными предметами в руках…
– Звезда в шоке, – прозвучал насмешливый голос в моей голове, а в реальности у меня забрали державу со скипетром, а вместо них в руки заботливо вложили ещё одну корону, поменьше, которую у меня хватило ума возложить на голову строгой симпатичной женщины, находившейся рядом со мной.
– Повторяйте за мной, – буквально прошелестел священнослужитель в золотом облачении, – «Исповедую неизследимое Твое о мне смотрение и, благодаря, величеству Твоему поклоняюся, Ты же, Владыко и Господи мой, настави мя в деле, на не же послал мя еси, вразуми и управи мя в великом служении сем… Буди сердце мое в руку Твоею, еже вся устроити к пользе врученных мне людей и к славе Твоей…».
Как только заключительное слово этой необычной молитвы растворилось в необъятных просторах храма, сильные руки помогли мне встать с колена. Каково же было моё удивление, когда коленопреклонёнными оказались все окружающие меня. Митрополит (ну явно никак не ниже митрополита) также коленопреклонённо прочитал просительную молитву: «Покажи его врагам победительна, злодеям страшна, добрым милостива и благонадежна, согрей его сердце к призрению нищих, к приятию странных, к заступлению нападствуемых. Подчинённое ему правительство управляя на путь истины и правды, и от лицеприятия и мздоимства отражая…».
Похоже, меня короновали. В самом что ни на есть прямом смысле. Внезапно я увидел своё лицо, отразившееся от одной из золотых колонн. Округлая поверхность исказила его, и, словно в комнате кривых зеркал, я узрел свой лик, украшенный пышными усами и бородкой, которые я никогда не носил. Лицо было вытянутым, удивлённым и немного испуганным, а снизу гордыми складками стекал горностай и ярко сверкали начищенные до блеска сапоги…
Глава 1
– Ники, – очень тихо произнесла красивая строгая женщина, чью голову несколькими минутами ранее я украсил короной. – Возьми меня за руку, я очень боюсь этот крутой лестниц.
– Эту крутую лестницу, – автоматически поправил я. – Слово «лестница» женского рода – она моя.
– Теперь в этой стране всё есть твой, – она положила свою ладонь поверх моей, и мы гордо пошли вниз. Ходить в мантии до пола, да ещё с увесистой короной на голове, когда в правой руке у тебя скипетр, а в левой – держава и рука молодой красотки, то ещё удовольствие, скажу я вам. Мы чуть не упали, когда радостная и возбуждённая разноцветная толпа на улице взревела при нашем появлении. Единственной отрадой был воздух – чистый, прозрачный, с удивительной смесью ароматов свежей выпечки, цветов и лёгкими нотками мускуса и бергамота.
Кто же эта незнакомка? Чтобы ответить на этот вопрос, мне для начала нужно сориентироваться – где я. Резко обернувшись, я понял, что мы только что вышли из Успенского собора. Так, Успенский собор, Москва, коронация… похоже, только что я внезапно стал русским императором. Вот уж воистину – не было печали, да черти подкачали. Мало мне проблем на работе, давайте теперь наваливайте на меня всю страну. Ладно, с этим разберёмся потом. На вопрос где, кажется, я ответил. Теперь надо определиться с вопросом – когда? В каком времени, чёрт побери, я нахожусь?
В этот момент королева, буду пока называть её так, пока не познакомлюсь поближе, гордо отплыла от меня, а я оказался под каким-то совершенно невообразимым огромным балдахином, украшенным вышивками, стразами, перьями. Сверху всего этого великолепия располагались две обезьяны – были это чучела животных или живые представители африканской фауны, мне неизвестно и по сей день. С обеих сторон меня окружали важные дядьки в парадных мундирах и шапках, отороченных мехом, а спереди вышагивал солдатик в высоченных платформах, живо напомнивший мне одну из игрушек моего детства. Чуть поодаль я разглядел стройные войсковые ряды, и в этот момент всё в моей голове встало на свои места. В руках солдат воинского караула я отчётливо разглядел трёхлинейную магазинную винтовку Мосина образца 1891 года. Час от часу не легче, теперь понятно, почему тот военный с залысиной обратился ко мне – Николай Александрович. В тот момент я не придал этому особого значения, мы ведь не особо удивляемся, когда незнакомые люди называют нас по имени-отчеству. Зато теперь я отчётливо понял, что злодейка-судьба решила переселить меня неведомым образом в тело многострадального Императора Российского Николая II.
Мозг начал действовать рационально. Как я здесь оказался, мы выясним позже. Пока примем за основу, что я император Николай. Бред, какой бред. Отставить. Дальше – его, то есть теперь мою красавицу-супругу после крещения зовут Александра Фёдоровна. Ники и Аликс, – заботливо подсказал мозг. Так, с этим разобрались. Пожилая дама, соответственно, – моя, точнее Николая Александровича Романова, матушка. Как бишь её? Мария Фёдоровна. Немецких имён этих дам я, конечно, не вспомню, лучше надо было учить историю. Год у нас – 1896, день – 14 мая.
Что ещё я помню про коронацию? Торжества шли долго, потчевали вкусно, горы подарков, вечером 18 мая был бал у французского посланника, на котором новоиспечённый император вытанцовывал вместе с супругой, что вызвало огромное недовольство в обществе. Так плохо танцевали? – я непроизвольно улыбнулся. Нет, тут что-то иное.
И в этот момент мой мозг буквально пронзило страшное словосочетание – Ходынское поле. Буквально считанные дни отделяли меня от одной из самых страшных трагедий девятнадцатого века, не столько даже числом жертв, сколько своими последствиями для авторитета действующего монарха.
Пока мы здесь развлекаемся, разодетые как дурацкие павлины, там после ужасной давки будут растаскивать и вывозить сотни, а возможно, и тысячи трупов.
Твою мать! Надо срочно что-то предпринимать, иначе, дорогой самозваный Николай, тебя, как и в прежней версии событий, вместе с семьёй через 22 года ждёт страшный подвал и терновый венец мученика.
Эта мысль вызвала во мне гнев. Ну уж нет, я постараюсь всё изменить. История не терпит сослагательного наклонения, но в данном случае ей придётся потерпеть. Скорее бы закончился этот маскарад, чтобы выдохнуть, собраться с мыслями и попытаться изменить ход истории.
Эх, сейчас бы включить хотя бы самый захудалый смартфон. Измени ход истории, если почти ничего не помнишь и никого в лицо не узнаёшь. И тут мне вспомнилось знакомое лицо, которое я увидел в Успенском соборе. Неожиданно я понял – кто это. Портрет этого человека долгие годы висел у кровати моей матери. Это же Иоанн Кронштадтский, бессребреник и великий молитвенник, святой, к которому со своими семейными проблемами всегда обращалась моя матушка. Обязательно нужно будет приблизить его, мудрый советчик точно не помешает, а он ведь ещё славится как предсказатель.
Мозг лихорадочно работал. Кто организует коронационные мероприятия и отвечает за их проведение? Конечно же, мой новый «дядя» Сергей Александрович Романов – пятый сын Александра II, московский генерал-губернатор, первый председатель Императорского православного палестинского общества. А помогают ему (скорее всего) родные братья – Владимир, Павел и Алексей. Похоже, отсутствие смартфона положительно влияло на мой мозг – в критической ситуации он начал извлекать из глубин памяти давно забытую информацию.
Не буду утомлять вас подробностями этого помпезного и бесконечного дня. Помню, что мы вышагивали очень долго, посетили Архангельский собор, приветственно махали бушующей праздничной толпе с балкона. Присесть удалось только во время торжественного обеда в Грановитой палате. Меню этой трапезы я когда-то уже видел в Третьяковской галерее, поэтому рисунок Виктора Васнецова в самом начале изысканного меню, отпечатанного на очень красивой бумаге, особого моего внимания не привлёк. Несмотря на мрачные мысли, аппетит по доброй традиции меня не подводил. Хорошо помню вкус бесподобного рассольника, паровой стерляди, барашка, пирожков и салата из спаржи. Больше всего порадовал десерт – фантастически вкусное мороженое и нежные кусочки фруктов в вине.
Супруга пыталась развлекать меня милыми невинными фразами, но завладеть моим вниманием ей не удавалось, отвечал я коротко и односложно. Мысли мои были далеко от этой светской беседы. Я старался улыбаться, но взгляд от обеденных блюд поднимал редко. Красота вокруг была необыкновенная, но обилие гостей и гул их застольных разговоров начали меня раздражать. В какой-то момент, ближе к десерту, ко мне пришло осознание, что довольно худой, с усами и аккуратной бородкой человек, сидящий на некотором расстоянии от нас с «супругой» справа, и есть «мой дядя» – Сергей Александрович Романов, московский генерал-губернатор.
Но ведь для начала разговора надо как-то обратиться к человеку. Не «дядя Серёжа» мне его называть, в конце концов. Лучше всего – по имени-отчеству. Я отодвинул от себя вычурную тарелку, промокнул расписной салфеткой губы и, стараясь выдавить из себя дежурную улыбку, повернулся к своему соседу по застолью справа.
– Сергей Александрович, я хочу, пользуясь случаем, от всей души поблагодарить Вас за прекрасную организацию коронационных торжеств, – моя улыбка стала ещё чуть шире. – Но я хотел бы после обеда обсудить организацию предстоящих народных гуляний на Ходынском поле.
– Ваше Величество, с удовольствием, – на самом деле особого удовольствия на его лице я не увидел. – Давайте проведём небольшой семейный совет после трапезы.
Согласно кивнув головой, я уверенно взял правой рукой бокал шампанского и осушил его одним глотком. Разговор предстоял непростой, нервный. Шампанское взорвалось в голове ярким фейерверком, даря уставшему мозгу краткий миг эйфории.
– Я требую продолжения банкета, – голосом незабвенного Юрия Яковлева взвизгнул проказливый бесёнок в моей голове. Да, скучать мне здесь явно не придётся!
Глава 2
Сразу после коронационного обеда мы проследовали в большую красивую залу с мягкими креслами, расставленными большим кругом. В рисунке ткани явно прослеживались главные атрибуты царской власти – двуглавый орёл с державой и скипетром в когтистых лапах и маленькие изображения короны Российской империи. Кресел было восемь. Согласно своему новому статусу я догадался занять самое огромное, больше всего напоминающее трон. Слева от меня расположилась Аликс, справа – Мария Фёдоровна, а вся дружная четвёрка дядьёв – напротив нас. Ещё один человек, как я узнал впоследствии, – московский обер-полицмейстер Александр Александрович Власовский, сел как бы в кругу вместе со всеми нами, но в тоже время на некотором удалении.
– Друзья, Его Величество собрал нас, чтобы обсудить дальнейший ход праздничных торжеств, – взял на себя роль модератора Сергей Александрович. – Особенно Его Величество беспокоят предстоящие народные гуляния на Ходынском поле.
– Благодарю, Сергей Александрович, – я решил взять инициативу в свои руки. – Особенно беспокоят меня два момента – обеспечение безопасности огромного количества собравшихся там людей и качество раздаточного материала, то есть подарков.
– Ваше Величество, волноваться не о чем. Поле огромное, почти 100 гектаров. По периметру поля мы поставили временные «театры», эстрады, балаганы, лавки, в том числе 20 деревянных бараков для бесплатной раздачи 30 000 вёдер пива, 10 000 вёдер мёда и 150 ларьков для раздачи бесплатных сувениров, «царских гостинцев» – 400 000 подарочных кульков, – Сергей Александрович отчитывался голосом бывалого администратора филармонии крупного города.
– С подарками тоже всё хорошо, – забасил самый старший из братьев, кажется, Владимир Александрович. – Комплект отличный – памятная кружка, ситцевый платок, фунтовая сайка из крупитчатой муки от Филиппова, полфунта колбасы, пряник вяземский с гербом, да мешочек со сладостями.
– Всё это, кроме саечки, будет раздаваться завёрнутым в красивейшие ситцевые платки Прохоровской мануфактуры, – елейным голосом пытался нас убаюкать Сергей Александрович. – С одной стороны – прекрасные виды Кремля и Москвы-реки, с другой – ты, Ники, с супругой. Да ещё жетончики памятные начеканили.
– Жетончики и прянички – это чудесно, – таким же ангельским голосом подхватил я, заметив этот внезапный переход на «Ники» в обращении. – А что вы собираетесь делать с оврагами, промоинами и ямами, оставшимися после добычи песка и глины? Металлические павильоны на «Всероссийскую ярмарку» в Нижний Новгород вывезли, а ямы никто заделать не удосужился. Давку организовать желаете?
Александровичи удивлённо переглянулись. Такой въедливый Ники им явно был не по душе.
– Да, и ещё хотелось бы уточнить, сколько полицейских вы поставите в оцепление? – терять наступательную инициативу в мои планы не входило.
– Порядка 1800 человек.
– Этого крайне мало, отменяйте другие мероприятия на этот день и стягивайте все силы к месту народных гуляний. Полицейским установить двойную доплату, в четыре утра поле должно быть полностью оцеплено, людей пропускать группами организованно и прямо на входе вручать подарки, тогда многие сразу покинут поле вместе с детьми, останутся только любители праздника и медовухи.
– Александр Александрович, Вы слышали распоряжения Его Величества? – обратился Сергей Александрович к человеку, сидящему чуть поодаль.
Тот согласно закивал, покраснел и, явно преодолевая огромное внутреннее сопротивление, поднял руку, как прилежный школьник. Я одобрительным кивком головы предоставил ему слово.
– Тут есть один момент, даже, право слово, не знаю, как лучше сказать, – наконец он собрался с духом и продолжил гораздо увереннее. – Дело в том, что устройство «коронационных народных зрелищ и увеселений» в Москве изъято из ведения Московского генерал-губернатора, Великого Князя Сергея Александровича, и всецело передано Министерству Императорского Двора, равно как и принятие мер по охране и обеспечению безопасности народных гуляний.
– Это решение я отменяю, за безопасность на Ходынском поле с данного момента целиком и полностью отвечают московские власти, – уверенно заявил я, явно входя во вкус единолично принимать властные решения. – И последнее, подарки прошу хранить в прохладном месте, вдали от ярких солнечных лучей, на Ходынку завозить непосредственно перед мероприятием, а то всё либо сгниёт, либо будет испорчено крысами.
– Мне не нравится твой тон, Ники, – неожиданно взорвался Владимир Александрович. – Ты всегда должен помнить, что прежде всего ты наш родной племянник.
– Прежде всего я Император Российский, помазанник Божий, а от родственников своих жду помощи посильной, а не раздоров и противоречий, которые мной будут пресекаться в зародыше, – заявление «дяди» меня по-настоящему взбесило, и в звуках моего голоса явно слышался металл. – А для бунтовщиков и разносчиков семян раздора у меня Сибирь есть необъятная, коей, кстати, тоже в ближайшее время стоит заняться всерьёз.
Мария Фёдоровна и Аликс, не проронившие ни слова за всё время «мужского» разговора, с уважением и одобрением посмотрели на меня.
– Высокочтимые родственники, не смею более вас задерживать, – с этими словами я встал из необъятного кресла, заставив этим всех последовать моему примеру.
– Ники, Аликс, можно вас буквально на несколько минут, – Мария Фёдоровна осторожно взяла меня за рукав праздничного мундира и поманила к малозаметной невысокой дверце, которая, как оказалось, скрывала небольшую, довольно милую комнату с камином и тремя компактными креслами.
Вдовствующая императрица показала рукой на кресла, и мы уютно расположились в них.
– Николай, ты взрослеешь прямо на глазах, – мать явно была довольна прошедшим семейным совещанием, – надеюсь, ты понимаешь, что одного металла в голосе недостаточно? У власти сейчас в основном стоят люди, назначенные ещё твоим отцом. Для них братья отца – это почти он сам, а ты – юный принц, чьи распоряжения далеко не обязательны к выполнению. Надеюсь, не обижу тебя, если дам добрый совет.
– Конечно, матушка.
– Необходимо в срочном порядке поменять людей, занимающих ключевые посты в государстве, только так ты сможешь взять в свои руки все нити государственной власти. Предлагаю начать с Ивана Николаевича Дурново. Как председатель Комитета министров он откровенно слаб, уж прости меня за мою нынешнюю прямоту. Между нами говоря, человек он приятный и исполнительный, по-своему милый, очень хитрый, но в культурном плане довольно ограниченный, – Мария Фёдоровна пристально посмотрела на меня и продолжала. – Он, как хороший исполнитель, был довольно уместен в окружении твоего отца, но его идеи об умышленном удержании народа в глубоком невежестве явно не соответствуют времени. Здесь требуется кто-то более умный и современный.
– Витте? – со вкусом произнесла немецкую фамилию Аликс.
– Да, Сергей Юльевич явно перерос свою должность министра финансов, – мать-императрица внимательно посмотрела на меня. – Как он тебе, Ники?
Собрав в единое целое все возможности своей не самой прекрасной памяти, я произнёс: – Если не считать его небольшие ранние грехи (уже не помню за что, но в своё время он был под следствием), то мы ему многим обязаны.
– Да, его критика использования двух мощных грузовых паровозов для разгона царского поезда до высоких скоростей пришлась очень по вкусу твоему отцу. Реформы железнодорожных и таможенных тарифов тоже себя оправдали, – Мария Фёдоровна задумалась, явно припоминая факты для новых аргументов в пользу своего протеже.
– Он ещё ввёл на железных дорогах подснежники, – попыталась вставить своё веское слово Аликс.
– Подстаканники, дорогая. Это действительно удобно, чтобы не обжигать руки, особенно когда вагон в пути раскачивает, – мать-императрица улыбнулась. – Но куда полезнее мне представляются его идеи о строительстве Транссибирской магистрали и Китайско-Восточной железной дороги. Кстати, переговоры с Германией и Китаем он также провёл очень удачно и выгодно для страны.
– Он есть русский Бисмарк? – мою вновь назначенную супругу буквально распирало от желания участвовать в таком важном разговоре и принимать государственные решения.
– Возможно, милочка, хотя не все ваши исторические параллели мне кажутся уместными, – дипломатично улыбнулась умудрённая жизненным опытом «мать».
В итоге мы договорились, что завтра рано утром я встречусь с Сергеем Юльевичем Витте и обсужу с ним наши дальнейшие действия. На полдень того же дня была назначена встреча с Иоанном Кронштадтским. А весь остаток дня сегодняшнего мы вновь посвятили бесконечным праздничным мероприятиям, встречам и разговорам.
Глава 3
Интернет в определённой степени в ту ночь мне заменила прекрасная библиотека. Сославшись на головную боль и усталость, я попросил постелить мне именно там. Что и говорить – в ту ночь я почти не сомкнул глаз, перечитав и перелистав массу книг и справочников. Я внимательно вглядывался в портреты людей, делал записи ужасно неудобным пером, тоскуя по любимой шариковой ручке, рисовал схемы, готовя почву для будущих назначений и перемещений.
Признаюсь, я всячески старался усилием воли отогнать панические мысли о том, что же, собственно, со мной произошло. Успешный банковский аналитик средних лет, коих на просторах России-матушки тысячи, с неплохим знанием российской истории, внезапно перемещается в тело императора. И мало того, что в тело, так ещё и с перемещением во времени на век с четвертью назад. Похоже, путаница произошла где-то в неведомых мне высших кабинетах. То ли клерк небесной канцелярии перепутал папки, то ли само провидение жестоко посмеялось надо мной – полным тёзкой Николая II.
Да, кстати, разрешите представиться – Николай Александрович Романов. Только прошу, не спешите крутить пальцем у виска. Это моё настоящее имя. Правда, родился я не в царских покоях, а в семье скромного московского инженера Александра Никаноровича Романова и учительницы истории Галины Сергеевны (в девичестве Ветровой). Имя деда – Никанор, по-моему, было умышленно подобрано моими прадедом и прабабкой, дабы не навлечь на его, да и свои головы, несчастья из-за большой схожести имён с членами династии, которую безжалостные и неугомонные большевики только что отправили в небытие. Ах, родители мои, родители, лучше бы и меня нарекли Никанором в честь деда, смотришь – лежал бы сейчас в больничке с забинтованной головой и сломанной ногой, смотрел телевизор, а не вот это вот всё.
Только тут до меня дошло, что после такой страшной аварии, подробности которой, впрочем, я помнил смутно, лежать мне полагалось не на больничной койке, а на глубине двух метров под слоем песчаной подмосковной земли. Надо быть оптимистом, ведь если вдуматься, мне сильно повезло. Дело за малым – убедить себя в этом. Как там балагурили шутники? Оптимист – это тот, кто даже на кладбище видит одни плюсы. Ну, прямо о моей нынешней ситуации.
Думаю, стоит ещё несколько слов сказать о себе любимом. Учиться я начинал на историческом в МГУ, в конце второго курса понял – не моё, перевёлся на экономический. Потерял год, так как пришлось вновь стать второкурсником, и это ещё повезло успешно сдать дополнительные экзамены. Чуть не загремел в армию, но родители смогли договориться через папиного начальника – руководителя какого-то НИИ, название которого я не вспомню даже под пытками.
После вуза сразу пошёл в банковскую сферу. Меня заметили, предложили неплохое место, потом поднялся ещё на ступень, потом выбрал банк покрупнее. Но это всё скучно для вас. Что ещё рассказать? Историей я по-прежнему увлекался, особенно зачитываясь книгами о событиях и нравах в России XIX – XX веков. Родители вышли на пенсию и жили в небольшом загородном доме, довольно далеко от Москвы. Сам я прикупил неплохую просторную двушку, но личную жизнь пока так и не устроил. Встречался, общался, улыбался, но узы брака не смогли пересилить мою постоянную занятость. Голова, забитая цифрами, процентами, бесконечными скачками курсов и ставок, а также изменениями в законодательстве, требовала к вечеру тишины и покоя, а не прогулок под луной и танцев в ночных клубах. Коллеги женского пола все были, как назло, замужем. Ну и Бог с ними. В нынешних обстоятельствах это было даже мне на руку – не было необходимости скучать о супруге и детях. Волновали родители – как они перенесут моё…а, собственно, моё что? Исчезновение, смерть, кому? Всё, хватит. Это непродуктивные размышления. Думать надо о другом – как выжить и адаптироваться в совершенно новых условиях. А потому – мысли прочь, и здравствуйте, книги!..
В итоге, появившегося ровно в 8 утра Витте встретил двойник императора с уставшим лицом и воспалёнными глазами. Сергей Юльевич никак не выказал своего удивления моим видом, возможно, списав его на усталость от торжественных мероприятий.
Витте – высокая фигура, грузная поступь, развалистая посадка, неуклюжесть, сипловатый голос, неправильное произношение с южнорусскими особенностями.
– Сергей Юльевич, – я любезно поднялся ему навстречу. – Искренне рад нашей встрече, простите, что потревожил Вас в столь ранний час.
– Ваше Величество, – поклон Витте был неглубоким, скорее символическим, этот человек явно не собирался ни перед кем низко гнуть свою спину.
– Если Вас не затруднит, называйте меня Николай Александрович, а то слишком много величества для простого рабочего разговора.
– Как Вам будет угодно, – Витте внимательно меня рассматривал и, особо не церемонясь, произнёс: – Пользуясь случаем, приношу свои поздравления с коронацией, хотя, судя по всему, дело это весьма утомительное. Надеюсь, всё удалось, как и было запланировано?
– Сергей Юльевич, давайте поскорее закончим с преамбулой и перейдём к сути дела, скажу напрямик – мне нужен новый председатель Комитета министров.
– Николай Александрович, всецело одобряю ваш выбор, – Витте глубокомысленно усмехнулся. – Страна срочно нуждается в качественной трансформации. Если соблаговолите, я оставлю Вам конспекты своих мыслей по поводу ближайших реформ: денежной, налоговой, предложения по изменению рабочего законодательства.
Надо же – оставлю, значит, готовился к разговору и, вполне возможно, даже ждал моего предложения. Ну, раз с места в карьер, тянуть не будем, поговорим напрямик.
– А если я дам зелёный свет на проведение задуманных Вами реформ с некоторыми моими коррективами? Как вы это оцените? – я внимательно вглядывался в лицо собеседника, но что-либо прочитать на нём было сложно. – Обратите, пожалуйста, внимание на слово «коррективы».
– Приведите для понимания хотя бы один пример, – Витте улыбался, но глаза стали вдруг какими-то прозрачными, похоже, это был признак высшей степени концентрации его недюжинного мозга.
– В библиотеке я вкратце ознакомился с Вашими предложениями по денежной реформе и созданию золотого стандарта рубля, – я не стал уточнять – в какой библиотеке и когда, ведь реформы Витте изучались мною ещё в университете, сегодня ночью я лишь немного освежил свои студенческие знания. – В целом всё отлично, но меня смущает недостаток бумажной массы, который образуется при этом.
– Так мы контролируем инфляцию, – смутить этого человека было не просто.
– Всё так, но боюсь, в пересчёте на твёрдую валюту, к примеру, франки, – я хорошо помнил этот момент, мы его и изучали в этой валюте. – На среднего россиянина будет приходиться, согласно вашим расчётам, сумма, сопоставимая с 10 франками, в то время как в Европе этот показатель больше втрое, а в США – в 5 раз.
– Николай Александрович, это мы без труда скорректируем, только имейте в виду, что там и экономика гораздо мощнее, – мало того, что промышленность развита лучше, так и сфера услуг несопоставимо разнообразнее и доходнее.
– Над этим мы тоже с вами должны будем подумать, – я не был настроен сейчас приходить к окончательным договорённостям, пока я лишь прощупывал почву, изучая человека, с кем в одной связке мне предстояло работать долгие годы. – Я лишь привёл пример возможных корректив. Как Вы к подобным поправкам с моей стороны относитесь?
– Положительно. Я согласен, – этот человек явно привык брать быка за рога без лишних сантиментов. – Одна голова хорошо, а две лучше! Не знал, Ваше Величество, что Ваши знания в экономике настолько глубоки и современны. Мы с вами всегда найдём общий язык, не сомневайтесь. Осталось выяснить главный момент – когда можно приступать?
– Завтра, пожалуй, – затягивать процесс было явно не в моих интересах. От трагической гибели меня отделял ещё весьма внушительный временной промежуток, но хотелось начать действовать немедленно. Пока мои руки не были связаны обязательствами перед различными Думами, парламентами и Учредительными собраниями, я мог действовать оперативно, единолично принимая решения. А решения Государственного Совета, с Великим князем Николаем Михайловичем во главе, носили характер, как я понял, скорее рекомендательный.
Витте оставил три аккуратные стопочки бумаг. К моему огромному удивлению, информация была напечатана на машинке, а не написана от руки. Сергей Юльевич живо интересовался техническими новинками, особенно теми, которые облегчают человеческую жизнь. Как я узнал, наведя справки, машинка «Ундервуд» с русским шрифтом была изготовлена за океаном в трёх экземплярах по его специальному заказу. Читать машинописный текст было гораздо приятнее, чем рукописные каракули, хотя, признаюсь честно, обилие твёрдых знаков в конце слов вначале напрягало, а потом я просто перестал эти знаки замечать.
Впечатление от знакомства с господином Витте (слово «товарищ» к нему было совершенно неприменимо) в целом было положительным, хотя явно этому человеку нужен был «хозяин», иначе он вполне мог сесть на шею, что в мои планы точно не входило. Простились мы весьма дружески. Понятно – у каждого человека, как и у любой медали, всегда есть две стороны, но в любом случае это будет человек, мною возведённый на самую вершину бюрократического Олимпа. Мой человек.
Я протянул руку, Витте уверенно пожал её, его ладонь была мягкой, сухой и сильной. Не желая более тратить моё время, он развернулся и направился к двери.
– Сергей Юльевич, простите, позвольте задать последний на сегодня вопрос. А как Вы охарактеризуете нынешнего председателя Комитета министров?
– Наша государственная система, как я заметил, очень ценит и привлекает чиновников, которых я называю оловянными. От тысяч таких же оловянных чиновников Иван Николаевич очень отличается… своими пышными бакенбардами.
Мы оба искренне расхохотались.
Вторым моим посетителем в этот день, как и было намечено, стал Иоанн Кронштадтский, а в миру – Иоанн Ильич Сергиев. Он был очень бодр для своего возраста, выглядел не по годам молодо, на лице светилась обычная приветливая улыбка. В одной из книг, ставших моими верными спутниками этой бессонной ночью, я уже прочитал, что «самый внешний вид отца Иоанна был особенный, какой-то обаятельный, невольно располагавший к нему сердца всех: в глазах его отображалось небо, в лице – сострадание к людям, в обращении – желание помочь каждому». Это было истинной правдой. Особенно меня поразили глаза – чистые, светлые, смотрящие словно вглубь тебя и видящие твою душу насквозь.
– Тяжёлое бремя взвалили на себя, Николай Александрович. Путь – по лезвию бритвы: шаг вправо, шаг влево – и падение в пропасть ждёт со всей державой вместе. Я буду молиться за Вас, ибо если не проявите должной осмотрительности и дел великих не свершите, конец Ваш вижу терновым венком мученика увенчанный.
– Благодарствую, отче, – направьте, вразумите, откройте тайные смыслы мира земного.
– Просты смыслы нашего мира – вера, надежда и любовь. Вера в Бога, в свой народ, в силы собственные, надежда на лучшее и светлое, любовь к ближнему, чтобы дела великие смысла не потеряли.
– Отец Иоанн, говорят, что будущее предсказывать умеете. Что ждёт нас, грешных?
– Войны ждут – сначала с Востоком, потом с Западом, а потом и того ужаснее – внутри страны брат на брата с топором кровавым поднимется…
– А можно ли это как-то изменить?
– «От упорных трудов – всегда прибыток, от пустословия – лишь нужда», «Что бы вы ни делали, трудитесь от всей души – как если бы это было для Господа, а не для людей», – так гласит Библия, – Царь есть пастырь для своих подданных, то есть пастух, а потому от трудов его и жизнь каждой овечки Божьей зависит, – Иоанн грустно улыбнулся, его взгляд внезапно затуманился, и совсем другим голосом – глубоким и низким – он внезапно добавил: – Попытаться, Николай, можно, но учесть надо бесконечное число факторов.
Я испуганно взглянул на Иоанна, но туман в его глазах уже рассеялся, и они вновь сверкали, источая любовь и свет.
– Что Вы сказали, отче? Я последнюю фразу не расслышал.
– Каждую овечку беречь надо, запомните, Ваше Величество, ибо не волк Вы, а пастух!
– Буду обращаться за мудрыми советами к вам, не откажете?
– Как же можно отказать помазаннику Божьему? Если смогу – помогу. Душа моя открыта для вас, Государь. Работайте на общее благо, а я молиться усердно буду за вас, семью вашу, за скорейшее появление наследника, да за каждого человека грешного в России нашей…
В этот день мне удалось встретиться ещё с одним человеком – министром внутренних дел Иваном Логгиновичем Горемыкиным. Явился он не один, а со своим другом и покровителем, обер-прокурором Святейшего Синода Константином Петровичем Победоносцевым, что уже само по себе вызвало моё скрытое раздражение, ведь я планировал разговор один на один. Образ Победоносцева был мне всегда неприятен, ещё со школьного курса истории. В моём понимании это был не живой человек, а какой-то Мороз Морозович, сковывающий действия и намерения окружающих. В своё время он очень удачно дополнял Александра III, но в данный момент являл собой день вчерашний, во всяком случае для меня – хорошо знающего развитие предстоящих событий.
– Ваше Величество, – скрипучим голосом начал Победоносцев. – Мы явились по Вашему указанию.
– Я Вас, Константин Петрович, сдаётся мне, не вызывал.
– Обер-прокурора в дни смутные и переломные и звать не надо, сам явится, – молвил Победоносцев и как-то странно заскрипел, возможно, этот звук у него означал смех.
– Иван Логгинович, – демонстративно обратился я к Горемыкину, который, глядя на нас, медленно и заботливо разглаживал свои огромные седые усы. – Не устали Вы от трудов праведных на такой беспокойной должности?
– Иван Логгинович, – вновь заскрипел Победоносцев, – человек недюжинных сил и способностей. Равно как и я – ваш покорный слуга. Мы от отца Вашего Вам даны для продолжения его дел и воплощения планов и замыслов.
– Боюсь, уважаемый господин Горемыкин, Вам, да и Вам, не менее уважаемый Константин Петрович, – недовольно взглянул я на Победоносцева, – придётся попрощаться со своими должностями, так как планируемые мной изменения в жизни государства и общества вряд ли придутся вам по вкусу.
– Помилуйте, Ваше Величество, – впервые я услышал голос Горемыкина, оставившего наконец в покое свои величественные усы, – и кого же Вы на мою должность поставить соизволите?
– Ну, к примеру, Петра Аркадьевича Столыпина.
– А, я извиняюсь, кто это?
– Титулярный советник. Каунасский, то есть, простите, Ковенский уездный предводитель дворянства и председатель тамошнего суда мировых посредников, чиновник IX класса на должности V класса государственной службы.
– Кого Вы хотите назначить? – оказывается, голос Победоносцева мог не только скрипеть, но и звучать достаточно глубоким баритоном. – Да Вы что, Николай Александрович, только через мой труп. Реформатор на реформаторе, кошмар Вашего покойного батюшки. Побойтесь Бога, они и Вас, и Россию в гроб загонят.
– Боюсь, уважаемый Константин Петрович, что в гроб меня гораздо скорее загонит Ваш консерватизм. Страна меняется, а модель государственного управления – нет. Про свой двор я вообще молчу. Вчера впервые разглядел скорохода. Настоящий попугай – костюм разноцветный, фалды ливреи короткие, а на голове шлем со страусовыми перьями трёх цветов. Просто Маленький Мук из арабской сказки. Тысяча и одна ночь, воплотившаяся в реальность. Хорошо хоть палача штатного вы нам в штат не включили, он был бы вполне уместен при нашем дворе в своём красном бархатном колпаке с прорезями для глаз.
– Николай Александрович, я служил верой и правдой Вашему отцу-императору и служу вам, но такого я не потерплю, мне оскорбительно слышать Ваши намёки. При таком развитии событий мы будем вынуждены уйти в отставку. Да, Иван Логгинович? – Горемыкин явно неохотно закивал головой, а Победоносцев продолжал. – Но мы ещё вернёмся, я Вас уверяю, вернёмся, и Вы сами первым попросите нас об этом…
Перед сном я заглянул к моей нынешней матушке.
– Тебе не жаль Победоносцева, он муж верности и разума? – она с улыбкой смотрела на меня. – Хотя и бывает зануден своей природной скрипучестью.
– Да, он всё новое воспринимает со скрипом, – решил я поддержать её шутку.
– Ты знаешь, ещё пару лет назад я бы осудила твои первые императорские шаги, но сегодня я соглашусь и всячески поддержу тебя, пусть я уже не совсем молода, но слух у меня прекрасный, и я отлично слышу ход часов времени. Вся наша страна подобна огромной кастрюле – огонь снизу всё жарче, кипение всё сильнее, а крышка привинчена наглухо. И что будет, если ничего не менять? Сорвёт крышку, а заодно и оторвёт наши бедные головы…
Глава 4
Утро было солнечным и прохладным. Бесконечно устав от напряжения последних дней, я решил немного прогуляться в одиночестве по территории Кремля. Насчёт одиночества я, конечно, немного лукавлю. Несколько охранников на почтительном расстоянии внимательно следили за моей безопасностью.
С террасы Дворца за красными кирпичными зубцами кремлёвской стены прекрасно просматривалась набережная Москвы-реки, чуть поодаль, в туманной утренней дымке – Храм Христа Спасителя в его изначальном виде. В этот миг я наиболее остро почувствовал весь ужас моего одиночества – виды почти не изменились, но огромная временная пропасть разделила меня с моими родными и близкими.
Виды действительно внешне были те самые, знакомые с детства. Выйди на Красную площадь – увидишь Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, здание ГУМа… Но вот звуки и запахи резко отличались. Как я прочитал в одной из библиотечных книг, первый автомобиль в Россию в 1891 году завёз из Марселя одессит, журналист и предприниматель Василий Васильевич Навроцкий, владелец очень популярного тогда «Одесского листка». В Москве пока автомобилей не было. Правда, трудно такое представить? Не тешьте себя иллюзиями – насчёт диких московских пробок, организуемых извозчиками, меня уже предупредили. Что же касается автомобилей, вчера мне торжественно вручили рекламный буклет.
Чёрным по белому, ярко и крупно: «Первый российский автомобиль на базе самодвижущегося экипажа, собранный на каретной фабрике Петра Фрезе с использованием двигателя Евгения Яковлева, будет продемонстрирован на XVI Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде». На самом деле, как я выяснил, это была двухместная заднемоторная коляска с одноцилиндровым четырехтактным двигателем мощностью полторы лошадиной силы и возможностью развивать дикую скорость – аж 21 км/час. Всё это было довольно интересно, но, признаюсь, куда больше меня интересовали разработки инженера Ипполита Романова, который изобрёл первый отечественный электромобиль. Статья на эту тему в своё время меня очень удивила, теперь же насмешница-судьба давала мне возможность не только встретиться и пообщаться с этим отечественным гением, но даже поддержать его на государственном уровне. Как тебе такое, Илон Маск?
Простите, отвлёкся. Так вот, запахи и звуки вокруг меня были совсем другие. Пахло свежескошенной травой, пирожками, жареным мясом, квашеной капустой и еле уловимо – конским навозом. Звуки клаксонов, далёкий крик петухов, ржание лошадей – всё это было удивительно непривычно для моего слуха. Неожиданно в мою голову пришла весёлая мысль – вот так идёшь-бредёшь по территории Кремля, а навстречу Владимир Владимирович или Леонид Ильич с законным вопросом – а ты что, Николай, здесь забыл? Какое право имеешь прогуливаться так чинно и важно? Ещё бы корону свою с алой шапочкой на башку нацепил, посмешище!
– Уеду, уеду скоро, в Петербург, там моя столица, там мой дом родной, – тихо ответил я на эфемерные упрёки незримых собеседников. Хотя, по правде сказать, Москва мне была всегда гораздо ближе и понятнее. Но, назвался груздем, полезай в кузов!
В этот миг я понял, что обстановка вокруг меня стремительно меняется. Послышались выстрелы, кто-то кричал. Огромный казак из моей личной охраны буквально прыгнул на меня, уронив на землю и прикрыв своим телом. В какой-то момент он поднял свою огромную руку, прицелился и выстрелил в невидимого мне террориста. Выстрел, крик, переходящий в визг, а потом звук глухого удара. Одна из пуль просвистела совсем близко. Мой спаситель снова выстрелил, его дружно поддержали другие мои телохранители. Буквально через минуту всё закончилось.
– Поднимайтесь, Ваше Величество, Вы уж не взыщите строго, что Вас повалил, аки медведь в лесу, – моему огромному защитнику и спасителю было явно неловко. Он явно хотел помочь мне отряхнуться от дорожной пыли, но так и не решился.
– Это ваша работа, которую вы все выполнили на отлично, за что будете представлены к государственным наградам и премиям.
Честно говоря, глядя на радостные лица сотрудников моей охраны, я бы не особенно удивился, если бы они сказали хором после моей фразы что-нибудь типа: «Служу царской России!».
День был испорчен. Аликс плакала, когда узнала о попытке покушения, а Мария Фёдоровна сидела со скорбным выражением лица и печально смотрела на нас обоих.
– Менять, менять, вот и наменял, – всхлипнула Аликс. – Это всё твои реформы и мастурбации.
– Пертурбации, дорогая. По сути, я ещё даже не начинал реформировать наше болото. Пожалуйста, не волнуйся, это случайность, всё будет хорошо, – успокаивая супругу, сам я лихорадочно размышлял над произошедшем.
Нападавших было трое, двоих охране удалось застрелить, одного ранить. Им оказался некто Пётр Владимирович Карпович. Это меня по-настоящему испугало, ведь я хорошо помнил из курса истории, что именно Пётр Карпович убийством министра просвещения Боголепова в начале 1901 года открыл так называемую вторую волну терроризма в России. Но сегодняшнее покушение стало явным отклонением от привычного хода истории, а значит, вносимыми мной изменениями были разбужены неведомые магические силы, защищающие естественный ход событий. Мне вспомнились слова нашего школьного историка – история не терпит сослагательного наклонения. Да ещё как не терпит!
На душе было мерзко и тревожно. И что, позвольте спросить, мне делать? Отодвигая потенциальную гибель через два с лишним десятилетия, я чуть не погиб от пули через три дня после коронации.
– Дорогой, едем в Санкт-Петербург, там спокойнее и охрана натужней, – Аликс умела быть убедительной, хотя все исторические факты, включая убийство моего «деда» Александра II, явно говорили об обратном. – Мне обещали представить чудесного ясновидящего, он будет предостерегать тебя, мой несчастный Ники.
– Надёжней, от слова – надежда, – поправил я и совсем тихо напел: – Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость…
– Какая приятная мелодия, – заинтересовалась Аликс, всегда неравнодушная к музыке, – Кто это написал? Глинка или Римский-Корсаков?
Глава 5
Военный министр Пётр Семёнович Ванновский, с которым я познакомился утром следующего дня, был, пожалуй, во всём хорош, за исключением своего почтенного возраста. Близкий друг Александра III, герой Турецкой войны, автор бессмертной фразы: «У России только два союзника: её армия и военно-морской флот».
Беседуя с Ванновским, я одновременно размышлял – кем его заменить. В своё время я много читал о графе Дмитрии Алексеевиче Милютине, министре-реформаторе времён моего деда Александра II. Ого, уже моего деда! Быстро, однако же, вы освоились, уважаемый новоявленный Ники. Нет, Милютин не вариант, ему уже 80, и хоть впереди у него ещё 16 лет довольно активной жизни, ставку явно нужно делать на молодых. Мария Фёдоровна настоятельно советует присмотреться к Алексею Николаевичу Куропаткину – всего сорок восемь лет, прогрессивен, амбициозен, правда, не в ладах с Николаем Николаевичем, ещё одним моим теперешним двоюродным дядей, из-за чего и был направлен из Генерального штаба сначала командующим войсками в Закаспийскую область, а потом и того дальше – в Тегеран, главой чрезвычайного посольства.
– Пётр Семёнович, – вернулся я мыслями к нашей беседе, – а как Вы относитесь к изобретению Хайрема Максима?
– А кто это, простите? – Ванновский был искренен в своём неведении.
– Американский, правда, теперь уже английский изобретатель пулемёта. 600 выстрелов в минуту, начальная скорость пули 740 метров в секунду.
– Страсть-то какая. При таком вооружении и войны смысл теряют, с этакой-то скорострельностью за неделю всех врагов перебить можно.
Я, как дитя ядерного века, грустно улыбнулся. Долгий путь от палки до водородной бомбы и каждое новое изобретение казалось верхом эволюции вооружений, средством сдерживания, способным априори предотвратить бессмысленные войны. Ах, если бы…
– Пётр Семёнович, Вы человек военный и разрешите говорить с Вами напрямую, без экивоков, – в глубине души мне было жалко расставаться с добродушным генералом, но дело этого требовало. – 74 годочка вам…
– Намёк понял, место просиживать не обучен, сам чувствую – хватку теряю, в молодости куда резвее был, читал, интересовался, – на удивление, генерал казался даже довольным моим предложением. – Куропаткина рекомендую. С ним эти самые пулемёты, лодки подводные, прочие новинки внедрять будет куда бойчее. Я только за, пусть пашет. А наше дело стариковское – чаи распивать да про подвиги внукам заливать. Честь имею!
Часом позже 34-летний, буквально пышущий энергией Пётр Аркадьевич Столыпин ворвался в мой рабочий кабинет. Внук светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова до глубины души поразил меня свободой личного общения. Быстро подойдя ко мне, он внезапно схватил и начал крепко сжимать мою руку. Между нами говоря, и в прежней жизни мало кто себе позволял подобное, что говорить, насколько удивительно это было в данных обстоятельствах.
– Здравствуйте, Ваше Величество. Рад, очень рад, – тон был действительно очень радостным, но внимательные умные глаза были спокойными и оценивающими. – Такая честь, такая честь. Слов нет. Но позвольте вопрос – как Вы вообще обо мне узнали?
– Внуки Горчакова на дороге не валяются, к тому же я слышал, что у Вас довольно много идей государственного переустройства…
– Много идей, очень много. Нам нужна Великая Россия, потому и с радостью дам согласие возглавить Комитет министров!
– Не горячитесь, голубчик, – напор Столыпина начал меня немного угнетать, его энергию явно требовалось направить в мирное русло. – Комитет министров возглавит на данный момент Сергей Юльевич Витте. Вы, простите, пока довольно молоды и неопытны. Освойтесь для начала в столичных сферах, а будете усердны и инициативны – обязательно придёт и Ваш черёд. А пока люди не поймут, не обессудьте. Хотя, как общеизвестно, молодость – это единственный недостаток, который всегда довольно быстро проходит. Так вот, к делу – Вам я предлагаю интереснейшую должность министра внутренних дел.
– Держиморд российских строить?
– Ну почему сразу держиморд? Неужели в огромной России не найдём мы людей одарённых, неравнодушных, талантливых в своём деле? Да и масштаб деятельности каков, как-никак первый министр. Помимо полиции на Вас будут местные суды, почта, телеграф, тюрьмы, ссылка, губернские и уездные администрации, земства, снабжение продовольствием при неурожае, страхование, медицина и даже пожарные. Самое оно для вашей неуёмной энергии.
– Согласен, достойный пост. Министр Столыпин войдёт в историю.
Вот в этом я как раз и не сомневался. Хотелось бы только без «столыпинских галстуков» и череды бесконечных покушений.
– Только не горячитесь, уважаемый Пётр Аркадьевич. Используя кнут, не забывайте и про пряник.
– Пряник в России зачастую чёрствый, и его также можно использовать, как и кнут для наказания, – расхохотался Столыпин.
– Ну уж нет, родной, – подумал я в этот момент. – Вешать налево и направо я тебе не дам. Поддержим полезное, отбросим ненужное! Классная формулировка. Прямо хоть записывай для будущих мемуаров. Кстати, помнится мне – Николай II регулярно вёл дневник, грех и мне в этом отставать.
– Хочу проинформировать, уважаемый Пётр Аркадьевич, что вчера на мою жизнь покушались. Задержан некто Пётр Владимирович Карпович. Прошу Вас приступить к делам, максимально быстро освоиться на новом месте и расследование по делу Карповича считать приоритетным, мне жизненно важно знать – кто стоит за ним. Но конкретно завтра у нас оперативная задача – безопасность людей во время народных гуляний на Ходынском поле. В четыре часа утра встречаемся там.
В этот же вечер, перед сном, я восполнил в дневнике записи за четыре последних сумасшедших дня, после чего мгновенно заснул сном праведника, с чувством выполненного долга.
Глава 6
Мне показалось, что я лишь моргнул, и вот уже денщик вежливо будил меня. За окном было ещё темно, но первые признаки приближающегося рассвета лёгкими намёками крадучись начинали появляться на восточном горизонте. Воздух был свежим и бодрящим, настроение приподнятым – сегодня я пойму, в состоянии ли я что-то изменить в ходе русской истории и к чему это всех нас приведёт.
Ходынское поле, первое упоминание о котором датируется 1389 годом, когда Дмитрий Донской завещал подмосковный Ходынский луг своему сыну Юрию Дмитриевичу, располагалось на севере Москвы между современными Ленинградским проспектом, Беговой улицей и Хорошёвским шоссе. Кстати, “Ходынское поле” нашего времени, из которого я, так сказать, прибыл в дореволюционную Москву, представляло собой отличный московский парк.
Ехать было совсем недалеко, однако, чем ближе мы подъезжали к месту назначения, тем плотнее становилась толпа, спешащая за царскими подарками и угощениями. Людей было безумно много. Шли целыми семьями, дети изо всех сил старались не отпускать родительских рук, чтобы не потеряться. Толпа была поистине огромной, но пока, к счастью, управляемой. Две полицейские кареты, идущие впереди, создавали коридор для нашего дальнейшего движения. В какой-то момент нескольким полицейским пришлось вылезти и идти впереди карет, буквально раздвигая и расталкивая зазевавшихся прохожих.
К четырём утра мы были на месте. Увиденное частично порадовало меня. Бесчисленным полицейским и их помощникам в однотипных серых костюмах из недорогой ткани (это были, скорее всего, филёры – секретная агентура охранного отделения) удалось организовать коридор. Каждому заходящему в него вручался подарок, завёрнутый в платок, булочка от Филиппова, памятный жетон и новенький рубль. После этого вновь прибывшим указывали место на поле, куда им необходимо было проследовать. Желающие уйти после получения подарков, а таковых, к счастью, оказалось немало, в основном женщины с малолетними детьми, направлялись в боковой живой коридор, прочь от основной толпы.
Тех, кто оставался, грамотно распределяли по всему полю, которое было условно разбито на квадраты. В каждом квадрате желающих ждали примерно одинаковые развлечения – пиво, вино, медовуха. Находящиеся рядом полицейские и сотрудники охранного отделения внимательно следили, чтобы люди не упивались, к спиртному прилагалась нехитрая закуска – пирожки, солёные сушки и баранки, тульские пряники, и, к моему огромному удивлению, многие именно ели, а не пили.
На моих глазах выступили слёзы – эту страну прежде всего предстояло накормить, прежде чем стегать и гнать галопом навстречу светлому будущему, что во все времена было излюбленным развлечением многих наших правителей.
Заметно светало. Несметным людским толпам, казалось, не будет конца. И всё-таки толпа по-прежнему была управляемой. Мы с Петром Аркадьевичем расположились на северо-западной окраине поля, организовав что-то вроде оперативного штаба и отгородившись от толпы тремя рядами оцепления, созданными силами Министерства Императорского двора. На взмыленном коне трижды к нам подлетал генерал-губернатор Сергей Александрович, постоянно докладывал об обстановке московский обер-полицмейстер Александр Власовский. Оба они всецело осознавали степень ответственности и старались изо всех сил.
Примерно к семи утра численность толпы достигла максимума, а после постепенно начала спадать. Женщины уводили засыпающих детей и хорошо захмелевших мужей, полиция увозила с поля особо отличившихся в поглощении спиртных напитков, при входе на поле раздавались последние сувениры.
Я смог, я сумел предотвратить страшную трагедию, всё продумать и организовать! И в этот момент, когда казалось, что всё уже позади, с противоположной стороны поля раздался страшный взрыв и застрекотали выстрелы. Толпа ринулась в нашу сторону, сметая оцепление, вне себя от ужаса. Катастрофы, судя по всему, избежать не удастся. Неведомые магические силы, разбуженные мной, вновь постарались вернуть реку исторических событий в исходное русло…
Стрелявшие шли цепью. Их задачей не было убивать, они гнали огромное «людское стадо» на нас, стреляя выше голов бегущих. Но люди не понимали того, что происходило за их спиной, они бежали напролом с расширенными от смертельного ужаса глазами. Кто-то падал, и напиравшие сзади бежали прямо по нему. К резким звукам выстрелов добавились крики покалеченных.
Столыпин уверенным движением шагнул вперёд, чтобы защитить меня своим телом. Решительности и храбрости этому человеку было явно не занимать.
Мне показалось, что наша гибель неминуема, но всё-таки заранее принятые меры безопасности дали о себе знать. К нам на помощь уже спешили мощные полицейские силы. Это почти невероятно, но в последний момент филёрам и полицейским удалось построить некое подобие каре и отсечь основные силы бегущих, направив их к одному из оборудованных выходов с поля.
Другая группа, состоящая преимущественно из сотрудников Министерства Императорского двора, начала вести стрельбу на поражение по цепи террористов. Цепь начала редеть, и мне стало понятно, кто ею руководит.
– В бородатого не стрелять, – закричал я.
– Не стрелять в бородатого, живым брать гада, – подхватил какой-то очень зычный голос.
– Бородатого живым взять, – истерически взвизгнул кто-то, находившийся в непосредственной близости к бородатому.
И тут я увидел, что этот самый бородач приставляет пистолет к своему виску. Выстрела я не услышал, но на моих глазах его голова превратилась вдруг в страшное кровавое месиво, выстрел снёс часть лица. Остальные организаторы теракта к этому времени уже были мертвы.
– Вот, уважаемый Пётр Аркадьевич, к делу Карповича добавляются новые фигуранты. Практически уверен, что это звенья одной цепи.
– Будем работать, Ваше Величество. Вижу, что скучать на новой должности мне точно не придётся.
Глава 7
Внешний вид Петра Аркадьевича Столыпина на следующее утро меня поразил. После того как мне сообщили, что он не ложился и работал всю ночь, я ожидал увидеть уставшего и не выспавшегося человека, но это был явно исключительный случай. Новый министр был бодр, свеж, выбрит, смело одаривал окружающее пространство довольной улыбкой и приятными нотками одеколона.
– Доброе утро, Пётр Аркадьевич, как Вы себя чувствуете?
– Прекрасно, Ваше Величество. У меня неплохие новости. Кажется, нам удалось поймать за хвост тех, кто никак этого не ожидал.
– Рассказывайте, любезный, не томите.
– Застрелившимся бородачом, согласно документам, найденным в его кармане, оказался некто Азеф Евгений Филиппович, а в реальной жизни – Евно Фишелевич, 27 лет, родившийся в местечке Лысково Гродненской губернии в семье бедного портного-еврея. Кроме него в семье было ещё шестеро детей – два брата и четыре сестры. С 1892 года – секретный сотрудник полиции, осведомитель с установленным окладом в 50 рублей.
Азеф – известнейший агент-провокатор, в ближайшем будущем он должен был стать главой боевой организации эсеров (теперь ему занять этот пост по понятным причинам не удастся). Интересное дело – исторические события опять ускорились и начали приобретать какой-то уже совсем непредсказуемый оборот.
– Среди опознанных ещё два интереснейших персонажа – Александр Викторович Савинков, социал-демократ крайне левых взглядов, а также его 18-летний брат Борис, информации о котором у нас нет, скорее всего, в силу его возраста.
Голова моя закружилась. Легендарный Борис Савинков, он же в прежней реальности «Б. Н.», Вениамин, Галлей Джемс, Крамер, Ксешинский, Павел Иванович, Роде Леон, Субботин Д. Е., Ток Рене, Томашевич Адольф, Чернецкий Константин, убит, не достигнув совершеннолетия. Бред какой-то. А главное – что теперь будет? Брэдбери со своим «Эффектом бабочки» нервно курит в стороне.
– Но самое интересное, – улыбка Петра Аркадьевича стала ещё шире, – и Азефа, и старшего Савинкова в системе полиции курировал один и тот же человек – действительный статский советник, вице-директор Департамента полиции Семякин Георгий Константинович, друг, кстати, Петра Николаевича Дурново, бывшего директора Департамента полиции, вынужденного уйти в отставку в 1893 году после забавного сексуального скандала.
– Сексуального скандала? – искренне поразился я.
– Именно. В подчинении Департамента находился «чёрный кабинет», перлюстрировавший переписку граждан. Однажды были перехвачены откровенные письма некой питерской дамы к любовнику – бразильскому послу в России. Доложили шефу. Увы, дама одновременно была любовницей и самого Дурново. В приступе ревности он наделал глупостей. Мало того, что заявился к изменщице, отхлестал её по щекам и швырнул ей письма в лицо. Мало того, что выскочил из квартиры, забыв письма забрать, так он ещё и обыск провёл у бразильца в поисках других посланий, о чём тот не преминул сообщить Вашему батюшке – императору Александру III: что ж это у вас за нравы в стране – шеф полиции читает чужие письма, избивает любовницу, обшаривает квартиры иностранных дипломатов…
– Занятно, а какое отношение Пётр Николаевич имеет к своему однофамильцу – Ивану Николаевичу Дурново, председателю Комитета министров, которого я заменил на Витте?
– Это сложный вопрос. Прямыми родственниками они не являются, это факт, возможно, они даже из двух разных дворянских родов. Один имеет отношение к Костроме, происхождение второго иное, но там практически невозможно разобраться, всё так запутано. Этих Дурново, как, прошу прощения, собак нерезаных. Я навёл справки – наши два однофамильца Дурново практически не общаются, и отношения между ними весьма натянутые из-за ощутимой разницы во взглядах на жизнь.
– А какое же отношение ко всему этому имеет Карпович?
– Судя по всему, он хороший знакомый Александра Савинкова. И если допустить, что последний получил откуда-то сверху задание вас уничтожить, то он вполне мог привлечь для этого дела идейного знакомого, чтобы не рисковать собственной шкурой. А когда не получилось – пошёл в атаку сам.
– Много людей вчера погибло?
– Мы уничтожили дюжину террористов, в организованной ими давке погибло пятеро мирных граждан.
– Да, в любом случае это лучше, чем было изначально.
– Что, простите?
– Малой кровью отделались. Жаль только, Азеф и Савинковы мертвы. Единственной ниточкой остаётся Карпович, но далеко не факт, что он многое знает.
Когда чуть позже я поделился информацией с Витте, Сергей Юльевич глубоко задумался и изрёк:
– Вас, Николай Александрович, атаковали сразу с двух сторон.
– Что Вы имеете в виду?
– Скорее всего, Вас атаковали крайне правые, недовольные Вашими активными действиями, вполне возможно, с подачи кого-то из Ваших многочисленных родственников. Вы явно испугали неких лиц, когда после двух лет спокойного правления вдруг бросились буквально с места в карьер. И, судя по Вашему рассказу, правым удалось подключить левого Карповича, жизнь которого сейчас висит на волоске. Могущественные заказчики постараются убрать его, как ненужного свидетеля. Они не захотят рисковать, хотя и догадываются, что с ним играли втёмную.
В дверь постучали. Взволнованный секретарь, извинившись, сообщил, что полчаса назад в своей камере был найден мёртвым Пётр Владимирович Карпович. Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено.
– Крайне правые, – задумчиво промолвил Витте. – И убили сразу двух зайцев. Устроили подряд два покушения, а теперь ещё и натравят на Вас левый фланг под девизом – кровавый царский режим уничтожил в застенках юного патриота.
Как выяснилось позднее, Карпович был отравлен в своей одиночной камере. Но чтобы понять, кем непосредственно он был отравлен, предстояло опросить множество лиц. Это была ещё одна ниточка, ведущая к заказчикам преступлений, правда, крайне тонкая и ненадёжная.
Глава 8
Следующим утром я вместе с новым министром внутренних дел государства Российского, молодым, но многообещающим Петром Аркадьевичем Столыпиным, готовил развёрнутый циркуляр по скорейшему определению местонахождения и установлению усиленного надзора. Далее шёл бесконечный список, в который были включены фамилии всех ведущих революционеров, какие я только смог вспомнить, прежде всего – Владимир Ульянов, Лев Бронштейн, Яков Свердлов… Большевики, меньшевики, эсеры, ведущие анархисты. Как только Сталин смог упомнить и укокошить столько народа? Моя память была гораздо слабее.
Пётр Аркадьевич смотрел на меня радостно и удивлённо, встречая коротким восторженным возгласом каждую новую фамилию.
– Как Вы их всех запоминаете, Ваше Величество?
– Сложность в том, чтобы вспомнить их настоящие фамилии, хотя и не факт, что в данный момент они не пользуются ещё какими-нибудь партийными кличками.
– Ну, хорошо, установим усиленный надзор, а дальше что? Может, организуем провокацию и всех в утиль? Сопротивление при задержании?
– Соблазн велик, но я больше чем уверен, что в этом случае на их место придут другие, которые будут ещё изобретательнее и опаснее. Как говорил мой папа-врач – лечить надо причину, а не симптомы!
Признаться, я не сразу понял гримасу крайнего удивления на лице Столыпина, но, осознав уже в следующее мгновение всю неуместность своей последней фразы, аккуратно поправился:
– Медикус – в переносном смысле, конечно. Император Александр Александрович своими методами старался лечить пороки общества, как вам должно быть хорошо известно.
Замечательным качеством молодого Столыпина было то, что он не придавал большого значения словам собеседника: свои мысли и идеи всегда стояли для него на первом месте. Позднее я пойму, что это качество зачастую свойственно молодым реформаторам, коим по воле судьбы или случая внезапно стал и я сам.
Особенно мои мысли занимала тройка – Ленин, Сталин, Троцкий, боевых эсеров ближайшего будущего тоже никак нельзя было сбрасывать со счетов, правда, здесь с определением персоналий у меня было гораздо сложнее. Если бы я только знал, как жестоко посмеётся надо мной судьба, я вообще бы учил только экономику, историю и право, ну, возможно, ещё почитал бы побольше книг по военному делу.
Столыпин предложил ликвидировать самых опасных. Допустим, я дам такое указание, и названные герои будущей революции исчезнут. Но рядом с ними масса других персонажей – Мартовы, Красины, Бауманы и прочие, прочие, прочие. Уничтожать всех? Но, в конце концов, мы со Столыпиным не Пол Пот и Иенг Сари, чтобы устраивать геноцид своего народа.
Гораздо разумнее будет, рассуждал я, создать в стране такие условия жизни, чтобы сама идея революции не казалась привлекательной большинству населения. В принципе, и настоящий Николай Александрович Романов в конце концов согласился на реформы – государственного управления, образования и здравоохранения, судебной системы, отменил крестьянскую «круговую поруку», ввёл гражданские свободы. Но всего этого оказалось мало. Почему? Возможно, сама идея монархии в России себя изжила. Но ведь взять ту же Великобританию, где королевская семья до сих пор любима и уважаема. В чём секрет? Скорее всего, в декоративности королевской власти, которая, безусловно, имеет некоторое влияние на события, происходящие в стране, но скорее морально-нравственное, чем реальное политическое.
Мне вспомнился чудесный спектакль «Аудиенция» в Театре Наций с неповторимой Инной Чуриковой в главной роли, поставленный по пьесе Питера Моргана. Сюжет строился вокруг аудиенций королевы Елизаветы II премьер-министрам Великобритании разных лет. И хотя, согласно правилам, королева может только консультироваться, советовать и упреждать, становилось понятно, что первая дама имеет значительное влияние на решения своих министров и политику государства в целом. В ответ на это главы её правительства помогают ей в деликатных и непростых ситуациях.
Каким образом стать и мне таким уважаемым монархом, чтобы спокойно гулять с собачками и неназойливо наставлять своих премьеров? Для этого сначала явно придётся основательно поработать. Главное – вовремя уйти в тень и не сильно отсвечивать. В своё время меня просто убила прочитанная у Радзинского фраза Николая II, брошенная новому премьер-министру Коковцову: «Надеюсь, вы не будете меня заслонять так, как это делал Столыпин?». Возможно, именно в этой фразе скрыт секрет трагической гибели Петра Аркадьевича. Нет, не убили, но создали все условия и в критический момент не воспрепятствовали. В моей версии реальности всё должно быть совсем иначе, а для этого нужно думать и активно действовать.
Приглашённый на аудиенцию новый Директор Департамента полиции Антон Францевич Добржинский (потомственный дворянин, выпускник юридического факультета Киевского университета), только что назначенный мной на этот вакантный после смерти Николая Николаевича Сабурова (случившейся примерно за месяц до моего здесь появления) пост, своим внешним видом напоминал заслуженного и уважаемого директора школы. В своей прежней жизни я читал о нём – моё внимание привлёк факт его неожиданной смерти в Кисловодске на следующий день после отставки в 1897 году с ныне занимаемого поста. Инфаркт из-за переживаний? Маловероятно, ведь ему был предложен пост сенатора с прекрасным денежным содержанием, настоящая синекура в любые времена и при любых правителях. Значит, что-то произошло, интересно что? Ну что ж, будем посмотреть, как сказали бы в Одессе. Ежегодные смерти директоров Департамента были крайне подозрительными.
Наверное, будет уместно сказать и о самой должности. Общее руководство Департаментом полиции и Отдельным корпусом жандармов с 1882 года осуществлял товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией (он же командир Корпуса жандармов; шефом жандармов был министр внутренних дел). Департамент полиции возглавлял директор, назначавшийся приказом министра внутренних дел. Короче, как говорят в народе, – без ста граммов не разберёшься.
На самом деле Корпус жандармов был политической полицией Российской империи, а Департамент полиции специализировался больше на делах уголовных, но, в силу специфики, зачастую их пути пересекались. В данный момент Отдельным корпусом жандармов руководил товарищ (то есть заместитель) Министра внутренних дел, потомственный дворянин и горный инженер в третьем поколении Александр Александрович Фрезе. Беседовать с ним, как я понял, пока глубокого смысла не было – он отвечал за строевую, инспекторскую, хозяйственную и военно-судебную части деятельности своей организации и был далёк от оперативной деятельности Корпуса.
Антон Францевич поблескивал своим пенсне, изредка бросая внимательные изучающие взгляды на своего нового шефа Петра Аркадьевича. Я вновь ломал историческую линию и, возможно, ненароком спасал господина Добржинского от внезапной смерти в следующем году.
– Мы тут список опасных смутьянов составляем, уважаемый Антон Францевич, – Столыпин также внимательно изучал своего нового подчинённого.
– Думаю, Департамент полиции с удовольствием, так сказать, дополнит этот список несколькими персоналиями и пришлёт на ваше утверждение, господин министр.
Столыпин улыбнулся, мне тоже понравилось, что директор Департамента обратился к своему непосредственному шефу, а не ко мне.
– Чувствую, сработаемся, Антон Францевич. Много прочитал о Вас за последние дни – как блестяще вы вели дело Гольденберга – убийцы харьковского генерал-губернатора, благодаря чему удалось в значительной мере разгромить «Народную волю», как умело допрашивали Рысакова и Веру Фигнер после трагической гибели Александра II.
– Спасибо, Пётр Аркадьевич, Вы уж простите, я тоже справки о Вас, так сказать, навёл – стать в 26 лет камер-юнкером и титулярным советником по силам далеко не каждому, опять же из Ковно прекрасные отзывы. А Ваш университетский преподаватель Дмитрий Иванович Менделеев до сих пор искренне сожалеет, что Вы не посвятили свою жизнь химии.
– Господа, – я решил вмешаться в этот обмен любезностями. «Шерочка с машерочкой» явно нашли друг друга, что меня искренне радовало. – Всё это очень здорово и интересно, но, помимо списка потенциальных революционеров, мне хотелось бы получить развёрнутую информацию о другом фланге, не менее опасном для меня и страны. А также услышать ваши предложения – с чего нам начать поиски организаторов покушений последних дней.
– Я бы начал, так сказать, с внимательного изучения посетителей трёх ведущих столичных политических салонов. Правая и крайне правая публика собирается в Санкт-Петербурге обычно у Головина, Мещерского и Богдановича. Салон первого самый серьёзный и самый многообещающий для нас и… – Антон Францевич на секунду задумался, – вот ещё что, я бы поискал на всякий случай нити заговора, тянущиеся из-за границы.
Это было здравое предложение. Наши европейские «друзья» – от германцев до англосаксов всегда с удовольствием пытались с ногами залезть в российские дела и диктовать свою волю. Этот аспект явно следовало проработать более основательно. Я знал, что в России до 1903 года функцию внешней разведки выполнял Отдельный Корпус жандармов, но потом особый разведывательный орган, многократно в дальнейшем переименовываемый, по инициативе Алексея Николаевича Куропаткина стал армейской структурой.
Пора встречаться с новым военным министром. Вполне возможно, что инициативы, касающиеся деятельности внешней разведки, уже зреют в его голове, зачем же мы будем тянуть до 1903 года?
Информация из досье Алексея Николаевича меня в целом порадовала. Кадровый военный, с обширным опытом участия в боевых действиях. Участвовал в штурме Самаркандских высот, в бою на Зерабулакских высотах, взятии Уч-Кургана и повторном взятии Самарканда. Участник русско-турецкой войны, Ахал-Текинской экспедиции. За боевые отличия был награжден орденами св. Станислава и св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, орденом Святого Георгия 3-й и 4-й степеней. После Николаевской академии Генштаба семь лет добросовестно работал в самом Генштабе, командовал войсками и руководил Закаспийской областью, в прошлом году мною (в смысле – настоящим Николаем II) был отправлен в Тегеран послом. Скорее всего, потому что кому-то в столице не угодил. Работа в нашем посольстве в Персии напрямую ассоциировалась в моей голове с несчастным Грибоедовым, хотя вполне возможно, времена изменились.
Что мне особенно легло на душу, так это успехи генерал-лейтенанта Куропаткина в Закаспийской области. Из пустынного края, не имевшего ни дорог, ни городов, со слабыми зачатками торговли и промышленности, с кочевым населением, промышлявшим грабежом и разбоем, управляемая им область превратилась в благоустроенный край с развитым земледелием, торговлей и промышленностью. Заботами Куропаткина возникли русские школы, была проведена реформа судебной части, привлечены многочисленные поселенцы из внутренних губерний. Именно такие кадры мне и нужны!
Алексей Николаевич оказался приятным в общении, начинающим седеть человеком, с традиционными для своего времени и возраста аккуратными усами и бородкой. Несмотря на высокое воинское звание, лицо Куропаткина – живое и смышлёное, больше подходило хозяину чайной или плутоватому целовальнику, и выражало живейшее любопытство. В острых щёлочках глаз скользила хитренькая улыбка.
– Ваше Величество! – голос был мягким, приятным, тихим.
– Алексей Николаевич, рад встрече. Как Вы себя чувствуете в новой должности, что надумали реформировать в первую очередь? Кстати, называйте меня Николаем Александровичем, я ведь, в отличие от Вас, дослужился всего лишь до полковника.
– Зато Вы Император Всероссийский, царь Польский, а также Великий Князь Финляндский, а мой чин, как вы понимаете, соответствует лишь чиновнику 3 класса, – Куропаткин хитро улыбнулся.
– Предлагаю отставить меряться чинами, – я чуть заметно улыбнулся. – Поговорим о деле.
– Дел много. В первую очередь необходимо улучшить командный состав армии, условия службы и быта офицеров, понимаешь, внести большую справедливость и равномерность в прохождении службы, увеличить оклады и отпуск.
– Как будем улучшать командный состав?
– В первую очередь займёмся реформой общего уровня образования офицеров, двухлетние курсы всех кадетских корпусов предлагаю заменить трёхлетними, так как объём информации, понимаешь, ежегодно увеличивается. Также займусь Академией Генштаба. Там и состав преподавателей стоит обновить, и материальную базу улучшить. Сроки прикомандирования офицеров генерального штаба к строевым частям стоит увеличить, чтобы теория, понимаешь, подкреплялась практикой.
– В целом, по улучшению материальной базы какие предложения?
– Тут, понимаешь, пища, одежда, жилище, много вопросов, особенно у младшего офицерского состава. Средств, понимаешь, не хватит. Потому начнём с ремонта казарм, введём чайное довольствие, походные кухни, а также разовьём сеть солдатских лавочек и чайных. Если немного оклады приподнять, смотришь, и армия воспрянет. Опыт закупки провианта у производителей, понимаешь, нарабатывать надо, производство консервов с длительным сроком хранения наращивать и галет, соответственно, полевые хлебопекарни будем внедрять. А для управления всем этим хозяйством, понимаешь, учредить планирую интендантский офицерский курс, чтобы были у нас свои снабженцы, в финансах и организации снабжения разбирающиеся.
– А что по вооружению?
– С поставкой лошадей уже порядок навожу. По артиллерийской части срочно требуется перевооружение ручным огнестрельным оружием и 76-мм скорострельными пушками, закупаем первые пулемёты и формируем первые пулемётные роты, внедряем новые образцы крепостной и осадной артиллерии.
– Советую также присмотреться к опыту англичан по созданию и оснащению бронепоездов, кстати, есть у меня предчувствие, что скоро появятся бронепоезда на гусеничном и колёсном ходу, – более прямого намёка на появление танков я дать не мог. – Кстати, присмотритесь к стали Гадфильда, его эксперименты по использованию добавок, улучшающих свойства этого материала, сейчас активно проводят немцы.
– Этот момент, понимаешь, я отдельно хотел обсудить. Внешнюю разведку необходимо улучшать и укреплять кадрами, на что также много средств понадобится.
– В этом направлении отказа не будет. Прошу сосредоточиться на двух моментах – промышленный шпионаж и контрразведывательная деятельность по недопущению вмешательства иностранных держав в наши дела. Думаю, логично будет развивать одновременно оба направления.
– Слушаюсь, Ваше Величество. Я вот ещё что задумал – сборы полевые, манёвры, учёбу на местности надо активнее использовать. Теории без практики грош цена. А для этого сразу попрошу 1,5 миллиона рублей на покупку участков, так как своих земель для этой цели у нас нет. В организационном отношении предложение также есть: штабы Петербургского, Московского, Одесского, Киевского, Туркестанского и Приамурского военных округов преобразовать по образцу западных пограничных военных округов. Главный штаб также, понимаешь, требуется переформировать, выделив в его составе управления: генерал-квартирмейстерское, дежурного генерала, военных сообщений и военно-топографическое для лучшего взаимодействия с окружными штабами.
– Да, уважаемый Алексей Николаевич, дел невпроворот.
– А мы, понимаешь, потихоньку, Николай Александрович, – хитрая улыбка заиграла на лице Куропаткина. – Потихоньку. Всё успевает тот, кто никуда не торопится.
– Да, порядка 8 лет на всё про всё у нас есть?
– Что вы этим хотите сказать?
– По имеющимся у меня данным, – я сболтнул лишнее, ведь о войне с японцами в данный момент никто даже не помышлял, теперь нужно было красиво выкручиваться. – Особо секретным данным – наш восточный сосед – Япония активно готовится к войне с нами. Собираюсь основательно обсудить эту тему с управляющим Морским министерством Павлом Петровичем Тыртовым. Вы лично знакомы?
– Близко не знаком, по службе несколько раз общались, нормальный мужик. Но японцы то, мать их, понимаешь, за ногу… – со всей искренностью произнёс Куропаткин, улыбка сошла на миг с его лица, но вскоре заиграла вновь. – А мы готовиться будем, Ваше Величество, серьёзно готовиться.
– Это правильно, и ещё про казаков не забудьте, вплотную прошу заняться улучшением их благосостояния и земельного устройства. На эту силу мы будем опираться при возникновении проблем внутренних…
Глава 9
В последнюю ночь перед возвращением в Санкт-Петербург мне приснился кошмар – при огромном стечении народа я нечаянно назвал Петербург Ленинградом. Хорошо хоть про выстрел «Авроры» не разболтал. Как там в анекдоте – в этот день Штирлиц был как никогда близок к провалу…
Проснулся я от стука капель дождя по окнам. Небо затянуло серыми тучами, дождь был не майский, а какой-то моросящий, осенний.
– Я не буду, я не буду целовать холодных рук, в этой осени никто не виноват, не виноват, я уехал, я уехал в Петербург, а приехал в Ленинград, – напел я с улыбкой знакомую песенку, и вдруг мне стало безумно грустно – куда забросила меня злодейка-судьба, ведь до рождения Гурченко и Моисеева ещё десятилетия, что уж говорить о временной пропасти с миром, близким и понятным мне. Очень захотелось отдохнуть от дел, посидеть и спокойно поболтать с кем-то, к примеру, с царственной супругой.
Александра Фёдоровна сидела за столиком напротив и очень маленькими, аккуратными глотками пила крепкий бразильский кофе из любимой кофейной чашечки. Это было единственное действенное средство, которое придавало ей на какое-то время бодрости и сил.
– Ники, майн либе, ты совсем меня не замечтаешь.
– Замечаешь, дорогая? То есть, конечно, я тебя замечаю, – я открыто улыбнулся супруге. Эта женщина, безусловно, заслуживала внимания и уважения. Она была мила, прекрасно образована, трудолюбива и по-своему хозяйственна. Верная супруга, многодетная (если ничего не изменится), заботливая мать. Конечно, здоровье Аликс оставляло желать лучшего: болела она много и часто. Беспокоили ноги, мучила подагра, хроническими были проблемы с сердцем и сосудами, периодически случался грипп (они здесь называли его инфлюэнцей). Но основной проблемой была истерия, о которой я знал ещё из прочитанного в прошлой жизни. Пока эта болезнь практически себя не проявляла, ведь рождение больного наследника ещё не случилось, но я-то, как никто другой, знал, что ген гемофилии В, унаследованный Аликс от своей царственной бабки – английской королевы Виктории, затаился в её организме и уже готовился к внезапному нападению на наших детей. Единственный ген в хромосоме Х, а какие страшные последствия для России и всего мира он имел. Кстати сказать, и в XXI веке заболевание является очень сложно излечимым. Помогает только введение свежезамороженной донорской плазмы и концентрата фактора свёртывания, а ещё препарат "Хемдженикс” по цене 3,5 миллиона долларов за дозу. Доллары на царском посту я бы, конечно, достал, но вот “Хемдженикса” в XIX веке не было и в помине.
– Ты весь в делах, планах, мыслях, но твоя семья тоже требует внимания, – Аликс холодно улыбнулась и спичкой зажгла папиросу в элегантном вытянутом мундштуке.
– Всё ради семьи, дорогая, всё ради семьи, – я не лукавил: все мои действия с момента появления в этом сюрреалистическом спектакле жизни были направлены на изменение хода исторических событий, но, ускоряя их, вполне возможно, я не откладывал, а ускорял и нашу общую гибель.
– Отдохни, поговори с умным человеком. Отец Иоанн Кронштадтский просил передать, что у него было видение, – Аликс обожала всё религиозно-мистическое, загадочное и неизвестное.
– Видение?
– Да, от него передали записку, в которой он описал свой сон. Парализованный лысый мужчина и крепкий кавказец, сидя на скамейке, говорили что-то про яд. Не они ли отравили бедного мальчика-революционера, стрелявшего в тебя?
– Я подумаю над этим, – про себя я улыбнулся, при этом очень сильно удивившись. Как мог святой провидец узреть сквозь время сцену встречи Ленина и Сталина в Горках и даже услышать их разговор, произошедший в период, когда недуг Владимира Ильича временно отступил?
– А ещё, Ники, мне показали чудесную девочку, праправнучку фельдмаршала Кутузова – Анечку. Ей всего 12 лет, но она такая милая, жизнерадостная и разумная, и даже собирается учиться в Петербургском учебном округе, чтобы стать домашней учительницей, когда она немного подрастёт, обязательно приглашу её к себе фрейлиной.
– Это ещё кто? – нечаянно я озвучил свою мысль.
– Анечка Танеева, дочь статс-секретаря Александра Сергеевича.
Я понял, о ком идёт речь. Анна Вырубова, правда, Вырубовой она станет через несколько лет после неудачного брака с морским офицером, – будущая ближайшая подруга императрицы. Правда, насколько я помнил, в реальной жизни они познакомились только в 1904 году. Время ускоряло свой бег, и это было очень тревожно!
– Я так соскучилась по Жамсарану, то есть Петру Александровичу, – продолжала щебетать Александра Фёдоровна, явно неизбалованная моим вниманием в последние дни. – Только он, Бадмаев, умеет быстро лечить мою ужасную мигрень. Тебе с ним обязательно надо поговорить, когда вернёмся домой, у него такие чудесные планы по развитию Дальнего Востока, правда, идея включения в состав нашей империи Китая, Монголии и Тибета меня пугает: наши территории и так огромны, сколько средств надо, чтобы навести на них хотя бы минимальный порядок.
– А ещё, Ники, наконец нашли следы Матроны Босоножки. Надеюсь, когда-нибудь нам удастся встретиться лично.
О таком персонаже, признаться, я ещё не слышал.
– Ходят слухи, что она предсказала появление у нас сына-наследника, и вроде бы знает какой-то секрет, чтобы уберечь его от неминуемой гибели, – Аликс заметно оживилась. – Ах, если бы нам найти какого-нибудь чудесного волшебника, чтобы он жил рядом с нами, помогал, советовал и лечил нашу семью. Как было бы прекрасно, ты согласен, мой дорогой?
Перед моими глазами предстал образ незабвенного Григория Распутина. С этим персонажем тоже ещё придётся разбираться. Но спорить с Аликс в это дождливое, но такое уютное утро совсем не хотелось.
– Конечно, дорогая. Лишь бы ты была счастлива!
Не буду утомлять вас, друзья, описанием переезда теперь уже моего многочисленного и пышного Двора в северную столицу. К моему сожалению, из-за отсутствия смартфона добавилась печальная необходимость всё записывать, и это так ужасно утомляло и отнимало массу драгоценного времени. Огромное количество встреч, новых лиц, событий и фактов требовало серьёзного подхода и систематизации. На моё счастье, человечество уже успело изобрести ежедневники. У меня в итоге их было пять – все в дорогих кожаных обложках. В торговом доме Простаковых моим помощникам удалось приобрести пару новомодных ручек Parker, завезённых из США, в которых использовалась новая система подачи чернил Lucky Curve («Счастливая кривая»), которая полностью оправдывала своё название. Трубка для подачи чернил и правда была изогнутой, что предотвращало их вытекание, и это в самом деле было настоящим счастьем не только для меня, но и для всех владельцев перьевых ручек. Цена каждой ручки была дикой – 99 рублей 99 копеек, но они явно того стоили, так как за эти первые дни в новом, а точнее старом, времени я наставил больше клякс на бумаге, чем за всю предыдущую жизнь. Ничего, успокаивал я себя, будешь умницей – и до автоматической шариковой ручки доживёшь. Хотя тут скорее меня доведут до ручки, – подумал я и усмехнулся.
Условно я называл свои ежедневники: «Армия и флот», «Внутренние дела и безопасность», «Экономика и промышленность», «Социальная сфера», «Исторические события, открытия и изобретения». Скажу сразу, что открытиям и изобретениям я уделял первоочередное внимание. Промышленная разведка, созданная по моему указанию, изучающая и, мягко говоря, добывающая сведения обо всех мало-мальски значимых изобретениях в мире, финансировалась по приоритетному принципу, довольно быстро окупая свою работу.
Эскалаторы и застёжки-молнии, крекинг нефти и процесс получения цветной фотографии, радиосвязь, рентгеновские лучи, телефонные станции, паровые турбины и кинематограф – меня интересовало всё, что могло ускорить прогресс внутри страны и увеличить доходную часть бюджета.
Особенно внимательно я присматривался к открытиям Николы Теслы – настоящего Илона Маска тех лет. Трансформатор, радиопередатчик, радиоуправляемое судно и пульт дистанционного управления – вот только некоторые его изобретения в последнем десятилетии XIX века, которые максимально быстро удалось акклиматизировать и начать выгодно использовать в России.
Огромное значение уделялось мною и образованию. Финансирование его было увеличено в 5 раз, но не до 1913 года, как было в прежней реальности, а в первом же бюджете-трёхлетке, который я высочайше утвердил. Даже при таком финансировании мы заметно отставали от развитых стран – мне удалось поднять затраты на одного учащегося с 21 копейки примерно до 1 рубля в год, притом, что в Германии, в пересчёте на рубли, этот показатель был 1 рубль 80 копеек, во Франции – 2 рубля 11 копеек, а в Англии вообще приближался к трём рублям. Число начальных учебных заведений удалось увеличить до 100000, охват детей начальной школой превысил 30%, а в городах составлял более 50%. Было открыто более 800 новых мужских и женских гимназий, постепенно мы готовили общество к единой совместной системе образования. Более 100 вузов готовили больше ста тысяч высококлассных специалистов. Предвидя промышленный бум, основной приоритет был отдан подготовке инженеров. Специальные мобильные группы, включающие ведущих педагогов Москвы и Санкт-Петербурга, колесили по стране в поисках одарённых детей, из которых (полностью за государственный счёт) мы растили высококлассных специалистов для дня завтрашнего.
Заметно выросли и ассигнования средств на развитие культуры. Сеть городских и сельских домов культуры широко раскинулась по стране, дав людям не только возможность качественно проводить досуг и раскрывать собственные таланты, но и многочисленные новые рабочие места. Учитывая не самый удачный опыт советского строительства, Дома культуры в сельской местности строились небольшими, уютными и компактными, чтобы в будущем не тратить огромные средства на их освещение и отопление.
Активно поощрялось мною и правительством расширение сети отделений Государственного и частных банков. Были разработаны программы кредитования и микрокредитования с дотируемыми государством ставками и специальная система государственного депозита с единым повышенным процентом по вкладам, привязанным к значению ключевой ставки.
Денежная реформа Витте, значительно расширенная и ускоренная мной, уже давала свои первые плоды, но денег всё равно категорически не хватало. Подпитанная кредитами предпринимательская инициатива принесла стране резкий рост промышленного производства, значительное расширение в структуре внутреннего валового продукта доли сферы услуг. Практически не отставало и сельское хозяйство.
Вы ведь прекрасно помните, что первый в мире паровой гусеничный трактор в 1881 году изобрёл россиянин Фёдор Блинов, а через 7 лет смог его построить. Трактор имел устройство по типу вагона, в котором была установлена паровая машина мощностью 12 л. с. Конструкция развивала скорость 3 версты в час (3,2 км/час). К сожалению, сам Фёдор Абрамович к моменту нашего знакомства был уже человеком весьма пожилым, а потому, с его благословения, работы по совершенствованию конструкции трактора возглавил Яков Васильевич Мамин, его талантливый ученик, на счету которого к этому времени уже были изобретения двухлемешного плуга и пожарного насоса, а также усовершенствование парового двигателя своего учителя – Блинова.
Именно в этот момент я понял, что в отличие от «Янки из Коннектикута», рождённого буйной фантазией горячо любимого мною Марка Твена, я – совершеннейший профан в технике. Чем я мог помочь Мамину? Рассказать о мощных тракторах моего времени, нарисовать картинку, не зная и не понимая их устройства и принципов работы? Интересно, а многие из вас досконально разбираются в устройстве карбюратора, самолётного двигателя, не говоря уже об атомной электростанции?
Что я мог в этих условиях? Опять же, искать людей талантливых, всячески помогать и благоприятствовать их работе. Я мог бы, конечно, назвать всех, но не буду утомлять вас бесконечным списком имён и изобретений. Всего нам удалось отследить и помочь скорейшему внедрению в жизнь достижений 193 учёных. Ботаника и математика, физика и химия, медицина и военное дело…
Дни пролетали почти мгновенно – бесконечные аудиенции, переговоры, расчёты, записи и обсуждения. А вечером – балы и званые вечера, которые лишь раздражали и отвлекали. Здесь я следовал одной из любимых цитат Булгакова. Помните наставления, которые давал незабвенный Коровьев Маргарите Николаевне перед балом? «Среди гостей будут различные, ох, очень различные, но никому, королева Марго, никакого преимущества! Если кто-нибудь и не понравится… я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на своем лице… Нет, нет, нельзя подумать об этом! Заметит, заметит в то же мгновение. Нужно полюбить его, полюбить, королева. Сторицей будет вознаграждена за это хозяйка бала! И еще: не пропустить никого. Хоть улыбочку, если не будет времени бросить слово, хоть малюсенький поворот головы. Все, что угодно, но только не невнимание. От этого они захиреют…».
От всех этих «малюсеньких улыбочек» лицо моё стало чрезвычайно подвижным, а сам я порой чувствовал себя провинциальным актёром, внезапно попавшим на столичную сцену. Только теперь я в полной мере начал понимать, что двуличие Николая II, о котором столь много сказано в мемуарах и воспоминаниях современников, было качеством вынужденным и вполне объяснимым, скорее всего, часть обещаний он не выполнял, просто забывая о них из-за широты ежедневного круга рассматриваемых вопросов.
Но за всей этой внешней добротой и улыбками мною были надёжно спрятаны трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей и стальная воля, которые усиливались врождённым инстинктом самосохранения. Я не просто латал дыры, а создавал систему, ускорял процессы, экспериментировал, ещё не зная, какой страшный удар ждёт меня в самые ближайшие дни.
Глава 10
28 мая 1896 года (по старому стилю, тому самому, который здесь и использовался) распахнула свои двери для посетителей XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде. Готовились основательно – к открытию выставки запустили первый в России электрический трамвай, установили фуникулёры – подъёмники, доставлявшие пассажиров из нижней части города в верхнюю, выстроили здания городского драматического театра, окружного суда, биржи Волжско-Камского банка, гостиниц, открыли скоростную пароходную линию, связывающую верхнюю часть города с его заречной частью.
На организацию данного мероприятия было затрачено чуть более 10 миллионов бюджетных рублей, и мне, безусловно, захотелось повнимательнее рассмотреть – насколько эффективно. Но даже это было вторичной целью моего визита.
Главной целью выставки было показать всему миру Россию как серьёзного, разнопланового и надёжного партнёра, стимулировать экономическое развитие страны, помочь отечественным производителям выйти на зарубежные рынки. Стратегически важно было возродить интерес иностранцев к «русскому хлебу», так как в последние годы происходило постепенное вытеснение отечественных хлебопроизводителей с традиционных европейских рынков. Основные наши конкуренты – Германия и США – шли на всё, чтобы вставить нам палки в колёса. Допустить снижения объёмов экспорта было никак невозможно – пшеница являлась одним из основных российских экспортных товаров, доходы от её продажи использовались для кросс-финансирования других секторов экономики, прежде всего – промышленности. Удельный вес России в мировой торговле четырьмя главными зерновыми культурами (рожь, ячмень, овёс и кукуруза) в прошедшем 1895 году превысил треть, а годовой объём экспорта составлял более 7 миллионов тонн. Нижегородская ярмарка всегда была одним из мировых центров торговли зерном, повышение её масштабов и статуса представлялось эффективной мерой в достижении роста объёмов экспорта.
Масштабы поражали – 84 гектара, 190 павильонов, зал для собраний на 900 человек, круговая электрическая дорога, деревянный оперный театр. Изумлённых посетителей встречали первая в мире гиперболоидная стальная сетчатая башня-оболочка и первые в мире стальные сетчатые висячие перекрытия-оболочки (прикрывающие сразу 8 павильонов выставки общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, включая уникальную ротонду Шухова – круглый павильон с висячей стальной сетчатой оболочкой покрытия), уникальный грозоотметчик А. С. Попова; первый русский автомобиль конструкции Евгения Яковлева и Петра Фрезе; бесчисленные технические изобретения, технологии, художественные достижения. Одновременно с выставкой планировалось проведение Всероссийского промышленного съезда. Именно поэтому для меня выставка была просто кладезем идей по развитию России на годы вперёд, я планировал пробыть в Нижнем не меньше пары недель и внимательнейшим образом всё осмотреть, пообщаться и познакомиться с самыми выдающимися людьми теперь уже моего времени.
На входе нас с Аликс и Марией Фёдоровной встречали Сергей Юльевич Витте (не только как председатель Комитета министров, но и в ранге председателя Особой комиссии по организации выставки), и два Саввы – Морозов и Мамонтов, – крупнейшие российские предприниматели, меценаты и благотворители. Встречающих было много, но именно эта мощная тройка буквально приковывала к себе внимание. Отломив и съев, по старинной русской традиции, кусочек бесподобного пшеничного каравая с солью, я с огромным удовольствием направился осматривать выставку.
Буквально несколько дней назад мне посчастливилось посетить выставку «Россия» на ВДНХ, но там я был рядовым посетителем, затерявшимся в толпе. Здесь же нас с Аликс и «матушкой» встречали в индивидуальном порядке, с блеском в глазах всё показывали и рассказывали, бесконечно фотографировали. Да, Николай, всё это отлично, только на кону стоит очень высокая цена – твоя жизнь!
Мы прошествовали мимо среднеазиатского отдела, оформленного в мавританском стиле, посетили павильоны Крайнего Севера, Ярославской, Тверской и Никольской мануфактур, фирм «Эйнем», Сергеева, Н. Н. Коншина, Товариществ Гарелина, Шибаева, какого-то Ф. Реддавея, осмотрели здания художественного отдела, департамента уделов, министерства путей сообщения, речного и морского торгового судоходства. Мое особое внимание привлекло роскошное здание товарищества нефтяного производства братьев Нобель, с панорамами заводов и промыслов в городе Баку.
Обедали мы в Императорском павильоне, построенном по проекту профессора А. Н. Померанцева в традиционном русском стиле. Набор блюд был довольно скромным, на выбор – волжская уха или окрошка с вяленым лещом, антрекот с жареным картофелем или ветлужские пельмени, ягодный кисель или лимонад с красными оладьями или яблочным пирогом. Признаюсь, что больше всего мою душу покорил лимонад Лагидзе, надо будет обязательно сделать хороший заказ этого чудесного напитка для Дворца. Я не преминул пожать руку Митрофану Варламовичу – настоящему мастеру в производстве безалкогольных прохладительных напитков.
Буквально через пару часов после обеда я почувствовал дурноту и был вынужден, простите за подробности, уединиться в туалетной комнате. В какой-то момент я понял, что теряю сознание, и, в полузабытьи открыв дверь, успел крикнуть своей свите: «Доктора!» …
Глава 11
Когда я очнулся, первым, что я увидел, было взволнованное лицо Густава Ивановича Гирша, нашего лейб-медика. Вокруг него стояли другие люди в белоснежных халатах и что-то тихо, но весьма интенсивно обсуждали шёпотом. Густав Иванович достался нашей семье по наследству от «батюшки» Александра III, он уже более 13 лет опекал и лечил членов императорской семьи. Но был всё-таки хирургом, а не терапевтом, отсюда, похоже, и возник этот «шелестящий» консилиум около моей кровати.
Кровати? Я огляделся. Да, я лежал на чистой накрахмаленной простыне и такой же точно был накрыт сверху. Как я узнал позднее, в консилиуме участвовали также старший врач губернской больницы Дмитрий Александрович Венский, молодой доктор Владимир Николаевич Золотницкий, а также «рабочий доктор» Александр Саввич Пальмов.
По лицам врачей я пытался понять, насколько серьёзен мой случай, но сделать это было совершенно невозможно – лейб-медик был бледен и взволнован, лицо Венского было красным с капельками пота на висках, Золотницкий был спокоен и сосредоточен, и, наконец, Пальмов широко улыбался и смотрел светло и радостно.
– Что со мной? – обратился я к лейб-медику.
– Арсе-е-е-никум, – Густав Иванович немного тянул слова, это была дань его детству и ранней юности, проведённым в Эстонии.
– Что, какой арсеникум?
– Мышьяк, Ваше Величество, как Вы себя чу-у-у-вствуе-е-те?
– Болит голова, горло пересохло и какой-то металлический привкус во рту.
– Все симптомы на лицо, – констатировал Венский. – Классическое отравление. Вам повезло, Ваше Величество, либо доза была не смертельной, либо нужно благодарить Ваш молодой и крепкий организм, который быстро среагировал на отраву. Если бы симптомы проявились чуть позднее, мы вас могли и не спасти.
– Был у нас один случай, так сказать, в качестве юмора, – весело начал Пальмов, остальные немного удивлённо посмотрели на него. – Так вот, был случай в рабочем квартале, хозяйка прикупила немного мышьяку, чтобы потравить крыс в подвальчике, да и перепутала его с солью. Муж ел, нахваливал суп, еле откачали потом. Вот уж он её лупцевал, когда немного отошёл. А ведь чуть совсем не отошёл…
– Что-о-о Вы такое говори-и-и-те? Его Величеству плохо, а Вы какой-то бала-а-а-ган устраива-а-а-ете, – в голосе Густава Ивановича прозвучало явное недовольство поведением коллеги.
– Господа, – решил разрядить обстановку опытный администратор Венский. – Давайте порадуемся благополучному исходу и благоприятствующему провидению, которое спасло Его Величество, и дадим пациенту возможность отдохнуть, а сами продолжим беседу в моём кабинете.
Последнее, что я слышал, прежде чем провалиться в сон, был командный голос Витте:
– Выставить охрану в коридоре, у двери и под окнами, никого до следующего утра не пускать…
Нижний Новгород навсегда запомнился мне этим горьким, металлическим вкусом и ощущением неимоверной слабости. Полностью я пришёл в себя только к вечеру третьего дня. Около моей кровати проходил теперь иной, куда более представительный консилиум, не имеющий ничего общего с медициной.
Витте, Столыпин, Добржинский, Аликс и Мария Фёдоровна, установив стулья полукругом, сидели у моей постели. Я попытался из уважения к присутствующим дамам встать, но вдовствующая императрица-мать нежно, но убедительно попросила этого не делать.
– Что-то удалось выяснить насчёт произошедшего? – я чувствовал себя уже достаточно бодрым, чтобы на равных с окружающими вести беседу.
– Удалось, Ваше Величество, но боюсь, новости Вас совсем не обрадуют. Мы установили основных участников заговора. Нити заговора тянутся, как и предполагал Антон Францевич, далеко за границу, – голос Столыпина был спокоен и уверен, – к Ротшильдам и Рокфеллерам. Именно их очень сильно испугала Ваша активность, и они решили принять оперативные меры.
– Так быстро? – я был искренне удивлён.
– Телеграф, – деликатно вмешался в разговор Витте, – плюс телефонная линия между Москвой и Петербургом, строительство которой по Вашему указанию очень сильно форсировалось. Эти люди умеют пользоваться всеми техническими новинками.
– А можно поподробнее? – мне было действительно интересно. Всё, что сейчас происходило, не имело к известной мне реальности никакого отношения.
– Антон Францевич, поведайте, пожалуйста, Его Величеству всё, что Вашей службе удалось установить, – попросил Столыпин.
– Слушаюсь. Начну, так сказать, с конца. Отравили Вас, Ваше Величество, предварительно добавив яд в несколько отмеченных заговорщиками бутылок лимонада разных сортов и, на всякий случай, в стакан с киселём. Поэтому шансов избежать яда у Вас практически не было. Сделал эту, так сказать, гнусность молодой официант Иван Максимов, не просто так, кстати, а за щедрый гонорар в 100 рублей. Расспросив его, так сказать, с пристрастием, мы выяснили, что деньги ему обещал некто Дмитрий Белов, числящийся помощником управляющего одной из нефтедобывающих компаний, а здесь, на выставке, работающий в павильоне нефтяного производства братьев Нобель.
– Павильон Баку, Вам он ещё очень понравился, – вставил свои «пять копеек» Витте.
– Но Вы же сказали Ротшильды и Рокфеллеры, причём же здесь человек Нобелей?
– Здесь важно уточнить – он не человек Нобелей, он явно засланный казачок. Подумайте, Ваше Величество, обеспокоенные Ротшильды или Рокфеллеры наносят сразу двойной удар, пытаясь нейтрализовать Вас и, одновременно, подставить ничего не подозревающих братьев Нобель, – Витте улыбнулся. – Только они забыли русскую пословицу про двух зайцев и в итоге не поймали ни одного.
– А московские покушения тоже напрямую связаны с этими семейками Адамсов?
– С кем, простите? Про Адамсов мне ничего не известно, – Витте удивлённо заморгал, переглянувшись с остальными.
– Мне кажется, Николай Александрович, ещё не пришёл до конца в себя, – поспешила мне на помощь Мария Фёдоровна.
– В Москве всё гораздо, так сказать, сложнее, – Добржинский, прежде чем вновь заговорить, посмотрел на Столыпина и дождался его разрешающего кивка, – У нас в руках нет живых исполнителей. Но дело не безнадёжно. Во-первых, в камере был отравлен Карпович, причём тем же мышьяком. Нам удалось выяснить, что в тот день еду по камерам разносил некто Игнат Дробышев, который сменился ровно в 14:00 и больше его никто не видел – ни дома, ни у друзей и знакомых его не нашли, но, в конце концов, он не мог ведь бесследно исчезнуть, потому поиски продолжаются. Вторая нить – взрыв перед началом стрельбы на Ходынском поле. Мои люди активно ищут факты недостачи пороха и взрывателей на военных складах по всей стране. А теперь, пожалуй, самое важное…
– Позвольте мне продолжить Ваш рассказ, – остановил Добржинского Столыпин. – У нас по линии жандармского отделения появилась информация, что как минимум два человека в Вашем ближайшем окружении с высокой вероятностью находятся на обеспечении у двух этих, не к ночи помянутых, семейств. Прошу не удивляться, но это барон Владимир Борисович Фредерикс, генерал-лейтенант, шталмейстер и помощник Министра Императорского двора, и Дмитрий Фёдорович Трепов, сын бывшего губернатора Санкт-Петербурга Фёдора Фёдоровича Трепова, ныне справляющий должность одного из заместителей московского обер-полицмейстера Власовского.
– Ах, – только и смогла произнести Аликс.
Моё лицо в этот момент, сдаётся мне, тоже выражало крайнюю степень удивления. Два ближайших человека в окружении Николая II. Фредерикс буквально в следующем году должен был стать Министром Императорского двора и успешно выполнять свои обязанности вплоть до Февральской революции 1917 года. А Трепов, верный царский пёс, московский обер-полицмейстер в прежней реальности, назначенный после Ходынской давки, будущий генерал-губернатор Санкт-Петербурга и товарищ Министра внутренних дел.
– Так вот, – невозмутимо продолжал Столыпин. – Первого подозреваем в игре на Рокфеллеров, второму благоволят Ротшильды. Оба ярые западники, правда, ни в чём предосудительном до сего дня не замечены.
– Расклад пасьянса понятен, – резюмировал Витте. – Зная смертельную вражду между двумя влиятельнейшими семьями мира, нам осталось определиться – Рокфеллеры или Ротшильды, Фредерикс или Трепов?
– У меня есть оригинальная идея на этот счёт, – опытнейшую Марию Фёдоровну было трудно вывести из себя. – Тебе нужно встретиться с ними, Ники, возможно, тогда ты и поймёшь – кто твой главный враг.
– Господа, убедительно прошу не забывать, что именно Ротшильды предоставили нам заёмный драгоценный металл для обеспечения золотого стандарта рубля, – Витте заметно разволновался. – Прошу проявить максимум осторожности и деликатности.
– А мы для начала начнём с более простых вопросов – продолжим искать убийцу Карповича и место утечки боеприпасов, – Столыпин, как всегда, был предельно конкретен.
– Отлично, господа, тогда я, с вашего позволения, продолжу в ближайшие дни внимательно изучать отечественные новинки и достижения, только попрошу усилить охрану и назначить надёжного дегустатора блюд, чтобы избежать новой попытки отравления, – последнее слово, как и полагалось, осталось за мной.
В эту ночь я долго не мог заснуть, размышляя о взаимоотношениях Фредерикса и Трепова с влиятельнейшими семьями мира в прежней реальности. А потом мне вновь приснился Иван Васильевич Грозный в исполнении горячо любимого актёра Юрия Яковлева, настойчиво тыкающий в меня кубком и требующий отпить из него…
Глава 12
Чуть оправившись после попытки отравления, я с двойным энтузиазмом продолжил изучение выставки, знакомясь с людьми, изобретениями и достижениями родной страны. При этом я наметил в ближайшее время уделить первостепенное внимание двум вопросам – здравоохранению и развитию флота.
Охрана моя была заметно усилена, специальный человек дегустировал всё, что мне предстояло съесть и выпить. Начальник охраны всё время пытался напялить на меня противопулевой жилет, собранный из стальных пластин, а потому совершенно неподъёмный. Это приспособление в марте 1891 года во время покушения спасло жизнь премьер-министру Болгарии Стефану Стамболову. Через 4 года его – революционера и поэта – зарежут трое, чьи имена он постарался назвать в последние секунды жизни. В заказном убийстве обвинят Россию, но, пользуясь случаем, хочу уверить вас в нашей совершенной непричастности к этому делу. На Западе так всегда – сами между собой разбираются, а Россия у них виновата…
При всём уважении к нынешнему лейб-медику Густаву Гиршу, я решил усилить медицинское обеспечение царской семьи, пригласив к нему помощником лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина, сына выдающегося российского врача-терапевта и учёного Сергея Петровича Боткина. Данная кандидатура привлекла меня прежде всего бесконечной верностью Евгения Сергеевича царской семье в известной мне действительности. С императором, его женой и детьми он был до последнего смертного часа и мужественно принял мученическую смерть в подвале дома инженера Ипатьева. Будем надеяться, что и в этой жизни он нас не подведёт, а уж я, в свою очередь, позабочусь об увеличении продолжительности его жизни. В прошлом году Боткин уехал в Германию, где в ведущих медицинских учреждениях Гейдельберга и Берлина слушал лекции и занимался практикой у знаменитых немецких врачей – профессоров Г. Мунка, Б. Френкеля, П. Эрнста и других. Это меня по-настоящему радовало, и я готов был подождать его возвращения пару-тройку месяцев.
В эти дни я решил взяться за вопросы здравоохранения в стране всерьёз. Каково же было моё удивление, когда от специалистов я узнал, что медицина в стране, по сути, была бесплатной – да, именно, – бесплатными были амбулаторное лечение, лечение в больницах, хирургическая и специальная помощь, родовспоможение. Плата за медпомощь сохранялась только в уездных городских больницах и лишь для пациентов из других уездов. Таким образом, "великое завоевание Октября"– бесплатное медицинское обслуживание, оказывается, было в целом достигнуто в Императорской России уже в конце XIX столетия.
Мне оставалось увеличить число земских и уездных больниц и количество коек в стационарах, обеспечить кадровый состав медучреждений в провинции, систематизировать и отладить лекарственное снабжение жизненно важными препаратами. Особенно меня тревожила проблема высокой смертности от острых инфекционных заболеваний: чумы, оспы, холеры, тифа.
– Здоровье нации должно стать одним из приоритетов социальной политики, – заявил я на выездном заседании Особой комиссии по борьбе с чумой, которым руководил принц Александр Петрович Ольденбургский. – Наша медицина получила международное признание. В Российской Империи сложились выдающиеся научные школы, во многом опередившие развитие медицины и здравоохранения в других развитых странах, посему основной задачей на сегодня вижу внедрение передовых научных достижений в жизнь, применение их на практике, а также создание новых протоколов лечения основных заболеваний современными эффективными методами. Нам в срочном порядке необходимо построить трёхзвенную структуру медицинской помощи населению: врачебный участок, уездная больница, губернская больница.
Забегая вперёд, скажу, что в целом реформа здравоохранения прошла успешно. Быстрыми темпами развивалось открытие новых больниц и медицинских учреждений, значительно увеличилось число врачей, фельдшеров, акушерок, дантистов. Значительно выросло число аптек и профессиональных фармацевтов. Уже к 1900 году в 17 медицинских вузах училось около 10000 студентов. За пять лет почти в 3 раза сократилась смертность от инфекционных заболеваний, во всех более-менее значимых населённых пунктах появились санитарные врачи с широкими полномочиями. В городах заработали центры скорой медицинской помощи. За первое десятилетие моего правления ежегодное число получающих медицинскую помощь выросло вдвое и достигло 100 миллионов человек, смертность взрослого населения снизилась примерно на четверть, а детская – вдвое.
Ах, мне бы ещё антибиотики, но до открытия пенициллина Флемингом оставалось три десятилетия, а создатель российского пенициллина Зинаида Виссарионовна Ермольева вообще ещё не успела родиться.
Надо сказать, что с Александром Петровичем Ольденбургским у нас сложились прекрасные отношения. Этот человек в 1890 году на собственные средства открыл Институт экспериментальной медицины в Петербурге, на базе которого мы адаптировали к российским условиям лучшие зарубежные открытия и практики. Также много жизней в России спасла особая изолированная противочумная лаборатория, под которую был выделен Кронштадтский форт «Император Александр I». Чуть позже принц основал первый на Кавказском побережье Гагрский климатический курорт, проложив в район железнодорожную ветку, поборов местную лихорадку и благоустроив гагрские пляжи. После этого реальностью стали бесплатные льготные путёвки для малообеспеченных сограждан.
При мощной финансовой поддержке государства русская медицина испытала настоящий рассвет. Мною были обласканы и обеспечены всем необходимым будущие Нобелевские лауреаты – физиолог Иван Петрович Павлов, микробиолог Илья Ильич Мечников и многие другие. Русские учёные провели новаторские исследования структуры мозга, стояли у истоков новых областей медицины: судебной психиатрии, гинекологии и гигиены, были основоположниками электрофизиологии и электрокардиографии. Так было и в известной мне реальности, но я продолжал максимально ускорять все процессы развития страны.
Самое пристальное внимание было уделено армейской и флотской медицине: специальные институты и академия, обновление оборудования на уровне первичного звена, увеличение зарплат медиков и медицинского персонала…
Расследование, возглавляемое Столыпиным и Добржинским, результатов пока не приносило, это немного напрягало, но обилие работы отвлекало от грустных мыслей.
В Нижнем Новгороде у меня состоялась и первая встреча, положившая начало нашей активной работе с Павлом Петровичем Тыртовым – адмиралом, известным русским флотоводцем и управляющим Морским министерством. Развитие флота было самым важным вопросом моего целеполагания. Во-первых, в октябре нам предстояло провести большой морской парад, посвящённый 300-летию создания Российского флота, а во-вторых, и об этом знал пока только я, через несколько лет нам предстояла война с Японией с целой чередой сражений флотов.
Глава 13
«Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг», – песня, конечно, замечательная, но сама история её создания весьма грустная. Разве это дело, когда во время Русско-японской войны крейсер русского флота «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вступили в неравный бой против шести японских крейсеров и восьми миноносцев в районе бухты Чемульпо. Надо будет немало потрудиться, чтобы не допустить подобного.
Российское военно-морское руководство находилось под влиянием доктрины «морской мощи» американского адмирала-теоретика Альфреда Тайера Мэхэна, придерживавшегося концепции, согласно которой определяющая роль океанского флота в грядущих войнах якобы окупала все затраты на его постройку. В целом я был с этим согласен, но, зная события грядущего, значительно перераспределил морские силы между флотами. Особо экспериментировать тоже было опасно. Наш вечный враг Великобритания внимательно отслеживала всё происходящее на Чёрном море. И неизвестно ещё, как изменится ход истории, если этот флот ослабить. Тоже касается и Балтийского флота. Но в любом случае нужно значительно укреплять Тихоокеанский.
На момент нашей встречи с адмиралом Балтийский флот имел в своём составе свыше 250 современных кораблей всех классов, в том числе эскадренные броненосцы «Пётр Великий», «Император Александр II», «Император Николай I», «Сисой Великий», «Гангут», «Наварин», «Полтава», «Севастополь», «Петропавловск», броненосцы береговой обороны «Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин», броненосные крейсера «Генерал-Адмирал», «Герцог Эдинбургский», «Минин», «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах», «Адмирал Нахимов», «Память Азова» и бронепалубный крейсер «Адмирал Корнилов».
Черноморский флот располагал куда более полноценными линкорами, чем Балтийский, и имел в своём составе 7 эскадренных броненосцев, 1 крейсер, 3 минных крейсера, 6 канонерских лодок, 22 миноносца и другие корабли поменьше.
Первая Тихоокеанская эскадра была гораздо слабее и малочисленнее. Я дал указание пересмотреть взгляд на военное положение России в Тихом океане и принять срочные меры по значительному усилению Тихоокеанского флота. Было принято решение ограничиться на Балтийском море флотом береговой обороны, а за счёт него увеличить силы Тихого океана до 10 эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсеров, 10 бронепалубных крейсеров, 10 крейсеров 2-го ранга, 2 минных заградителей, 36 истребителей и миноносцев. Помимо этого, я значительно ускорил начало производства линкоров-дредноутов типа «Императрица Мария». По моим расчётам, 4-5 кораблей такого типа могли реально изменить ход войны на просторах Тихого океана. Линкоры-дредноуты получили более мощную артиллерию, в состав которой вошли четыре 305-мм орудия главного калибра и четырнадцать 203-мм орудий среднего калибра, из которых 8 орудий были установлены в четырех двухорудийных башнях, а шесть – в казематах верхней палубы.
Огромное внимание уделялось и развитию подводного флота. Росло число подводных лодок и значительно улучшались их технические характеристики. Немаловажным фактором также являлось то, что Русский Императорский флот на Тихом океане получил на побережье Жёлтого моря долгожданную незамерзающую базу – Порт-Артур, куда мы начали перебазировать корабли из Владивостока, но, учитывая мои знания будущего, которое я объяснял окружающим как предчувствие помазанника Божьего, Владивостокский отряд крейсеров и номерных миноносцев также был значительно усилен.
Параллельно я дал распоряжение строить новую – Вторую Тихоокеанскую эскадру. Российские корабельные (скажу больше – все военные заводы) работали круглосуточно, но всё равно не справлялись с масштабом поставленных задач. Поэтому по нашему заказу в Германии строились бронепалубные крейсера «Богатырь», «Новик», «Аскольд», Франция строила для России эскадренный броненосец «Цесаревич», Америка – целую партию крейсеров проекта «Варяг». Кстати, мы убедительно попросили американцев подумать о броневом прикрытии орудий, расположенных на верхней палубе, чтобы облегчить в будущем работу артиллерийских расчётов.
Шло активное оснащение флота самыми мощными орудиями калибром до 305мм и орудиями среднего (152-203мм) калибра. Большинство русских корабельных орудий были французскими или английскими. Это объяснялось тем, что в русском Морском министерстве появились франкофилы, которые попытались свернуть выгодное русско-германское сотрудничество. Я постарался исправить эту ситуацию, зная расклады грядущей Первой мировой войны. Ничто так не улучшает межгосударственные отношения, как взаимовыгодное сотрудничество. На самом деле работы хватало всем.
Кардинальной доработки требовали броненосцы береговой обороны. Помимо слабого вооружения, у них был малый запас хода и малая осадка, характерная для Балтийского моря, что было совершенно недопустимо в условиях Тихого океана.
И, конечно же, нужно было доводить до ума русские бронебойные снаряды, недостатки которых, как я хорошо помнил, выявило Цусимское морское сражение. При попадании в корабль противника они не взрывались, при этом японские фугасные снаряды, снаряженные шимозой, при попадании в русские корабли при взрыве давали большое число осколков и вызывали пожары, причём несмотря на то, что экипажи перед боем убирали все деревянное и горючее, это не помогало. Почему бы и нам не использовать опыт будущего противника?
Отдельно предстояло позаботиться и о порохе. Новый пироксилиновый порох значительно увеличивал скорострельность орудий. Благо первый завод по производству такого пороха в нашей стране открылся в Казани в 1894 году.
Кстати, немного отвлекусь и расскажу довольно интересную историю. Бездымный (пироксилиновый) порох был изобретён в 1884 году французским инженером, механиком и химиком Полем Мари Эженом Вьелем вместе со своим коллегой – Пьером Бертло. Новый порох был настолько хорош, что французская военщина моментально засекретила изобретение. В России задачу раскрыть секрет производства данного продукта поручили самому выдающемуся химику – Дмитрию Ивановичу Менделееву. Он, пользуясь мировым авторитетом и прекрасными отношениями с изобретателем, мог бы, подобно Джеймсу Бонду, тайком прокрасться в офис производящей компании, взломать сейф и выкрасть рецепт. Или взять в заложники самого Вейля, долго его пытать, вырвать клещами правду, а потом растворить ненужного изобретателя в плавиковой кислоте. Но Менделеев поступил как настоящий учёный. Он досконально изучил статистику железнодорожных перевозок и характер грузов, транспортируемых на заводы по производству пороха. И пришёл к выводу: если одно, другое и третье смешать в нужных пропорциях, получится то самое!
Чтобы не сдавать Порт-Артур в ближайшем будущем и не сжигать с потом и кровью построенные корабли, я попросил уделить первоочередное внимание усилению береговой артиллерии. Пока мы ориентировались на 10-дюймовые пушки образца 1895 года с усиленными лафетами. В дальнейшем их заменят более современные и скорострельные орудия. По этому вопросу я пообщался с военным инженером полковником Константином Ивановичем Величко и на четыре года приблизил срок окончания работ, чтобы успеть к началу войны. Согласно проекту, необходимо было установить на приморском и сухопутном рубежах обороны базы 552 орудия, из них 124 на 22 береговых батареях. Я предложил на 40% увеличить эти цифры, чтобы суметь защитить побережья бухт Голубиной, Тахе и горный массив Лаотешань и не позволить противнику безнаказанно обстреливать Порт-Артур и его оборонительные сооружения со стороны моря. Также я распорядился увеличить гарнизон Порт-Артура до 18000 человек, а затраты на сооружение сухопутных и приморских укреплений увеличить вдвое – до 30 миллионов рублей…
А ещё стране предстояло построить новую ветку снабжения Дальнего Востока. Единственная железная дорога была стратегической артерией, перерезав которую, враг мог оставить наш Тихоокеанский флот без снабжения. Пока я дал задание разрабатывать проект, что из этого вышло, расскажу позднее.
Сказать, что я уставал, было не сказать ничего. Круг рассматриваемых вопросов всё ширился. Если бы не сильная команда профессионалов с Сергеем Юльевичем Витте во главе, я бы уже, скорее всего, сломался.
Через три недели мы с семьёй вернулись в Санкт-Петербург. Там, как оказалось, меня ждали интересные новости. Столыпин и Добржинский запросили аудиенции на следующее утро после моего прибытия в столицу.
Глава 14
Как всё-таки странно устроен человек. Я как-то пару раз бывал в Эрмитаже, и он мне тогда казался таким пафосным, громоздким, неуютным. Теперь же Зимний Дворец воспринимался как дом, и к немалому своему удивлению я ощутил приятное чувство возвращения в родную гавань. Интересно, а если бы меня поселили среди жутких экспонатов кунсткамеры, насколько быстро бы я привык и освоился?
В этой связи хочу вставить небольшую ремарку. Наше проживание в Зимнем дворце было временным, связанным с кардинальной перестройкой Александровского дворца в Царском Селе, затеянной ещё подлинным Николаем Александровичем по настоятельной просьбе супруги Александры Фёдоровны. В итоге была уничтожена свитская половина: на её месте появились личные апартаменты императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны. В левой анфиладе – Спальня, Сиреневый кабинет и Палисандровая гостиная императрицы, в правой – Столовая (Приёмная Николая II), Рабочий кабинет, Уборная императора и другие служебные помещения. Чуть позже был уничтожен Концертный зал Дж. Кваренги, занимавший всю ширину левого корпуса. Архитектор Сильвио Амвросиевич Данини предлагал несколько вариантов приспособления корпуса под жилые и парадные покои для императорской семьи. В одном из проектов он предусматривал сохранение Концертного зала, однако в ходе работ, выполненных фирмой Мельцера, Концертный зал всё-таки был уничтожен, и на его месте на первом этаже левого флигеля Александровского дворца появились Кленовая гостиная Александры Фёдоровны и Парадный (Новый) кабинет императора Николая II, а на втором – комнаты детской половины; коридор, разделяющий личные апартаменты императора и императрицы, был продлён до Угловой гостиной. Также под правой половиной открытого дворика был устроен подвал, и в цоколе колоннады пробиты окна для его освещения.
По случаю возвращения в Петербург был подан праздничный завтрак, в котором принимали участие, помимо нас с супругой и Марией Фёдоровной, ещё порядка двух десятков родственников и самых доверенных лиц. Яйца всмятку, ветчина, бекон, несколько видов бесподобного хлеба – ржаного, сдобного, сладкого, фантастическое по вкусу сливочное масло, сочные ломтики сёмги, чёрная икра, маринованные миноги (терпеть не могу!), свежевыпеченные круассаны, большой выбор джемов и варенья. Мне по традиции подали «моё любимое» блюдо – драгомировскую кашу. Звучит красиво, но по сути это была гречка с грибами и сливками. Правда, подавалась она слоями, как пирог, и была щедро полита ароматным соусом из лесных грибов. Николай II очень любил это блюдо, поэтому, чтобы не вызывать подозрений, мне тоже приходилось регулярно им питаться.
Я немного отвлекусь и пооткровенничаю с вами – первое время я был буквально в шоке от обилия чёрной икры и никак не мог ею вдоволь наесться. Но не может ведь Император Российский заглатывать деликатес столовыми ложками? Поэтому немного, аккуратно, пара-тройка бутербродов. И знаете – я начал со временем понимать незабвенного таможенника Верещагина из кинофильма «Белое солнце пустыни». Самое интересное, что исполнитель роли Павел Луспекаев не был рад редкому угощению. Зрители ошибочно считают, что в кадре актёр ест какой-то заменитель, похожий на чёрную икру. Деликатес был самым что ни наесть настоящим, в чём Луспекаев убедился за несколько дублей, съев практически килограмм. Именно поэтому он в сердцах и сказал: «Опять эта проклятая икра!».
А ещё я был в восторге от мороженого. Чистый, насыщенный вкус, в меру жирное и сладкое, с лёгкими нотками ванили. Никаких тебе консервантов и искусственных ароматизаторов, да и пальмовое масло в России также ещё не использовалось. Кстати, те, кто считает, что оно появилось в России в годы перестройки, глубоко ошибаются – первые 583 тонны этого продукта были завезены в СССР в 1961 году по личному распоряжению Никиты Сергеевича Хрущёва, правда, использовалось оно первое время в основном при изготовлении маргарина.
Аликс с удовольствием ела калач. Это, пожалуй, был самый любимый ею продукт в России. Именно благодаря ей при дворе был возрождён настоящий культ калача, известного на Руси, благодаря татарам с XIV века, правда, в русском варианте в тесто добавлялась ещё ржаная закваска. С чуть меньшим удовольствием «моя супруга» употребляла в пищу пряники. Традиционные русские щи и холодец вызывали у неё полное непонимание, перемешанное с лёгкими приступами тошноты, поэтому она отдавала предпочтение кухне европейской, предпочитая лёгкие и вычурные французские блюда. Впрочем, немецкая кровь также напоминала о себе, а потому жареный картофель, тушёная капуста и жирные свиные колбаски с румяной корочкой всегда были желанными гостями на наших пикниках и во время обедов на свежем воздухе, к примеру, на яхте.
Но вернёмся к событиям этого утра. Столыпин и Добржинский также завтракали с нами. После трапезы я жестом пригласил их в свой рабочий кабинет.
Простите, но вновь немного отвлекусь. Что ещё отличало меня от настоящего Николая II, так это моё полное равнодушие к курению. Я видел в кабинете моего предшественника массу турецких папирос, при Дворе говорили, что он выкуривал их по 30 штук в день, пользуясь длинным, также турецкого производства, мундштуком. Запах сигар, как оказалось, был нелюбим нами обоими. К счастью, мой отказ от курения вызвал не удивление, а горячее одобрение супруги и матери, также покуривавших, но гораздо реже. Причём все знали про специальное табу, наложенное Марией Фёдоровной – фотографировать её с сигаретой было категорически запрещено, за это можно было сразу лишиться должности, потому до нашего времени и не дошло ни одной фотографии курящей матери-императрицы.
Столыпин был активным сторонником здорового образа жизни, Добржинский, возможно, и закурил бы, вдохновлённый примером прежнего Николая II, но в нашем «безникотиновом» обществе сделать это он не решился. Ну и отлично, всё будет меньше предпосылок для внезапной смерти. Судя по настроению, обоим им не терпелось поделиться новостями.
– Ваше Величество, – спокойно начал Столыпин. – Хочу доложить, что высокопрофессиональная слежка, установленная за Треповым и Фредериксом, на данный момент дала минимальные результаты – были зафиксированы встречи с иностранными подданными, укладывающиеся, однако, в логику служебных обязанностей объектов наблюдения, но зато мы нашли канал утечки взрывчатых материалов с одного из военных складов в Кашире. Наши люди выявили существенную недостачу, причём никакой политической подоплёки – чистое разворуйство. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, Антон Францевич.
– Да, установили недостачу, задержали и начали допрашивать, так сказать, подозреваемых. И один из них, некто Илья Головлёв, вспомнил, что покупателем последней партии динамита и взрывателей был высокий, хорошо одетый, средних лет человек с заметным английским акцентом.
– Британская разведка?
– Мы установили наблюдение за сотрудниками английского посольства и сделали фотографии всех, кто за последние две недели покидал его территорию. И, так сказать, сработало – на одном из фото Головлёв опознал своего покупателя. Им оказался некто Уильям Бейкер.
– Пекарь? – непроизвольно вырвалось у меня.
– Почему пекарь, Ваше Величество, Вы лично его знаете?
– Нет, конечно, просто «baker» в переводе с английского – пекарь.
– Оригинально, – Столыпин не мог скрыть улыбки, – Получается, что Шерлок Холмс и доктор Ватсон снимали квартиру на Бейкер-стрит – улице Пекарей?
– Таких господ в составе персонала английского посольства точно нет, – на полном серьёзе ответил гораздо менее начитанный Добржинский.
– Это герои новомодного цикла детективных рассказов популярного английского писателя Артура Конан Дойла, – счёл нужным я пояснить. – Простите, что отвлекли Вас, уважаемый Антон Францевич, продолжайте, пожалуйста.
– Так вот, этот самый Бейкер оказался никем иным, как одним из ответственных секретарей посольства, а по сути – штатным британским разведчиком.
– А какое отношение он имеет к Рокфеллерам или Ротшильдам?
– К Ротшильдам, Ваше Величество, и, так сказать, самое прямое. Нам с помощью военной контрразведки, так своевременно Вами обновлённой и усиленной, удалось выяснить интереснейший факт. Этот Уильям Бейкер, а на самом деле Остин Бэбкок, довольно рано осиротел и попал в приют. Там он, заметно выделявшийся ростом и спортивной фигурой среди сверстников, был замечен неким господином, который стал регулярно брать юношу на выходные, а позднее оплатил его обучение в престижном колледже Питерхаус, а потом и в престижнейшем университете Кембридж. С учётом ежегодной стоимости обучения порядка 600-800 фунтов, то есть порядка 6000-8000 рублей, позволить себе такое, так сказать, удовольствие мог только человек очень состоятельный.
– Кстати, Ваше Величество, наши коллеги из разведки установили интересный факт – мальчиков, а точнее, уже юношей, подобных Остину, хорошо развитых физически и интеллектуально, некто неизвестный регулярно по выпуску из приюта устраивал на учёбу в престижные заведения и полностью её оплачивал.
– Может быть, это какой-то любитель, простите, господа, мальчиков? Забирал их к себе на выходные, привязывался, а потом из чувства благодарности устраивал их судьбу, – решил я выступить в роли наигранно сомневающегося оппонента.
– Тогда это скорее любитель студентов самых престижных и дорогих университетов страны, – усмехнулся Столыпин. – Можно, конечно, теоретически допустить, что параллельно этот тип любил вести высоконаучные беседы с просвещённой молодёжью – у богатых, как известно, свои причуды, но уж больно дорогое удовольствие. Если число таких любимчиков достигало нескольких десятков, то ежегодная сумма на их обучение получается поистине фантастической. Гораздо вероятнее иное. По нашим данным, банковская династия Ротшильдов, основанная в начале XVIII века Мейером Амшелем Ротшильдом, была традиционно связана с разведывательными службами. Ещё во время войны с Наполеоном Ротшильды создали разветвленную агентурную сеть, в которую входило более двухсот источников информации. Все полученные ими разведданные, как, впрочем, и налаженные банковские возможности по межгосударственному переводу капиталов, Ротшильды предоставили в распоряжение Британской короны, добавив к этому крупные займы на войну против Наполеона. Когда речь шла о защите Отечества, они не останавливались перед затратами и умели рисковать, делая большие ставки, но при этом семейство не забывало о приумножении собственного капитала при любой удобной возможности.
– Задержать официально этого Уильяма-Остина мы не можем, дипломатический иммунитет, но заманить его в ловушку и поговорить по душам тет-а-тет, почему бы и нет?
– Не получим ли политический скандал? Может, имеет смысл проконсультироваться с министром иностранных дел?
– Ваше Величество, неудобно, право слово, но при всём уважении к Алексею Борисовичу Лобанову-Ростовскому, семьдесят два года дают о себе знать. Последние договоры с Китаем и Японией дались ему очень большой кровью, выглядит он вялым и уставшим. Простите, что лезу не в своё дело, – на лице Столыпина не было и тени смущения, – но я бы настоятельно рекомендовал найти более молодого и активного человека на эту ответственную должность.
– Благодарю за совет и вашу откровенность, я обязательно пообщаюсь по этому вопросу с Сергеем Юльевичем Витте, а вы, господа, займитесь пока доскональной разработкой операции по Уильяму-Остину. Как назовём её, господа?
– «Пекарь», так сказать, Ваше Величество, – прыснул в усы Антон Францевич, неожиданно рассмешив нас со Столыпиным.
Глава 15
На должность министра иностранных дел я решил пригласить Владимира Николаевича Коковцова, предварительно получив согласие Витте. Возможно, вас немного удивит мой выбор, но вы должны меня понять – я мало знал людей из своего нового окружения. Фамилия Коковцова наравне с Витте и Столыпиным была известна мне ещё со времён далёкой студенческой юности. Позже я читал много разного про этих людей, но нельзя отрицать, что вся эта тройка состояла из людей ярких, одарённых, крупнокалиберных.
Владимир Николаевич в настоящий момент исполнял обязанности товарища министра финансов, но так как Витте решил по моему согласию совместить посты председателя Комитета министров и министра финансов, назначение Коковцова министром иностранных дел выглядело вполне логично. Карьерный рост, удовлетворение здоровых амбиций, отличные отзывы Государственного секретаря Вячеслава Константиновича Плеве, с которым претендент на высокую должность ранее вместе работал, опять же пять лет службы в Министерстве юстиции. По воспоминаниям современников, в отличие от Столыпина, он не был политиком и стремился лишь к сохранению своего «статус-кво». «Отличаясь, как и Витте со Столыпиным, высоким профессионализмом, размахом мышления, имея, что называется, «государственный ум», обладая осмотрительностью и необходимой на таком посту в России осторожностью и неторопливостью, он был человеком необычайно порядочным и цельным, обладал качествами, которыми после него уже, пожалуй, мало кто мог на этом посту в России похвастаться. Впрочем, хвастаться Коковцов не любил, был скромен, хотя и далёк от самоуничижения, придворного холопства. И в манере поведения, и в своих управленческих действиях он, тут Николай II был прав, не заслонял его…».
Конечно, в тот момент дословно цитату я не вспомнил, но факты, изложенные в ней, глубоко запали мне в мозг много лет назад.
– Владимир Николаевич, – встретил я Коковцова доброжелательной улыбкой.
– Доброе утро, Ваше Величество.
– Владимир Николаевич, мы оба люди деловые, а потому тянуть не буду и сразу предложу Вам занять высокий пост российского министра иностранных дел.
– Сдюжу ли, Ваше Величество? Да и Алексей Борисович вроде бы недурно справляется, или вы считаете иначе?
– Возраст. Я, как Вы поняли, давно ждал церемонии коронации, чтобы в ранге Императора Российского активно начать реформировать все сферы жизни общества. А посему мне нужна новая команда – людей образованных, современных, практичных, с государственным мышлением и ясным видением правильных путей этого самого реформирования.
– Ваше Величество, мне очень лестны ваши слова. Буду честен – пока я не совсем ясно вижу эти самые правильные пути, но могу попробовать.
– Я буду рядом, дорогой Владимир Николаевич, да и Сергей Юльевич Вам явно симпатизирует. А вместе мы сила!
– Искренняя благодарность, Ваше Величество, за Ваши добрые слова. Изо всех сил буду стараться оправдать Ваше высокое доверие.
После получения согласия я поведал Коковцову суть событий последнего месяца и наши планы на ближайшее будущее. Щёки его порозовели, появился блеск в глазах, и я понял, что Владимир Николаевич несколько засиделся за изучением финансовых бумаг с бесконечными цифрами. Вот уж воистину: «Лучший отдых – смена деятельности!»
Это утро я решил также посвятить систематизации и актуализации записей в моих ежедневниках, немудрено ведь и забыть что-то нужное и важное в таком потоке информации. Звонок телефона заставил меня оторваться от записей и собственных мыслей. Звонил Столыпин.
– Доброе утро, Ваше Величество. У меня крайне важная новость – наш «пекарь» Уильям сегодня на территории Михайловского сада встретился с вице-директором Департамента полиции Семякиным Георгием Константиновичем. Помните наш давний разговор – это куратор Азефа и старшего Савинкова?
– Прекрасно помню. Интересный клубок змей получается.
– Да, есть что распутывать, Николай Александрович. Нашему агенту даже удалось подслушать часть разговора, правда, совсем близко подобраться он не смог, да и английским он владеет слабо. Но, тем не менее, он хорошо расслышал слова «gold» – золото, «Париж», «иудеи» и фамилию «Трепов».
– Да, прямо кино и немцы, – не сдержался я.
– Немцы? – явно растерялся Столыпин. – Про немцев наш агент ничего не слышал. Что будем делать?
– Установить наблюдение и за Семякиным, давно пора было это сделать.
– Виноваты, Ваше Величество, в силу последних событий он как-то отошёл на второй план, а персонаж, похоже, интересный.
Вечером мы вместе с Аликс и Марией Фёдоровной с удовольствием посмотрели первый в России документальный фильм-репортаж, посвящённый «моей» коронации. Я особенно внимательно хотел рассмотреть момент вселения моей души в тело Императора, но тактичные кинодокументалисты этот момент вырезали.
– Какая на тебе красивая мантия из горной стаи, – Аликс, как зачарованная, смотрела на экран.
– Из горностая, дорогая.
– «С кем можно, надобно дружиться: друг, если не себе, для друга пригодится», – процитировала Мария Фёдоровна стихи в честь горностая из басни Гавриила Романовича Державина. Я как раз недавно перечитывал томик его произведений, чтобы поскорее уснуть.
– Какая пошлость, – неслышно для Марии Фёдоровны шепнула мне в ухо Аликс, сидящая слева от меня.
– К сожалению, это одна из жизненных мудростей, – тихо ответил я.
Глава 16
Встреча британского агента с Семякиным значительно упростила нашу задачу. Всё гениальное просто: достаточно было подкинуть в посольство записку, в которой идеально скопированным почерком вице-директора Департамента полиции было написано: «From William Baker. Urgent! Tomorrow at 10:00 at the same place». (Для Уильяма Бейкера. Срочно! Завтра в 10:00 на том же месте.)
Конечно, риск срыва операции был огромен – мы не знали, как Семякин и прочие господа выманивали нашего «Пекаря» из глубин британского посольства. Может быть, они свистели, пели серенады или выставляли цветочные горшки в окнах напротив стоящего дома. В любом случае, попробовать стоило. Оставалась ещё вероятность предварительных телефонных договорённостей о встрече, но её мы отмели как довольно рискованную для обоих участников подобного разговора, так как телефонист на станции мог прослушивать разговор.
В 9:55 Уильям Бейкер (он же Остин Бэбкок) в прекрасном фраке, с элегантной бабочкой вместо галстука, отлично подстриженный и набриолиненный, появился у входа в Михайловский сад. По привычке он направился в сторону одной из отдалённых аллей, где позавчера уже встречался с Семякиным. Там его и взяли под белы рученьки наши секретные агенты полиции.
Примерно через пять часов он, пошатываясь и истерично всхлипывая, вышел из здания одного из полицейских управлений и начал ловить извозчика. Фрак был основательно помят, волосы немного взлохмачены, всё тело ныло и болело. Тем, что там происходило, досконально я не интересовался, но главное – не было синяков, а значит, и доказательств посягательства на жизнь и здоровье дипломатически защищённого иностранного гражданина.
Позвонивший мне Столыпин попросил моего одобрения на арест Семякина и обещал ближе к вечеру прибыть вместе с Добржинским, чтобы обсудить итоги операции. В ожидании вечера я решил немного отвлечься от дел и уделить внимание матери и супруге.
Я давно обещал Аликс и Марии Фёдоровне прогуляться всем вместе по петербургским магазинам, и вот этот день настал. Начали мы с огромного магазина торгового дома «Эсдерс и Схевальс», на четырёх этажах которого продавались одежда и обувь со всего мира. Нечего и говорить, что магазин в этот день пустовал, ожидая нас, но, судя по количеству покупок моих уважаемых спутниц, план по продажам магазином в этот день явно был выполнен. Особенно моих дам интересовала только что появившаяся обувь со стелькой Конрада Биркештока. Такая стелька поддерживала свод стопы: до этого момента их делали плоскими. Обувной мастер буквально пару месяцев назад презентовал свою новинку во Франкфурте, и вот легендарные немецкие «биркештоки» уже появились в Петербурге.
Потом мы посетили мануфактурный магазин «Au Printemps» (бывший Аравин), откуда я уже и не надеялся выбраться, магазин русского электрического общества «Динамо» на Набережной Фонтанки, где прикупили пару очень симпатичных светильников, чуть позже – шикарный книжный магазин Цинзерлинга, откуда уже сложно было увести меня. Закончился этот «день шоппинга» в гастрономическом магазине товарищества «О. Гурме и братьев Рогушиных» на углу Невского проспекта и Морской улицы. Выбор продуктов и деликатесов здесь был потрясающим, но слабое освещение и низкие потолки смазали моё впечатление от этого магазина.
Вы, конечно, спросите меня о ценах. Кое-какие я запомнил: сахар – 60 копеек за фунт, цейлонский чай – рубль за фунт, мандарины – 15 копеек за штуку, вполне приличная курица – около 70 копеек, килограмм свинины – 55 копеек. Порадовала севрюга по рублю с десятью копейками, чёрная икра по 3 рубля, ржаной хлеб по 10 копеек и белый пшеничный по 20 копеек. Сыр стоил порядка 70 копеек за фунт, картошка, лук и морковь – по 5 копеек.
Скромно пообедать в недорогом петербургском кафе стоило порядка рубля, цена бутылки шампанского колебалась в диапазоне от 1,5 до 12 рублей. Кстати, стоимость первого автомобиля, появившегося в России, составляла 2000 рублей.
Всё это было далеко не дёшево, если знать уровень зарплат. Прислуга получала от 5 до 10 рублей в месяц, рядовой рабочий – от 12 до 30, дворники – 18, фельдшеры около 50, от 80 до 100 рублей – врачи и учителя, генералы, руководящие дивизиями, – порядка 500, губернаторы – в районе 1000, министры и члены госсовета – до 1500 рублей в месяц.
Основным показателем, на который я ориентировался, была так называемая «хлебная мера» – количество килограммов хлеба, которые можно было купить на среднюю зарплату рабочего. В России этот показатель составлял около 110 кг, в 2,5 раза меньше, чем в Германии и Великобритании. Однако я надеялся в ближайшие годы значительно повысить эту цифру, основываясь на значительном росте валового национального продукта и производительности труда.
Столыпин, Добржинский и, к моему огромному удивлению, Семякин прибыли ровно в 17:00. Появление третьего меня немного расстроило, ведь в знак благодарности двум первым я распорядился накрыть круглый столик с лучшим шустовским коньяком, скобелевскими биточками, чёрной икрой, бутербродами с севрюгой и «моей» фирменной закуской, именуемой в народе «Николашка», которую, по слухам, обожал мой предшественник на императорском посту – тонкие ломтики лимона с одной стороны были щедро посыпаны сахарной пудрой, а с другой – тонко молотым кофе. За время моего пребывания в новой роли я уже не раз убедился, что данная закуска весьма неплохо оттеняет вкус коньяка, заставляя рецепторы ощутить всю гамму вкуса. Разновидностью закуски были ломтики лимона с чёрной икрой, но, как говорится, икра перед вами, если желаете, господа, милости просим.
Кормить и поить Семякина мне совсем не хотелось. Однако я заметил, что оба других моих гостя общаются с ним весьма дружески. Интересно, чтобы это значило?
– Прошу, господа, как говорится, чем Бог послал, – пригласил я гостей к столу.
Наполнять бокалы, согласно иерархии, выпало вице-директору Семякину.
– Георгий Константинович, по половиночке, пожалуйста, – с улыбкой попросил Столыпин. – А то мы с Антоном Францевичем не сможем донести до Его Величества всю тонкость нашего с вами дела.
– Не томите, Пётр Аркадьевич. Ваше здоровье, господа! – провозгласил я, стараясь не встречаться взглядом с Семякиным.
– Тут ведь какое дело, Ваше Величество, – после небольшой паузы – дани уважения благородному напитку – произнёс Столыпин. – Задержанный «пекарь» поведал много чего интересного, часть ещё предстоит проверить и осмыслить, но касательно нашего дела, это ведь Георгий Константинович пытался завербовать Уильяма, а не наоборот. Господин Семякин, будьте любезны, расскажите всё Его Величеству от первого лица.
Вид Семякина был необычным, он был явно взволнован, но я его прекрасно понимал, так как давно уже заметил, что в моём присутствии многие люди ведут себя странно. Дело было в ауре самого титула, в щекочущем нервы чувстве близости к помазаннику Божьему, как символу абсолютной власти. Чтобы немного расслабить вице-директора и привести его в более естественное состояние, я предложил выпить ещё по рюмке чудесного напитка. Похоже, это действительно пошло на пользу.
– Ваше Величество, суть дела в том, что Департамент полиции давно наблюдает за всеми персоналиями, которые могут быть опасны для государственного порядка. В мои обязанности, как вице-директора, входит курирование наиболее важных наших агентов, а зачастую и вербовка значимых лиц. Уважаемые Пётр Аркадьевич и Антон Францевич, при всём моём почтении, в нашем деле люди новые, а потому вполне могли этого не знать. Директор Департамента Николай Николаевич Сабуров внезапно скончался в апреле, занимавший этот пост до него Пётр Николаевич Дурново после скандала 1893 года стал сенатором и от дел полицейских старается держаться на расстоянии.
По моему предложению выпили по третьей. Рассказ Семякина после этого пошёл как по маслу:
– Так вот, начну по порядку. Азефа и Савинкова я лично курировал последние два года. Мне казалось, что я плотно контролирую их, досконально владею информацией. Поэтому их участие в теракте против Вашего Величества стало для меня громом среди ясного неба. Конечно, я совершил ошибку – мне надо было сразу идти к Антону Францевичу, но я, боясь, что меня обвинят в злодеяниях, учитывая некоторую связь с террористами, решил взять паузу и провести собственное расследование: кто перевербовал моих агентов? Следы вели в британское посольство, и мои специальные агенты, ведя ежедневное наблюдение, отметили, что наиболее активным персонажем этого учреждения является некто Уильям Бейкер, на которого практически одновременно вышли и вы. Я решил плотно пообщаться с ним, а по возможности и заставить работать на себя. Вот на этом этапе меня и взяли в оборот Пётр Аркадьевич и Антон Францевич.
– То есть, как я понял, разработку Уильяма Бейкера до конца провести Вы не успели и ответить – зачем он покупал взрывчатые вещества в Кашире – не сможете?
– Увы, Ваше Величество.
Столыпин, разгорячённый коньяком, весело и немного по-панибратски толкнул локтем Антона Францевича, тот лукаво улыбнулся и вступил в беседу: – На этот вопрос, так сказать, постараюсь ответить я, Ваше Величество…
– Успели, ещё как успели, Ваше Величество, – Антон Францевич тоже заметно порозовел и оживился. – Расспросили, так сказать, самым основательным образом. И знаете, что выяснилось? Он приобрёл взрывчатку в Кашире и организовал взрыв на Ходынском поле, но цель этого взрыва была совсем иной – не организовать панику, как мы думали изначально, а как раз остановить нападавших – Азефа, братьев Савинковых и прочий сброд.
– Но позвольте, откуда британская разведка узнала о планах террористов?
– Не поверите, Ваше Величество, они, так сказать, сами и рассказали. Уж не знаю – хвастались или цену себе набивали, а может, искали международной финансовой поддержки, но Уильям поведал нам сегодня о состоявшемся разговоре во всех подробностях. Короче, британцы приплачивали немного верхушке террористов, чтобы держать их под контролем, на всякий непредвиденный случай – мало ли как сложатся российско-британские отношения. Неожиданно узнав о планах Азефа и Савинкова насчёт Ходынки, был сделан запрос в Лондон, а параллельно – господину Ротшильду (лично Уильямом Бейкером). Лондон ответил, что дестабилизация в России в их планы в данный момент не входит, но предложил воздержаться от активных контрдействий. Ротшильд же, напротив, порекомендовал любыми силами и средствами остановить злой умысел и даже хорошо профинансировал операцию по нейтрализации террористов. Уильям Бейкер напрямую предложил Азефу неплохую сумму, гарантированную Ротшильдом, чтобы тот отказался от своих планов, но получил категорический отказ. Дело было даже не в сумме, а в серьёзности заказчика теракта. Тогда и был реализован резервный план – заложена взрывчатка в месте, откуда планировали появиться террористы. Смысл взрыва, по замыслу Уильяма, был испугать нападавших и обратить их в бегство, особого вреда окружающим он причинить не мог – бомбы не были начинены поражающими элементами. О том, что взрыв мог спровоцировать массовую давку, он попросту не подумал, так как не представлял себе количества людей, явившихся на Ходынское поле. Да и выхода у него особо не было – засвечивать своих агентов в России в его планы не входило.
Голова пошла кругом. Просто замкнутый круг – Семякин и английская разведка, а вкупе с ними и Ротшильд оказались скорее защитниками, нежели врагами, во всяком случае сейчас. Но кто же тогда заказал три подряд покушения на меня?
Часом позже я обсуждал этот вопрос с Витте. От коньяка Сергей Юльевич категорически отказался, сославшись на предстоящую ночную работу с документами, но выслушал меня очень внимательно и на пару минут задумался.
– Знаете, Николай Александрович, здесь надо искать мотив. Кому выгодно убрать Вас, кому не по нраву Ваша внезапная активность? Немцы? – он снова глубоко задумался. – Зачем? Мы с ними союзники, опять же император Вильгельм – Ваш родственник.
– Да, троюродный брат мне и двоюродный Александре Фёдоровне.
– Тем более. Французы – Феликс Франсуа Фор? Республиканец, мечтающий о королевских почестях, деятельный сторонник сближения с Россией? Очень мало вероятно. Турки? Абдул-Хамид после массового геноцида армян готовится теперь резать греков. На Крите зреют антитурецкие настроения, и, согласно действующим договорам, нам придётся поддержать греков в их борьбе в случае начала войны. Так что Турцию сбрасывать со счетов никак нельзя. Японцы? Эти тоже могут. Мощь и влияние этой страны, особенно после победы в прошлом году в войне с Китаем, заметно выросли. Опять же наш спор о Ляодунском полуострове – ради Порт-Артура пришлось брать его в аренду за огромные деньги. Но даже это не радует японцев, они хотели бы сами его использовать, реализуя свои милитаристские планы. И ещё только что подписанный протокол Лобанова-Ямагаты о возвращении корейского короля из русской миссии обратно на престол. После убийства корейской королевы в прошлом году именно мы и германцы встали на пути у Японии, вполне возможно, что это их месть.
– Надо будет установить слежку за японским генеральным консульством на Набережной Мойки. Загадочная страна, 300 лет ни слуху, ни духу, и вдруг такой интерес к делам на международной арене.
– Из региональной державы семимильными шагами Япония превращается в один из мировых центров силы. Для этого нужны люди и ресурсы. А когда кому-то что-то нужно – начинаются войны.
– А вот с турками у нас и дипломатических отношений нет.
– Будем думать, Ваше Величество, и работать в этом направлении. Кстати, хочу напомнить о предстоящей встрече с Ротшильдом, думаю нас ждёт чрезвычайно насыщенная и интересная беседа.
Глава 17
Моя бесконечная занятость изрядно портила настроение супруге. Как умная женщина, она понимала, какую огромную ответственность накладывает на меня императорский пост. Но, как человеку светскому, ей хотелось балов, театральных премьер, званых приёмов.
В один из тёплых июльских вечеров ей удалось увлечь меня вместе с матерью-императрицей на балет «Тщетная предосторожность», премьера которого в постановке Жана Доберваля состоялась в Бордо более века назад. Однако новая версия балета в постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова заставила это произведение играть новыми, яркими красками. Балет имел колоссальный успех. Но даже не этот факт заставил меня поддаться на уговоры Аликс.
В «Тщетной предосторожности» принимала участие Мария-Матильда Адамовна-Феликсовна-Валериевна Кшесинская. Она только что получила статус примы-балерины императорских театров (вероятно, во многом благодаря своим связям при дворе, так как главный балетмейстер Петипа не поддерживал её выдвижение на самый верх балетной иерархии), и мне стало интересно – что же нашёл в ней настоящий Николай Александрович Романов.
Театр был полон. Фантастические наряды, лучшие драгоценности, яркие веера, блеск стёкол компактных театральных биноклей и лорнетов. Мой визит явно подогрел интерес к балетному действу. Роман балерины и императора, насколько я знал, официально закончился пару лет назад. Но до сих пор интерес общества к нему был велик. Терпеть не могу, когда меня внимательно рассматривают, изучая выражение лица и все нюансы эмоций. Так и подмывало показать язык или кулак, но, естественно, я воздержался. Эмоций никаких особых я не испытывал, в отличие, кстати, от моих близких родственников – Сергея Михайловича и Андрея Владимировича Романовых, обожавших Кшесинскую. Позже Матильда родит ребёнка, назовёт его Владимиром, а отчество даст – Сергеевич. Кто станет его отцом – достоверно известно только ей самой.
Судя по хитрому выражению лица Аликс, с её стороны сегодняшний визит был маленькой женской провокацией. Я неоднократно ловил на себе её обычно куда более рассеянный и затуманенный взгляд. Полное отсутствие эмоций на моём лице мою супругу явно порадовало, и она пребывала в приподнятом, несколько даже возвышенном (влияние обстановки) настроении. Матильда в образе Лизы появилась практически в самом начале первого акта. Невысокого роста (как я потом выяснил – 1,53 м), Кшесинская была крепкой, темноволосой, с узкой, затянутой в корсет талией и мускулистыми, почти атлетическими ногами. Первое впечатление было скорее отталкивающим, но по мере развития сюжета я разгадал секрет её успеха в балете (и у мужчин рода Романовых) – она обладала неисчерпаемой энергией, пикантностью, затмевающим всех блеском, шиком, несомненной женственностью и непреодолимым обаянием. У нее были превосходные, очень красивые зубы, которые Матильда постоянно демонстрировала в сияющей улыбке. Каждое её движение на сцене было лёгким и раскованным. Она не танцевала свои партии, она в них жила. В этот миг Кшесинская была не Матильдой, а Лизой, отвергшей богатого жениха Никеза, навязываемого практичной матерью, из-за любви к бедному крестьянскому парню Колену.
В антракте в нашу ложу заглянули Витте с супругой. У этой пары тоже была история, достойная отдельного спектакля. В 1891 году достопочтимый Сергей Юльевич женился на Марии Ивановне Лисаневич, урождённой Матильде Исааковне Нурок. Женитьбе предшествовал широко известный скандал, так как Витте начал встречаться с Лисаневич до её развода и вступил в громкий публичный конфликт с её мужем. Сама Мария Ивановна была женщиной незаурядного ума и, будучи уже женой Витте, в значительной мере влияла на мужа. Благодаря ей он отучился сквернословить и научился кое-как понимать и говорить «с плачевным акцентом» по-французски и по-немецки.
Спектакль заканчивался настоящим хэппи-эндом: меркантильным планам матери не суждено было сбыться, и ей ничего не оставалось, как согласиться на брак Лизы и Колена. Как только затихли последние аккорды музыкального сопровождения, восторженный зал буквально взревел от восхищения. Овации продолжались не менее 10 минут. Раскрасневшаяся, уставшая, но бесконечно счастливая Кшесинская попросила жестами зрителей о тишине, вышла на середину сцены, и в свете мощных прожекторов исполнила свой фирменный трюк – 32 фуэте из балета «Лебединое озеро», после чего в зале началось форменное безумие.
После спектакля мы с супругой по доброй традиции лично поблагодарили артистов. В уютной гримёрке Матильды царил неповторимый весёлый и свежий аромат, позже я выяснил, что это её любимые духи «Vera Violetta Roger & Gallet», благоухающие лесной фиалкой и влажной зеленью.
Я вручил Матильде очень красивый букет разноцветных фиалок, которые она всегда обожала. Невольно наши лица приблизились друг к другу, глаза встретились и взгляды на секунду застыли, а потом внезапно Кшесинская отстранилась. В её взгляде был явный испуг. Она, так близко знавшая настоящего Ники, любившая и внимательнейшим образом изучавшая каждый его взгляд и жест, в попытке быть единственной, нужной и желанной, не узнала человека, стоявшего перед ней. Я был чужой…
Умная Матильда быстро взяла себя в руки, дежурно, но довольно мило улыбнулась.
– Искренне благодарю вас, Ваше Величество.
– Это мы вас благодарим, дорогая Матильда Феликсовна, – от матери-императрицы также не скрылись моя холодность и некоторый испуг и растерянность Кшесинской. – Вы были великолепны.
Аликс также сказала дежурные слова благодарности, после чего обе гранд-дамы грациозно направились к выходу. Я немного задержался, пропуская их, а потому единственный услышал тихий шёпот Матильды: «Вы не Ники. Кто же вы?». Я ничего лучше не придумал, как повернуться и весело ей подмигнуть.
Глава 18
Примерно в те дни произошли ещё две памятные исторические встречи. Я попросил Столыпина доставить ко мне из тюрьмы 26-летнего Владимира Ульянова, для окружающих – молодого революционера, одного из лидеров «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», созданного и практически сразу же разгромленного полицией и жандармами в декабре 1895 года. По оперативным данным, в мае 1895 года Ульянов выезжал за границу, где встретился в Швейцарии с Плехановым, в Германии – с Либкнехтом, во Франции – с Лафаргом и другими деятелями международного рабочего движения, а по возвращении в Петербург в 1895 году вместе с Юлием Осиповичем Мартовым и другими молодыми революционерами, включая будущую жену Надежду Крупскую, объединил разрозненные марксистские кружки в единый «Союз борьбы», который вёл активную пропагандистскую деятельность, выпускал и распространял листовки, поставив своей ближайшей целью «свержение самодержавия в союзе с либеральной буржуазией». Чем это кончилось для либеральной буржуазии, Вы, надеюсь, помните.
Результаты подрывной деятельности были печальны – в 1896 году прошли стачки на многих предприятиях Петербурга. В крупнейшей забастовке текстильщиков приняло участие порядка 30 тысяч рабочих. Среди бастующих активно распространялась листовка «Рабочий праздник 1 мая», написанная Ульяновым (Лениным), которая была отпечатана в 2000 экземплярах и изымалась нами сразу на 40 предприятиях.
Всего на конец июля по делу «Союза борьбы» было арестовано и привлечено к дознанию 250 человек, из них 170 рабочих.
Я долго готовился к разговору. Какую линию выбрать? Уничтожать или миловать, наказывать или убеждать? Я решил принять окончательное решение после разговора с Ульяновым.
Невысокий, с внушительной залысиной и какой-то козлиной бородкой, отпущенной в условиях тюрьмы, этот плотно сбитый, пышущий здоровьем молодой человек своей стремительностью и изворотливостью был похож на большую каплю ртути.
– Здравствуйте, Владимир Ильич, – меня веселила нереальность происходящего. – Прошу садиться.
– Сесть, батенька, мы всегда успеем. По Вашей, кстати, милости. Вместо капиталистической державы создали какое-то полуфеодальное государство и радуетесь, – Ульянов на практике решил показать, что лучшая защита – это нападение. Его лёгкая картавость, всегда казавшаяся мне довольно милой, в сочетании с резкостью слов напоминала карканье молодого задорного ворона.
– Господин Ульянов, что Вы себе позволяете? – Столыпин был явно раздосадован началом беседы.
– Владимир Ильич, чаю не желаете? – мой тон был спокойным и примирительным, таким тоном с пациентами обычно общаются седые, умудрённые опытом профессора-психиатры.
– Пить чай, пока моих товарищей мучают в Ваших ужасных тюрьмах?
Ох, дружок, не видел ты по-настоящему ужасных тюрем и лагерей, созданных твоим последователем, дорогим Иосифом Виссарионовичем, по сравнению с которыми «мои» были просто малобюджетным санаторием.
– Я не хочу спорить с Вами, Владимир Ильич, давайте просто поговорим, мне кажется, нам есть что обсудить!
Внимательный и умный взгляд Ульянова дал мне надежду, что с этим человеком можно и нужно договариваться.
– Во-первых, – я решил продолжать, пока временно завладел инициативой. – Я хочу принести Вам свои самые искренние извинения и соболезнования, связанные с гибелью вашего брата Александра. С ним, по моему мнению, поступили чрезмерно жестоко. Но вы должны понять мотивы такого решения – вместе с единомышленниками он готовил покушение на моего отца – Александра III, причём весьма серьёзно. Один из соучастников заговора – Бронислав Пилсудский в Вильно даже смог тогда раздобыть взрывчатку.
Ульянов удивлённо заморгал, глядя на меня. Мне даже показалось, что глаза его увлажнились.
– Во-вторых, – голос мой звучал весомо и убедительно, – лично я пока никого не казнил, а, напротив, делаю всё возможное и невозможное для того, что наша страна развивалась и уверенными шагами шла в светлое будущее, – я улыбнулся, «светлое будущее» из уст Императора Российского звучало по крайней мере оригинально.
– Толкаете вперёд историю, Ваше Величество? – Ульянов внимательно рассматривал меня, слегка прищурившись. – Я много слышал о Ваших действиях последние месяцы, в меру возможности, конечно, учитывая стеснённые обстоятельства места моего нынешнего обитания.
– Да, я всерьёз занялся образованием, медициной, повышением культурного уровня населения, укреплением армии и флота…
– А ведь Саша мог стать прекрасным учёным – физиком, математиком или даже зоологом. вы знаете, как называлась научная работа, за которую он получил золотую медаль в университете? «Об органах сегментарных и половых пресноводных пиявок». А его за шею и в небытие…
– Владимир Ильич, Вы человек умный и практичный, а потому предлагаю двигаться вперёд. Перед Вами, насколько Вы можете заметить, вполне адекватный и даже расположенный к вам собеседник. Так почему нам не обсудить, как объединить наши усилия, вместо того чтобы ссориться и ненавидеть друг друга?
Я нечаянно встретился взглядом с крайне удивлённым взглядом Столыпина. Такого поворота ни он, ни Ульянов явно не ожидали. Однако Петру Аркадьевичу удалось быстро справиться со своими эмоциями, а вот Владимир Ильич продолжал разглядывать меня, не скрывая своего удивления.
– Я не ослышался, Николай Александрович? Но как Вы себе это представляете? Мне кажется, наши представления о светлом будущем весьма ощутимо разнятся?
– Извольте. Тезисно опишу своё видение. Бесплатные медицина и образование на всех уровнях, резкий подъём уровня доходов населения, высокопрофессиональная современная армия, активное строительство жилья, детских садов, школ, поддержка малых и средних предприятий, равно как и сельского хозяйства… В перспективе – парламент, в котором будут представлены все слои общества, и мой постепенный переход от роли непосредственного руководителя государством к роли представительской и частично даже декоративной. А чтобы всего этого добиться – нужно взаимопонимание и сотрудничество всех основных политических сил страны. Врагов у России и так хватает.
– Да Вы социалист-утопист, батенька, – Ульянов расхохотался. – Самый что ни наесть революционный революционер.
Я тоже сдержанно улыбнулся. Столыпин смотрел на меня с интересом, думаю, и он не возражал против озвученных тезисов развития нашей страны. Хорошо, что при разговоре не присутствовал Витте, он бы точно сразу поинтересовался – где мы найдём столько денежных средств, чтобы реализовать все эти мечты?
– Что Вы конкретно предлагаете? – Владимир Ильич был предельно собран – начинался торг.
– Всё просто, я создаю условия для Вашей легальной деятельности и даже частично финансирую её, а вы с единомышленниками отказываетесь от идеи моего свержения и помогаете нам бороться с крайними радикалами в ваших рядах. Я не предлагаю никого предавать, я вкладываю в Ваши руки политический рычаг невиданной силы, и Вы, Владимир, не можете этого не понимать. По сути, я предлагаю вам должность лидера оппозиции. Вы, безусловно, человек сложный, но вменяемый, с вами можно иметь дело. Если надо подумать, я готов дать вам такую возможность.
– Я не буду тянуть, я согласен.
– Прекрасно. В самые ближайшие дни мы подыщем просторный особняк в Москве, откроем банковский счёт и положим на него круглую сумму. На правах социалиста-утописта у меня к Вам единственная просьба – назвать Вашу партию «Коммунистическая партия России», ведь именно призрак коммунизма ходит по Европе, если верить Энгельсу и Марксу?
Раздался надрывный кашель. Это Пётр Аркадьевич Столыпин от неожиданности подавился слюной.
– Мы приготовили для Вас шикарную квартиру, Владимир Ильич, полностью соответствующую Вашему новому статусу. Мебель и посуда уже на месте. Что распорядитесь делать с Вашими сторонниками?
– Я бы попросил, Ваше Величество, срочно отпустить Надежду Константиновну Крупскую, потому как в одиночку мне будет трудно обустроиться. Остальные пусть пока посидят, мне надо собраться с мыслями.
– Безусловно, дорогой Владимир Ильич, всенепременнейше, – я был в целом доволен разговором, хотя и уверен, что этот «товарищ» доставит мне ещё массу хлопот. – И вот ещё что, гражданин Ульянов, не дайте мне повода стать кровавым. При малейших признаках двойной игры я уничтожу всех Ваших коллег.
Глаза Ульянова на миг расширились, в них полыхнул гнев, но его мощный разум жёстко контролировал чувства.
– Я Вас услышал, Николай Александрович…
Глава 19
Вторая встреча была не менее интересной. Я пригласил иеромонаха Гермогена (в миру Георгия Ефремовича Долганёва). Он заметно нервничал, явно настроенный Победоносцевым против меня. Совсем недавно мне с огромным трудом удалось отправить Константина Петровича в отставку, наградив за годы службы неприлично огромной пенсией. Однако этот «скрипучий» господин никак не унимался и продолжал свои попытки влиять на ход дел и основные назначения в Империи. Обер-прокурором Святейшего синода по моему представлению был назначен Владимир Карлович Саблер, до этого четыре года работавший товарищем обер-прокурора. За несколько дней до моего прибытия в эту эпоху Константину Петровичу удалось от него избавиться и удалить в сенаторы. Однако я довольно быстро всё переиграл.
Саблер при общении производил впечатление милейшего, улыбчивого человека, при этом досконально контролируя всё и вся. На данном этапе именно такой человек и нужен был мне на этой должности, чтобы в дальнейшем, когда он доведёт всё до абсурда, с лёгкостью её ликвидировать. Но сейчас меня интересовало совсем другое.
– Ваше преподобие, – я улыбнулся Гермогену, слегка склонив голову. – Рад нашей встрече. Я пригласил Вас, чтобы сообщить о назначении ректором Тифлисской духовной семинарии. Архимандрит Серафим по решению Синода направлен викарием в Волынскую епархию, а его место по общему согласию решено предложить вам.
– Для меня это большая честь, Ваше Величество. Я искренне благодарен.
– Георгий Ефремович, разговор наш будет сугубо светский, конфиденциальный и предельно откровенный, поэтому позвольте мне Вас называть по имени и отчеству.
– Извольте, как Вам будет угодно.
– Так вот, Георгий Ефремович, зная, что Вы уже более трёх лет являетесь инспектором этого учебного заведения, меня интересует один из ваших семинаристов – некто Иосиф Джугашвили.
– Боюсь, Ваше Величество, для православной церкви этот молодой негодяй навсегда потерян. Он уже пропитан тлетворным ядом марксизма и явно имеет контакт с подпольными группами.
– Расскажите мне, пожалуйста, всё, что Вы знаете о нём.
– Дата рождения по документам – декабрь 1878 года, отец – Виссарион, сапожник, выходец из крепостных крестьян князя Мачабели. Мать – Екатерина, также из крестьян, сейчас в основном работает подёнщицей. Иосиф – третий ребёнок в семье, первые двое умерли в младенчестве, посему любим и жутко избалован матерью, в силу, конечно, её скромных возможностей. Имеет зафиксированные телесные дефекты: сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге, лицо в оспинах. В 1885 году Иосифа сбил фаэтон, после травмы левая рука не разгибается до конца в локте и кажется короче правой. В 1886 году мать собиралась определить Иосифа на учёбу в Горийское православное духовное училище, однако, поскольку он совершенно не знал русского языка, поступить ему не удалось. В последующие два года по просьбе матери обучать Иосифа русскому языку взялись дети священника Христофора Чарквиани. В результате в 1888 году он поступает не в первый подготовительный класс при училище, а сразу во второй подготовительный, в сентябре следующего года – в первый класс училища, которое окончил в июне 1894 года. В сентябре того же года Иосиф успешно сдаёт приёмные экзамены и зачисляется в Тифлисскую православную духовную семинарию. По мнению большинства преподавателей – чрезвычайно одарённый ученик, получавший высокие оценки по всем предметам: математике, богословию, греческому языку, русскому языку. Обладает фантастической памятью. Увлекается поэзией, пишет прекрасные стихи на грузинском языке. Илья Григорьевич Чавчавадзе исключительно отозвался о его поэтическом даре. Шесть лучших стихотворений по его протекции были опубликованы в газете «Иверия». Мне, кстати, одно очень понравилось, даже запало в память. Называется «Утро» и на русском звучит примерно так, хотя в изначальном грузинском варианте, говорят, оно гораздо талантливее:
Раскрылся розовый бутон,
Прильнул к фиалке голубой,
И, лёгким ветром пробуждён,
Склонился ландыш над травой.
Пел жаворонок в синеве,
Взлетая выше облаков,
И сладкозвучный соловей
Пел детям песню из кустов:
“Цвети, о Грузия моя!
Пусть мир царит в родном краю!
А вы учёбою, друзья,
Прославьте Родину свою!”
Гермоген замолчал, вопросительно глядя на меня. Мои мысли в этот момент были очень далеко. Как странно устроен наш мир – несостоявшиеся поэты воспевают фиалки и ландыши, а потом губят миллионы человеческих жизней, невезучие художники затевают страшные войны, не реализовавшиеся до конца комики превращаются в диктаторов…
– Но у меня к нему большие претензии, собираюсь готовить документы на отчисление.
– А вот об этом я и хочу поговорить. Простите, но я категорически запрещаю его отчислять. Напротив – прошу окружить юного Иосифа заботой и вниманием, я выделю хорошие средства для него и семьи, заодно помогу и вам ощутимо улучшить хозяйственную часть семинарии. В дальнейшем Вы будете пользоваться моим полнейшим расположением, что максимально приятно скажется на Вашей карьере. А я заодно сегодня же попрошу Чавчавадзе заняться созданием книги юного таланта. Мы просто обязаны издать её огромными тиражами, как на грузинском, так и на русском языке, и направить в библиотеки школ и гимназий по всей стране. Здесь ведь на кону не просто судьба человека, но и укрепление русско-грузинской дружбы.
Гермоген посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но уважение перед монархом быстро взяло верх, и он согласно закивал головой. Если доживу – надо будет не забыть выкупить все картины у юного Адольфа из Австрии.
Забегая вперёд, поведаю, что книги Иосифа Джугашвили (позже он взял творческий псевдоним Кóба Джугашвили) имели огромный успех не только в Грузии, но и в обеих столицах. В молодости поэт всё порывался наладить контакты с марксистскими объединениями, но это ему так и не удалось – слишком внимательно наблюдали за ним мои люди.
Примерно через десятилетие я был искренне рад пожать ему руку и вручить специальную «Николаевскую премию за выдающиеся достижения в литературе и искусстве». Теперь с матерью он жил в самом центре Тифлиса, совершенно ни в чём не нуждаясь, влюблённый в жизнь и с головой погружённый в творчество, а я в это время активно устраивал судьбу юного Анастаса Микояна, поступившего на учёбу в Тифлисскую духовную семинарию в 1906 году…
Глава 20
В августе 1896 года мы с Александрой Фёдоровной отправились в большое европейское турне. Вначале посетили столицу Австро-Венгрии Вену, где встретились с императором Францем Иосифом I, потом была Германия и милая встреча с кайзером Вильгельмом II. Этим встречам я также уделял огромное внимание, надеясь в глубине души предотвратить Первую мировую войну или, во всяком случае, минимизировать её страшные последствия для России.
Далее наш путь лежал в Данию, оттуда 8 сентября на нашей яхте «Полярная звезда» мы отправились к берегам туманного Альбиона и через два дня бросили якорь у берегов Шотландии. Я навсегда запомнил несколько чудесных дней, которые мы с Аликс провели в замке Балмораль в гостях у королевы Виктории, которая была влюблена в свою внучку Аликс, а потому переносила часть своих тёплых родственных чувств и на меня.
– Мы с лордом Солсбери так хотим, чтобы Россия и Англия могли бы понять друг друга и быть в самых хороших отношениях, – королева сделала добрый глоток чая из любимой фарфоровой чашки и подарила нам с Аликс широкую искреннюю улыбку.
Роберт Артур Талбот Гаскойн-Сесил Солсбери, плотный, почти лысый, с бородой, как у Карла Маркса, мужчина, маркиз, трёхкратный премьер-министр королевы Виктории утвердительно кивал в ответ.
– Это как чудесный сон, видеть моих дорогих Алекс и Ники здесь, – бабушка Виктория явно не экономила комплименты. Судя по выражению лица премьера Солсбери, ему снилось явно нечто совсем иное.
– Ваше Величество, мы искренне благодарны Вам за то, как чудесно Вы нас принимаете. Пользуясь случаем, я хочу особо подчеркнуть, что нет никаких причин опасаться разногласий относительно Индии, так как этот вопрос нами полностью решён, – я решил сделать приятное хозяйке, зная, что вопросы колоний, а особенно Индии, для неё всегда были наиболее важными и болезненными.
– Это так чудесно, я так благодарна Вам, ведь так важно, чтобы Россия и Англия шли вместе, только тогда будет обеспечен мир, так как они самые влиятельные империи, – Виктория сделала ещё один глоток вкуснейшего цейлонского чая. – Кстати, когда Вы будете во Франции, я прошу поинтересоваться у этих вечных якобинцев – почему они так недружелюбно настроены по отношению к Англии?
Пользуясь случаем, я изложил королеве Виктории и её премьеру идеи Единого европейского союза, обязательно включающего и Российскую империю.
– Я уже делился этой идеей с Францем Иосифом и Вильгельмом, они её в целом одобряют.
После этого я имел ещё два более подробных разговора с лордом Солсбери, содержание которых, с вашего позволения, я излагать не буду, дабы не утяжелять книгу, скажу лишь, что мы также уделили немалое внимание нарастающему греко-турецкому кризису и сверили наши позиции по этому вопросу.
23 сентября из Портсмута на своей яхте мы отправились во Францию и в этот же день прибыли в Шербур. Французская республика принимала нас ярко и восторженно. «Этот первый визит, такой парадоксальный в своей новизне, такой естественный по своим побуждениям, визит самого мощного, самого абсолютного монарха на земле к самой молодой из республик», – так писала в передовой статье французская «Temps». На всём пути следования от вокзала в Пасси (куда должен был прибыть царский поезд) до русского посольства на улице Гренелль в наём сдавались окна, чтобы только взглянуть на нас с Аликс, причём, с гордостью отмечу, что цена доходила до 5000 франков за одно окно.
Нас встречал сам Президент Франции Феликс Франсуа Фор – деятельный сторонник сближения наших стран. В своё время я читал, что в 1899 году он неожиданно умрёт от инсульта, и даже оказавшийся рядом его лечащий врач и друг Фора Ланнелонг окажется бессилен. Однако, и это было неоспоримое преимущество начитанного человека из будущего, я знал, что уже в следующем году немецкая фирма «Байер» синтезирует ацетилсалициловую кислоту (которую в 1899 году начнёт продавать под торговой маркой «Аспирин» в дозировке 100мг). Надо будет обязательно ненавязчиво порекомендовать это средство нашему французскому другу, гарантий нет, но вдруг поможет предотвратить катастрофу.
Наш въезд в Париж был грандиозен! Два миллиона французов и около миллиона приезжих гостей заполнили улицы французской столицы и организовали сплошное народное гуляние. В Париже мы проследовали от вокзала в посольство через шпалеры войск, за которыми теснилась миллионная толпа, безостановочно выкрикивающая: «Да здравствует русский царь! Да здравствует царица!», что было совершенно небывалым случаем со стороны иностранной толпы. Было полное ощущение, что мы вновь в Москве и возвращаемся в Кремль после коронационных торжеств. Российский гимн распевали французские солдаты на улицах, его играл даже орган в соборе «Нотр-Дам».
Всё стало русским или псевдорусским: мыло «Le Tsar» («Царь»), конфеты с русским гербом или флагом, посуда с царскими портретами, игрушки, изображавшие русского медведя, а также меня, Аликс и даже нашу маленькую дочку – великую княжну Ольгу. Меня также изображали масленичные «прыгающие чёртики», известная игрушка «мужик и медведь» превратилась в царя Николая II и Феликса Фора. Модой воспользовались «пилюли Пинк» для сохранения здоровья и сил для дней приезда царя (возможно, это были первые в истории БАДы, я не уточнял). А на оборотах моих портретов, раздававшихся даром на улице, печатались объявления сапожников и перчаточников. «Подарок царя» – можно было прочесть на магазинах готового платья, рекламировавших дешёвую распродажу костюмов. Доходило до курьёзов – появился даже «франко-русский» голландский сыр. Во всём этом было немало безвкусицы, но увлечение всем русским было несомненно искренним.
Это же увлечение выражалось и в потоке приветственных писем и открыток в русское посольство, во всевозможных проектах различных газет. Такой серьёзный орган, как «Журнал де Деба», выступил с предложением дать имя Ольги (в честь нашей дочери) всем девочкам, родившимся во Франции в октябре 1896 года. Другие журналисты предлагали выкупить дома напротив русской церкви, снести их и создать перед нею площадь с цветником. Было и предложение поднести имение русскому послу, барону Артуру Павловичу Моренгейму, много потрудившемуся для организации нашего приезда. Всего не перечесть, во всяком случае, бесспорно одно: парижское население было охвачено подлинным восторгом.
Я прекрасно понимал истинную суть всех восторгов, и она меня даже немного пугала. Франция была кровно заинтересована привлечь Россию на свою сторону и вовлечь её в антигерманский союз. Раймон Пуанкаре, молодой блестящий политик, будущий Президент Франции, сказал в эти дни: «Визит могущественного монарха, миролюбивого союзника Франции, покажет Европе, что Франция вышла из долгой изолированности и что она достойна дружбы и уважения». Поставленное мной условие в целом принимающей стороной было выполнено: ни в речах, ни в манифестациях не сквозило открытых антигерманских ноток, если не считать молчаливого возложения венков у статуи Страсбурга Лигой патриотов, и только карикатуры иностранных газет всячески подчеркивали эту сторону франко-русских отношений, на все лады склоняя слово «реванш». После всего этого мне предстоял непростой разговор со своим царственным родственником в Германии.
Из посольства, ставшего на эти дни моим императорским дворцом, первым делом мы поехали в русский храм на улице Дарю, где сердечно пообщались с протоиереем Димитрием Васильевым, а уже после этого отправились в Елисейский дворец, к президенту. Особое внимание, по просьбе Коковцова, я уделил председателям обеих палат французского парламента – Лубэ и Бриссону, это были весомые персонажи нынешней французской политики, нужные для успешной реализации наших планов. После приёма дипломатического корпуса у Президента Фора был организован банкет, на котором мне, упомянув о «ценных узах», пришлось подчеркнуть особое значение Парижа, как «источника вкуса, таланта, света». Как можно больше комплиментов и как можно меньше политики – буквально звучало в моей речи. Кто бы мог подумать ещё несколько месяцев назад, что я способен на такие изощрённые политесы, однако общение с Витте, Столыпиным и Коковцовым, а также массой людей, которых я не упоминаю в силу ограниченных рамок моего повествования, дало щедрые плоды.
В какой-то момент, когда банкет был в полном разгаре, Феликс Фор подошёл ко мне и настоятельно попросил посетить большой бал господина Ротшильда, который проходил совсем рядом. Кстати, я совсем забыл сказать, вместе с телом Николая Александровича мне почему-то передалось и его знание пяти иностранных языков, из которых тремя – французским, английским и немецким – он владел в совершенстве. Это было очень кстати, так как избавляло от необходимости таскать за собой переводчика и делать его ненужным свидетелем моей политической кухни. К сожалению, другие специфические знания либо не передались, либо передались частично. Иногда мне казалось, что душа истинного Николая поднимается откуда-то из глубин, чтобы дать отпор неизвестному захватчику, но оставим мистику и вернёмся к реальности.
Немного поломавшись для вида, я согласился. На самом деле, официально встреча с Ротшильдом планировалась изначально, все её нюансы были обговорены сотрудниками Коковцова заранее. Мне не хотелось широко афишировать её, наживая себе новых врагов и завистников, в том числе и в свете новых идей создания Единого Европейского союза. Мы с Фором незаметно исчезли, войдя в одну из бесконечных дверей, и совсем скоро, в сопровождении многочисленной охраны, оказались свидетелями одного из самых роскошных балов, который мне только удалось повидать. Фор провёл меня по полутёмному коридору к двери кабинета, обитой дорогой кожей. Дверь в то же мгновение распахнулась, и Президент Франции показал мне рукой на открывшийся дверной проём, откуда исходило странное голубое сияние.
Глава 21
Международная империя Ротшильдов, как известно, ведёт свою историю от Майера Амшеля Ротшильда, который родился в 1744 году в еврейском квартале во Франкфурте-на-Майне (Германия) в семье менялы и ювелира Амшеля Мозеса Бауэра, торгового партнёра Гессенского дома. Майер Амшель построил крупный банковский бизнес и создал свою империю, послав пятерых сыновей в европейские столицы возглавлять её филиалы.
У финансовой империи Ротшильдов было две важнейшие составляющие стратегии развития. Первая – создание международной, наднациональной корпорации нового типа, способной противостоять в силу своего масштаба, связей и возможностей антисемитской политике отдельных государств и политических сил. Вторая – сохранение полного контроля над бизнесом в руках членов семьи. Завещание Майера Ротшильда гласило, что все важные посты в деле должны занимать только члены семьи. Мужчины клана Ротшильдов должны были заключать браки только с двоюродными и троюродными сёстрами, чтобы накопленное богатство всегда оставалось внутри семьи и служило общему делу. Благодаря этому, за прошедшие два с лишним века Ротшильды породнились практически со всеми значимыми финансовыми семьями Европы.
Ротшильдов часто обвиняют в сионизме, но факты говорят об обратном. В своё время я узнал об одном таком факте, поразившем меня до глубины души: через своих доверенных лиц Ротшильды активно финансировали Гитлера и поддерживали его дьявольские планы, что косвенно подтверждается их успешными усилиями по закрытию Британской империи для еврейских беженцев, а также помощью Гитлеру в уничтожении евреев Венгрии. Объяснение очень простое – эти люди никогда не учитывали в своих действиях идеи добра, справедливости, морали, религиозные убеждения или личные симпатии. Для финансовой империи существуют только деньги, всё остальное на планете – не более чем способ или средство умножить свои капиталы.
Кстати, чтобы закончить этот не совсем уместный разговор про Гитлера, вспомним одну занимательную версию его происхождения. Дело в том, что его отец Алоис Гитлер был внебрачным сыном 42-летней незамужней крестьянки из Нижней Австрии. Её звали Мария Анна Шикльгрубер, и на момент рождения сына она работала в венском особняке банкиров Соломона и его сына Ансельма Ротшильдов. Один из них, по версии будущего канцлера Австрии Энгельберта Дольфуса, и стал дедом Гитлера. Версия, конечно, фантастическая, но почему-то через два года Дольфус был зверски убит, а вся его канцелярия вывезена в Германию. Гитлера безумно бесила эта версия, но факт остаётся фактом – ни один из Ротшильдов и их ближайшего окружения не пострадал, хотя ограбили их основательно.
Клан Ротшильдов имеет отношение и к рождению таинственного и магического ордена иллюминатов. Именно первый Ротшильд – Майер Амшель – его и организовал, поручив развитие ордена профессору естественного и канонического права в университете города Ингольштадт (Бавария) Адаму Вейсгаупту, который разработал свод правил, способный до глубины души потрясти любого нормального человека. Члены ордена клялись бороться с суеверием и невежеством, христианством и монархиями. Но какими методами! Культ зла, межклассовые войны, использование любых методов и средств: ложь, пороки, алкоголь, наркотики, коррупция для разложения общества, а в итоге – разрушение цивилизации, порабощение и тотальное управление людьми.
Однако я слишком увлёкся и увёл вас в сторону от моей истории, мне просто хотелось передать вам своё настроение, страхи и сомнения перед предстоящей встречей. Вот уж воистину – горе от ума, прав был господин Грибоедов.
Я сделал шаг и впервые так близко увидел олигарха. Натаниэл Майер Ротшильд, 1-й барон Ротшильд, высокий красавец в тёмном, безумно дорогом фраке, украшенном изящной бутоньеркой, вежливо поклонился, а потом мягкой тёплой ладонью пожал протянутую мной руку.
– Моё почтение, Ваше Величество.
– Приветствую Вас, барон. Нам с вами предстоит деловой разговор, поэтому предлагаю обращаться ко мне Николай Александрович.
Я осмотрелся – шикарный дубовый стол, изысканный тёмно-коричневый кожаный диван и кресла того же цвета, на полу – ковёр с какими-то мистическими знаками. Источник странного голубого сияния обнаружился чуть в стороне. Это был новейший ультрафиолетовый светильник. Четыре года назад была открыта способность ультрафиолета уничтожать бактерии и микробы, кварцевые лампы ещё не были изобретены, но их прообраз зримо присутствовал в кабинете одного из влиятельнейших людей мира.
Ротшильд поймал мой взгляд, но никак его не прокомментировал. Его интересовали куда более важные вещи.
– Отлично, Николай Александрович, надолго я Вас не задержу, у меня к Вам всего два вопроса, от которых напрямую зависит ваше будущее и тональность наших отношений с Российской империей. Не стоит видеть во мне врага, – Ротшильд улыбался, но улыбка его была стеклянной и ненатуральной. – У Вас хватает врагов и без меня, причём не менее могущественных. Своими активными реформами вы разбудили силы, невиданные в мировой истории.
Я с удивлением посмотрел на Ротшильда. Начало разговора впечатляло.
– Первый, – продолжил Ротшильд. – Каков на сегодняшний день размер внешнего долга Российской империи?
– Порядка двух с половиной миллиардов рублей.
– Тогда второй вопрос и одновременно моё предложение. Я готов полностью взять погашение этой суммы на себя, при одном небольшом условии: Вы согласитесь дать в России равноправие моим соплеменникам.
Только в этот момент я вспомнил, что очень давно читал об этом разговоре банкира и русского царя. Николай ответил отказом, говоря, что русский народ ещё тёмный и очень доверчивый и при равноправии он немедленно попадёт в кабалу евреям. Отойдя от Ротшильда, Государь сказал: “Сейчас я подписал себе смертный приговор”. Хорошо, что вовремя вспомнил, предупреждён – значит вооружён.
– Господин Ротшильд, в моей империи все народы будут иметь равные права и свободы. Я не верю в национальности, я верю в индивидуальные особенности людей. Среди Ваших соплеменников много людей активных, талантливых, энергичных. Моя задача – направить их энергию в мирное русло.
– Тогда уточнение – готовы ли Вы отменить Положения о черте оседлости 1804 и 1835 годов и защитить евреев от возможных погромов?
– Черта оседлости, на мой взгляд, – пережиток средневековья. Такое проявление национальной и религиозной дискриминации неминуемо приведёт к ответной реакции – к протестам. Еврейская молодёжь активно вступает в ряды революционных и националистических организаций, я намерен радикально изменить существующий порядок вещей.
Спасибо тебе, дорогой Натаниэл Майер. Сам того не ведая, ты дал мне ценную подсказку: что ещё я могу сделать, чтобы не повторить судьбу несчастного Николая II. Лейба Бронштейн, он же Троцкий, Ешуа-Соломон Свердлов, Розенфельд и Радомысльский, известные нам как Каменев и Зиновьев…Этот список можно продолжать ещё долго. Каждое из этих имён – мой смертный приговор в будущем. Всех не перебьёшь. Как там говорил профессор Преображенский у Булгакова? Ласка – единственный способ, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Террор не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый!
Ну, допустим, ласка – это другая крайность, а вот создать нормальные условия жизни всем моим подданным – цель благая и в перспективе достижимая.
– Что же касается погромов, – продолжил я вслух, – то они являются следствием низкого уровня жизни большинства населения страны и манипуляций власти, поиском мифических врагов – внутренних и внешних – вместо решения реальных экономических и политических проблем.
– А Вы мудрый человек, Николай Александрович, у вас самого случайно нет иудейских предков?
– Увы! У меня и русской-то крови всего 1,5%, ещё на 48,5% я немец-пруссак и на 50% датчанин, – в этот момент я улыбнулся, подумав, что с такими цифрами мне надо было бы занимать не Российский престол, а должность руководителя Евросоюза или, по крайней мере, рулить блоком НАТО.
– Подведём итог: как только черта оседлости будет официально отменена, а иудеи получат равные с другими права на жизнь, учёбу и работу, я свяжусь с Витте и полностью погашу российский внешний долг.
– Отлично, договорились. Теперь позвольте один вопрос от меня: что за силы, враждебные мне и желающие моей погибели, которые вы упомянули?
