Голгофа атамана
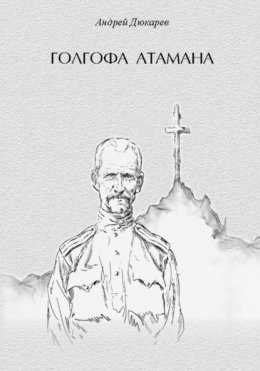
Предисловие
Уважаемый читатель ты держишь небольшую повесть о том, что могло быть или было, или будет. Мы погрузимся в мир мистификации и возможных сюжетных вариантов. Только все герои, которых мы встретим на страницах, это реальные люди, прожившие свою жизнь, со своими мечтами и ошибками, с горестями и радостью. Но они же и участники исторического процесса, оставившие на нем свои «зарубки», влияющие на ход истории, иногда плывущие против потока. Но они были в нашей версии Бытия, оставив свой слепок, свой образ, свой «Modus operandi». Мы же берем на себя смелость сломать привычные схемы восприятия персон, мы моделируем сюжеты, которые не могли никогда случиться. Или могли? Мы вольно оперируем чувствами героев, мыслями и словами, которые никогда не слетели с их уст. Мы даем им возможность сказать то, что мир не услышал от них.
Возможно ли такое? Так мы же на страницах художественного, где-то даже фантастического мира! Но это не значит, что это не могло случиться. В стремительном, разбухающем от информации мире, где господствуют непреклонные суждения всё знающих homo sapiens мы сдуваем пыль с таких категорий как Посмертие и Воздаяние, Осознание и Искупление.
Наш главный герой фигура неоднозначная в истории. Для кого-то достоин понимания и принятия, для кого-то объект проклятий и осуждения. Вячеслав Григорьевич Науменко, кубанский казак, герой Первой мировой войны и участник Гражданской, Войсковой атаман Кубанского казачьего войска в зарубежье, сохранивший для потомков войсковые Регалии кубанских казаков и сотрудничавший с государственными структурами Германии в период Второй мировой войны. За ворохом официальных регалий и нагромождением ошибок готовы мы увидеть Человека?
***
Дорога… Вдаль, петляя, и ощутимо поднимаясь вверх, уходила дорога, пропадая в зыбком мареве далекого горизонта, где вырастала гора. Гора как конец пути, но не конец всему. Чем устлан этот путь?
Солнце стояло в зените, нещадно и неотвратимо низвергая с небес потоки сухого жара, который, казалось, должен был плавить всё вокруг. Но нет, сухим горячим воздухом можно было дышать, и даже двигаться сквозь него, преодолевая шаг за шагом хрустящую щебнем дорогу.
Что-то с этим миром было не так. Солнце не спешило укрыться за горизонтом. Оно раз и навсегда заняло место в пронзительной синеве высокого неба, определяя неизбывность дня как времени суток, лета, как времени года и времени, не имеющего начала и конца. Время, как и всё сущее в этом мире, не текло, не менялось, не жило. Здесь не жили звуки, здесь жила тишина. Далекая гора на горизонте не становилась ближе, она была все так же далека, но обманчиво досягаема, заставляя шаг за шагом двигаться к ней. Звуки шагов были единственным фактором, нарушающим безмятежность и равнодушие этого мира.
По дороге легким пружинистым шагом шел человек в форме полковника Российской императорской армии, левая рука привычно придерживала шашку, размеренно качались ордена, соперничая с серебряным аксельбантом Академии Генерального штаба.
– Боже, ну и жара! Где я? Как всё это странно! – сказал негромко офицер, осматривая окрестности.
– Холмистая полупустыня, сухой жаркий климат, о чем-то таком рассказывал Вася Гамалий. Но как здесь оказался я? – на худощавом волевом лице удивление сменялось недоумением, сосредоточенность и анализ окружающей обстановки толкали человека двигаться дальше по дороге.
– Ну, если есть дорога, значит уже есть цель! И ведет эта дорога, как мне кажется, вот к той горе, виднеющейся вдали. Если есть дорога, должны быть и люди! Всё прояснится, с Божьей помощью!
По дороге, слегка поскрипывая сапогами и пристально вглядываясь вдаль, уверенно шёл человек в форме полковника Генерального штаба Российской императорской армии образца 1917 года. В миру людского бытия и равнодушно-невозмутимого исторического процесса известный как генерал-майор Генерального штаба Войсковой атаман Кубанского казачьего войска в Зарубежье Вячеслав Григорьевич Науменко1. Шел и вёл диалог с самим собой, не подозревая, что вскоре ему предстоит вести беседы с людьми, которых он никак не ожидает увидеть. С людьми ли? Или душами, посланными встретить путника, отягощенного грузом ошибок, заблуждений и переживаний?
***
– И всё же! На мне мундир, а я всё больше в последнее время в костюме гражданском ходил, ну или в черкеске по торжественным случаям. И в каких я сейчас чинах-званиях? Полковник… Однако… Да и мундир парадный, ордена все в наличии, во всю грудь. Я в таком виде-облике в последний раз то перед господами сослуживцами представал в ноябре 1917 года, прощаясь перед отъездом с фронта на родную Кубань. А потом-то всё больше форма полевая или черкеска, ставшая чуть ли не единственной формой одежды на долгие годы. Я и костюмы только под конец жизни стал носить, выйдя навсегда в отставку, сложив с себя атаманство. А тут мундир, чудно!
– Да ладно бы мундир, а я сам?! Плечи как будто назад развернулись, в теле ни одна мышца не болит, ни один сустав не скрипит, хе-хе, только сапоги и поскрипывают.
– То ли сон, то ли явь. Два важнейших вопроса – где я и что со мной? И мне бы зеркало, какое – глянуть на себя. Так нет ничего, ни озера, ни ручья, ни лужи: не взглянуть на себя, не водицы напиться.
Тут атаман поднес к глазам свои руки, а затем провел ими по лицу.
– Такими руками, сильными и крепкими, я шашку держал, ведя сотни в атаку. А ведь я их помню старческими, со вспухшими венами, едва держащими карандаш.
И он погрузился в глубокие размышления, продолжая методично преодолевать дорогу. В небе не было ни облачка, и солнце всё также устремляло к земле свои беспощадные лучи.
– Как у нас в приазовской степи знойным июльским полднем. Так же жарко и тихо. Боже мой, как давно это было! Только у нас можно встретить две-три вербочки на берегу тихого ерика2, да напиться и искупаться. А тут?
Дорога вильнула и за её изгибом открылась картина, заставившая нашего путника остановиться, а затем с возгласом броситься вперед.
– Саша! Сашка! Братец! Ты? Но как?
Чуть в стороне дороги на брошенном на землю кавалерийском седле сидел казачий подъесаул3. Красивое благородное лицо было задумчиво, глаза спокойно вглядывались в дорогу, словно ожидая кого-то. Он неспешно жевал травинку, и весь его облик как нельзя лучше соответствовал безмолвной пустоте этого места. Увидев брата, Александр Науменко4 оживился, лицо озарилось улыбкой. Поднявшись с седла, на котором очевидно ожидал старшего брата, он раскрыл руки в объятиях.
(Иллюстрация 01_Брат Александр)
– Слава! Возмужал- то как, брат!
Братья обнявшись, хлопали друг друга по плечам, вглядывались в лица друг друга.
– Саша! Но как же… Тебя же…
– Да, Слава, …я ушел… в 1916 году, ты же помнишь… На турецком фронте, а ты тогда воевал с немцами. Но это уже не важно. Уже не важно. Ни для меня, ни для тебя. – Произнеся эти слова Александр Науменко задумчиво глянул в глаза брату Вячеславу, а затем продолжил.
– Сначала конечно, наше личностное эго сопротивляется, отголоски былого человеческого сознания бунтуют, не в силах согласиться с данностью. Но потом… потом всё встает на свои места. Вот и я сначала жалел о не сбывшемся, о не прожитом, о не случившемся… Мне так и не удалось погеройствовать на войне. А у тебя вон смотрю, полный набор орденов на груди! Орел! Потом эта Ваша революция, да и не только. И всё без меня! Но, всё пустое! Только здесь познаешь, что есть суета земная, и что есть вечность.
– Ты изменился, брат! – сказал с легкой печалью полковник Генерального Штаба. – Стал философом. Но ты мне скажи, здесь – это где? Где мы? Я-то понять ничего не могу. Место странное, как будто мертвое. Ни зверя, ни птицы в небе, облачка какого и то по небу не гонит ветром. Да и сам я… Я ведь помню всё, жизнь свою долгую да извилистую, не приведи Господи! Как старел да болел, уж под конец и карандаш не мог в руке держать. А сейчас? Я не ощущаю груза прожитых лет, я снова молод и силен! Не то, что карандаш, шашкой могу крутить-вертеть как в былые времена! Где мы? Что со мной, братец? Я умер? Да и ты… Я уж давно свыкся с мыслью, что нет тебя, ты уж прости.
– Не извиняйся, брат, пустое. Я бы и сам диву давался на твоем месте. Что же до тебя… Не печалься по поводу случившегося с тобой. Все мы Уходим, рано или поздно… Только смерть Там это еще не Конец всего, это нечто другое. А что до того где мы есть, так это сразу и не объяснить. Место сие имеет разные толкования, которые опять-таки зависят от многих причин. Как человек себя ощущает, так и место это ему видится. Какую жизнь прожил, какой груз на плечах несет. Это Преддверие… Преддверие дальнейшего бытия или небытия. Место Ожидания.
– Ожидание чего, Саша? Да и как ожидать, если надо идти? Дорога, дорога, которая неумолимо увлекает вперед, и нет сил этому противиться!
– Ожидание, Слава, Суда. Ожидание своей дальнейшей судьбы, а вернее своей участи. Судьба у нас у всех была Там… У каждого своя. А здесь Суд и Участь, по делам нашим. Вот так, брат. А что касается дороги – так разве дорога не является ожиданием? Ожиданием того, что откроется за ее изгибом? Ожиданием того, куда она приведет? И у каждого своя дорога… Твоя-то дорога, я смотрю, Слава, не легка.
– И то, правда, Саша, тяжела дорога. Только казачья закваска наша, да фамильное упрямство и ведут меня все дальше и выше, но ты же знаешь – мы никогда не сдаемся!
– Дорога твоя, Слава, это твоя жизнь, и отражение твоей жизни, и своего рода воздаяние за твою жизнь. Видно не простую жизнь тебе пришлось прожить, брат. Моя была иной. Ровной да гладкой, как укатанный степной шлях5 летом. А вокруг травы, ветром волнуемые, по пояс, как у нас в степи за станицей. Так, по правде сказать, и жизнь моя была не долгой, да и тяготами не обремененной. Не успел я ни нагрешить, ни врага лютого шашкой погонять, все видно тебе пришлось на себя взять.
– Так оно вишь как поворачивается, брат. Мы-то думаем, что все по правде делаем – и живем, и любим, и серчаем, если на кого. А правду ту только Господь получается и различает – правда она аль нет. Или грех очередной на плечи свои взваливаем. А он то, грех наш, поначалу и не велик то, – так грешок невесомый, легок и незаметен. Только как в мешок заплечный, судьбы нашей, матушки, попадет пушинка сия греховная, так ядром чугунным воздаяния и оборачивается. И мотает потом нас эта тяжесть согбенная из стороны в сторону по пути жизненному, вот как меня сейчас по пути-дороженьке этой пыльной да безрадостной. Смолоду-то решения легко даются: обидеть кого за правду постояв, иль рубить с плеча за ту же правду-матушку хоть шашкой, хоть словом. Да и искушению поддаться куда как незаметно можно – гордыни ли своей, тщеславию ли, иль похоти мимолетной, все едино. Обличьев и одежд у греха нашего множество, и все один к одному копится. А в годах зрелых, да при должности, закостенев в непримиримости своей и принципах якобы истинных, уже и не можем жить просто, без надрыва, да чтобы рубаху не рвать на груди исступленно. А следовательно и копилка наша греховная копится, и дорожка судьбоносная вьется заковыристо, спотыкаявшись. Так-то, брат Сашенька!
– А то, что не великой мерой тебе отмерено было земного-грешного, так ты не печалься, Сашко. Жизнь она, братец, только в юности ранней яркая и блестящая, а с годами все тускнее и грязнее, будучи забрызганной кровушкой, да замаранной ненавистью нашей клокочущей.
– Так все плохо было, Слава? А как же мечты наши? О любви, о подвигах и победах? Свои-то мечты я с собой забрал, да и выцвели они здесь так и не реализовавшись. Но ты вон, аж целым атаманом стал! И как вы тогда, такие орлы-герои, Кубань нашу красавицу да Рассеюшку потеряли? Расскажи мне, братец, бо невдомек мне такое, не прожив, не прочувствовав.
– Эх, Саша-Саща! Как потеряли все и сами не сразу уразумели-поняли… Мутно все было в годы те лихие переломные, муторно и гадко… То, что веяло переменами неизбежными, так еще при тебе ощущалось и предчувствовалось. Разговоры наши помнишь? Из довоенного времени все по другому виделось нам. Император казался незыблемым как сама Россия, хотя цивилизации и порядку нам хотелось как в «европах», да и к власти приблизиться, а не всю жизнь «во фрунт» тянуться. Опять же работа Государственной Думы раззадорила нас, своя казачья фракция у нас там была. Бардиж Кондрат Лукич6, уже в 1917 году, когда все закрутилось-завертелось представлял на Кубани Временное правительство, этого пустобреха, прости Господи, Керенского. Не повезло ему крепко, с сыновьями – постреляли их большевики не за что. Как впрочем, и многих других казаков.
– Как же так? Как допустили такое?
– К самому концу 1917 года все резко изменилось. Жизнь понесло как неуправляемую бричку по разухабистой дороге. Все эти надежды размыто-наивные, свободой приправленные быстро рассеялись. Никто и подумать не мог что это война…война своих со своими… А уже стреляли и рубили нашего брата, особенно офицеров. Вот и Бардижы сгинули, как и многие другие. Это на фронте понятно было – вон он враг в перекрестье прицела, турок-басурманин, иль немец педантичный. А здесь…все смешалось. Вчерашний станичник али однополчанин мог оказаться злее ворога иноземного.
И нашей семьи сие коснулось7. Брата нашего двоюродного, Женю Науменко, дяди Кости сына помнишь? Так вот, попросил я его съездить в станицу нашу и привести мне кобылицу мою «Ракету». Сам-то я из Екатеринодара вырваться не мог. Февраль 1918 года, большевики поджимают, вокруг разброд и неразбериха, на фронте и то легче было. И вот уже когда Женька назад возвращался, под станицей Анастасиевской зарубили его красные. «Ракета» после этого досталась какому-то комиссару, а при Таманском восстании комиссар тот был казаками ликвидирован, а кобылу они доставил в станицу батюшке нашему. Так сестрица наша Сонечка8 потом все меня винила в смерти Евгения.
Что случилось, то случилось. Может и этот камушек добавился в суму грехов моих. Потом много всего было… нехорошего, что и вспоминать не хочется. А тогда, пережив неудачи первой половины 1918 года, мы воспряли, зигзаг удачи вернулся к нам. Казачки наши, хлебнув обещанной милости комиссарской, потянулись к Антону Ивановичу Деникину, под чьей властью находились и войска Кубанского войскового правительства. Отбили у большевиков Екатеринодар как и всю Кубань. Только недолго удача с нами была. Нас раздирали изнутри политические склоки, фронт трещал из-за дезертирства, людьми овладели жесточайшее разочарование и ненависть. Ненависть к большевикам, к жестокой эпохе, к жизни, которая рушится. Ненависть стала править миром. Только нам она не помогла, как видишь, – горестно вздохнув, старший брат Науменко немного помолчал, а затем продолжил.
– Весной 1920 года выпихнули большевики нас с Кубани, потом Крым, но и там не удержались. После Крыма то еще угар борьбы был, а потом… закончилась наша Россия и Кубань вместе с ней. Только понять мы этого долго не могли… Все надеялись, ждали. Сначала что рухнет Совдепия9, потом союзничков высматривали… Эх, все прахом… И Россия, и жизнь, и мечты…
Повисло молчание. По лицу полковника ходили желваки. Но нет, ничего не сверкнуло предательски в глазах. Все давно высушило в бессонные ночи долгой жизни.
– Да, Слава, видно груз пережитого несешь на себе не малый. Ну, так значит, уготовано было тебе так свыше – идти долгой дорогой жизненной, где-то напролом, а где-то и заблуждаясь. Иди, брат, твоя дорога ждет тебя!
Стоящие напротив братья долго вглядывались в лица друг друга, затем крепко обнялись. Старший, Вячеслав, развернувшись, двинулся дальше по кажущейся бесконечной дороге. А на ее изгибе, медленно истаивал силуэт подъесаула Александра Григорьевича Науменко, не вернувшегося с Турецкого фронта в 1916 году, но по какой-то закономерности встретившийся своему брату Вячеславу Григорьевича Науменко на его последней дороге.
***
Камни в дорожной пыли все также хрустели под сапогами полковника Генерального Штаба Науменко, а равнодушное и вечное солнце заливало все окрест зноем. Однако он не замечал неудобств окружающей обстановки. Отрешенное, задумчивое выражение лица свидетельствовало о глубоких раздумьях, в которые был погружен путник. Он вел молчаливый диалог, с братом ли Александром, которого не видел жизнь, с самим собой или своей судьбой.
– Саша, Саша, надо же, как… Жизнь целую прожил без тебя, и свыкся давно с мыслью что нет тебя… А ты… Как будто вчера расстались…
– Что я могу тебе рассказать, брат? Как отрекся от нас государь император в феврале 1917 года? И рухнул мир наш, покатившись под откос. Вот тогда-то мы и потеряли Россию нашу матушку, только сами еще не осознавали этого. И даже шанс поначалу углядели в этом, самостоятельность да свободу казачью возвернуть. Не для всех, правда, чего уж там, а только для «панов», как говорили у нас в станице. Власти мы хотели, власти, вот в чем вопрос. И вот за всей возней этой за власть призрачную и некогда было Россию спасать. Да и себя не все спасли. Бардижей вот, и отца и сыновей постреляли красные, когда мы не зная куда бежать, метались по Кубани в феврале 1918 года. А Рябовола10 с Кулабуховым11 сами и приговорили, разойдясь в понимании политического вопроса. Эх, грехи наши тяжкие… И ведь сколько лет еще, да что там лет, десятилетий, были как чумные. Все больше черствея в ненависти, ища врагов среди своих и чужих. А так и не поняли, что Россию мы потеряли раз и навсегда еще в 1917 году.
Вот так рассуждал в своем внутреннем монологе генерал-майор Генерального штаба императорской армии Российской империи, Войсковой атаман Кубанского казачьего войска в зарубежье Вячеслав Григорьевич Науменко, которому для осознания своих заблуждений и ошибок понадобилось прожить долгую жизнь, и лишь шагнув в Посмертие, суметь их понять и принять.
***
Гора на горизонте, несмотря на изрядно пройденный путь, была все также далека. Но дорога, тем не менее, слегка повышаясь, увлекала путника вперед. За очередным изгибом загадочно-пустынной дороги Вячеслава Григорьевича Науменко ожидала новая встреча. У самой обочины дороги, словно специально для усталых путников лежал ствол поваленного дерева, на котором восседал благообразный старик в форме войскового старшины12. Отливающие золотым огнем пуговицы на кители соревновались блеском с начищенными сапогами. Морщинистые крепкие руки его покоились на выставленном причудливом резном костыле, а легкий ветерок пытался шевелить окладистую седую бороду, которая обрамляла властное, слегка суровое лицо. Взгляд отставного казачьего войскового старшины был задумчив и устремлен на дорогу.
(Иллюстрация 02_Отец атамана)
Открывшаяся взору картина была настолько иррациональна, что в первое мгновение полковник Науменко изумленно застыл, а затем со всех ног бросился вперед.
– Отец, отец! Вы ли это, батюшка?!
Григорий Потапович Науменко, войсковой старшина Кубанского казачьего войска, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., медленно поднялся навстречу сыну. Взгляд его просветлел и смягчился.
– Здравствуй, Слава, здравствуй, сынок!
Отец и сын внимательно вглядывались друг в друга, а затем крепко обнялись. Вячеслава Науменко, не кланявшегося немецким пулям на фронте Первой мировой войны и водившего в кавалерийские атаки казаков в Гражданской войне трудно было вывести из равновесия. Однако события, происходящие с ним в последние несколько часов, требовали большого самообладания, чтобы сохранить целостность собственного «Я» при потере прежних координат жизненной вселенной.
Прижавшись к отцу, и ощущая щекой шелковистость его бороды, младший Науменко пытался совместить изумление своих чувств реалистичности происходящего и бесстрастность памяти сомневающейся в истинности действа. Ибо Вячеслав Григорьевич Науменко точно знал, что его отец, Григорий Потапович Науменко, бывший атаман станицы Петровской и Почетный блюститель Петровского станичного женского двухклассного начального училища уйдет на небеса в 1922 году, не выдержав притеснений советской власти. И всю свою длинную жизнь атаман В.Г. Науменко, уводя от беды казаков все дальше на Запад, будет укорять себя, что не смог спасти своих родителей, оставив их старых и беспомощных в родной станице. Этот груз терзаний, носимых всю жизнь в груди, всколыхнулись в нем с новой силой.
– Отец, – прерывисто выдохнул он, – простите меня, батюшка, ради Христа! За то, что оставил Вас антихристам красным! Не смогли мы пробиться тогда в августе 1920 года с десантом Улагая, не смогли…
– Ну, полно тебе, Слава, не убивайся понапрасну. Что случилось, то случилось, знать судьба наша такая. Теперь-то это и смысла не имеет. Садись, сын, отдохни, да и поговорим заодно.
Григорий Потапович осторожно опустился на приютившее их дерево, приглашая сына присесть рядом.
– Я смотрю, ты в полковничьем мундире, а помнится, генералом уже был?
– Я сам не пойму, батюшка, в последнее время со мной много странного произошло, да и сейчас вот… Встреча с Вами… так неожиданно. А перед этим я встретил Сашу… А еще раньше была долгая жизнь, где я скорбел о Вас о всех. Вас никого не было уже со мной, а я все шел по жизни, вот как сейчас по этой дороге. А что до мундира полковника, то я осознал себя в нем уже здесь, в этом загадочном (странном) месте. Я таким был, – полковник Науменко на минуту задумался, взгляд его на мгновение затуманился, – я таким был в 1917 году, на самом переломе, на той грани «до – и после». Аксельбанты, ордена, шашка Георгиевская, погоны полковника – это все Империя наша Рассейская. А вот генеральство да портфель министерский в Краевом правительстве – это уже Смута да метания наши.
– Ну, вот видишь, сам все понимаешь, не зазря в Академии учился. Стало быть, жизненный водораздел в судьбе твоей аккурат по 1917 году и прошелся. Но то, сынок, не значит, что все, что будет, иль было после, является менее значимым. Остальная чай жизнь тоже не сахар была. Насколько я самую малость захватил новой жизни, и то в великом смятении был. Ну а Вашему поколению выпала горькая доля, смириться или сражаться, погибнуть или …, да, только вот победы Вам не суждено было одержать…
А что касается места сего дивного, то ты и сам уже догадался. То, что ты здесь означает конец твоего пути земного, каков бы он не был. Все мы грешны вольно или не вольно в содеянном, или в не совершённом, пребывая в юдоли нашей земной. Но очутившись здесь, мы возлагаем на чашу весов Божьего суда все содеянное, как во благо, так и супротив Божьего замысла. Только не ведомо нам, душам греховным, заблудшим и заблуждающимся, какие из поступков наших как оценены будут и на какую чашу весов лягут.
Только это еще не суд Божий. Чтобы предстать пред Господом, надо вспомнить и осознать все, а это труд непростой, мучительный. Вот и идет всяк попавший сюда каждый к своей Голгофе вспоминая, страдая и очищаясь. И путь, и тяжесть у каждого своя. У кого-то тропинка незамысловатая, да скорая. А у тебя я смотрю, дорога не из простых, сын, знать и судьбинушка не из легких выдалась. Ношу то атаманскую нелегко было нести?
– Что судьбы непростые у нас были, батюшка, так-то нам эпоха определила. Но не это главное. Человек привыкает ко всему: к чужим людям вокруг, к чужому языку, к чужому небу над головой. Привыкает не жить, а существовать, привыкает не бороться за счастье, а искать оправдание за неудачи – вот это страшно, отец.
А что до ноши моей атаманской, Вы правы батюшка, тяжела была. Хотя тяжесть ее долго не осознавалась. Все затмевалось тщеславием и радостью от достигнутой должности. Но, по правде сказать, отец, эгоистические ощущения были не главными и не единственными. Определяющим для меня было желание сберечь наше казачество на чужбине, помочь казакам выжить, сохранить себя. По молодости энергии и порывов много было, что порождало различные планы и прожекты. Что-то удалось претворить, а что-то так и осталось «брожением в умах».
– Ну и что гнетет тебя, сынку, более всего, содеянное али несбывшиеся?
– Эх, батюшка, кабы так легко было ответить… Камнем на душе всю жизнь проносил, что не смог Вас, с маменькой, вывезти тогда в 1920-м году, оставил на поругание большевикам. О судьбе Вашей только в середине 1920-х узнал, когда редкие одиночки стали бежать из Совдепии. Вот казаки-земляки и поведали, как новая власть с Вами обошлась.
– Что сейчас-то об этом. Да и куда бы мы, под конец жизни от своего хозяйства поехали? Дом, сад наш, мельница-кормилица, все, что всю жизнь строили да обихаживали, как бросить? Это ты, Слава, всю жизнь в полку, потом в Академии, да на войнах. Своего очага и не было, да и вкуса ты его не знаешь, не в обиду тебе будет сказано. Я все думал – внучата пойдут, так отстроим тебе дом справный в Екатеринодаре, чтобы было у тебя свое гнездо по чину твоему. А оно вишь как обернулось. Наталия, когда родилась хоть и радость великая нам была, а вокруг беда да лихо в обнимку ходят. Так и не получилось тебя по всем правилам отделить под собственную крышу.
При этих словах старый казак потрепал сына по плечу, и горькая усмешка пробежала по его лицу. На что Вячеслав, спокойно и даже философски отвечал:
– Значит не судьба, отец. Что толку – вон у Андрея Шкуро два дома в Екатеринодаре было, не считая отцовского в Пашковке. Так все большевикам и осталось. О чем уж тут жалеть. Моим домом в жизни можно сказать дорога стала. Так и промыкался по чужим углам, сначала в Европе, потом в Америке. Я-то ладно, а вот Нине13 моей тяжело было, женщине без своего дома нельзя.
Григорий Потапович согласно покивал седой головой словам сына, а перед глазами вставали образы раскидистых яблонь собственноручно выращенного сада, родное подворье в станице Петровской, где знакома каждая мелочь.
– Вот и мы с матушкой твоей сроднились с домом нашим, не могли мы его бросить. Да все одно ненадолго. Проигравшим с победителями не ужиться под одним небом. А мы как есть были проигравшей стороной. Вот с весны 1920-го по родной станице и ходили как будто врагом оккупированные.
– Тяжело было под Советами, отец?
– Да что такое тяжело, Слава, когда все что было правильно и понятно в жизни стало рушиться? Крепкий хозяин, уважаемый человек вчера, вдруг в одночасье становится врагом общества. Все прежние заслуги, беспорочная служба, материальный достаток, воспитанные и достигшие положения дети – все становится отягчающими обстоятельствами. У нас, конечно, и раньше, при царе-батюшке, голытьба на землю офицерскую зарилась. Ну а после двадцатого года их мечта сбылась, им на радость, нам на горе. Хотя вся наша жизнь превратилась в одно сплошное горе… Саша погиб, ты на чужбине, по станице идешь, а в спину попреки да брань. Землицу нашу забрали, мельницу опять-таки. А забрать то легко, да ума хозяйству дать не просто. Вот Иллиодора14 при мельнице нашей управляющим и оставили. А все одно жить спокойно не давали. Вместо правления станичного стал ревком красный всем заправлять, а верховодили в нем самые отъявленные голодранцы. Ох и лютовали они после того как Вы с Улагаем назад ушли, за страх свой пережитый. Офицеров всех вплоть до стариков, да семьи тех, кто у Деникина с Врангелем служил, всех переписали, коней справных позабирали, оружие все, даже наградное, велели сдать. А я не в силах был заставить себя подчиниться власти их бесовской, а пришлось… Вызвали к себе в ревком, ну я револьвер с кинжалом приладил и пошел. Уж до того зол был, что хотел костылем отходить их как в прежние годы, когда голозадыми скакали по станице. Да годы мои уже не те были. Пригрозили Иллиодора арестовать, если не подчинюсь власти новой. Швырнул им револьвер, а кинжал да шашку сказал, что в могилу с собой заберу, вот потом пусть и забирают. После того случая как будто стержень из меня вынули, искра Божья стала затухать во мне, да и ушел я в скорости… Я можно сказать и не жил под ними. А вот, матушка наша, Вера Исааковна15, хлебнула больше моего. Ей сердешной, выпало своими глазами видеть наше окончательное разорение и унижение, и как забрали все подчистую, и как гнали в ссылку из родной станицы, позабыв о заботах ее просветительских в прежние годы. И конец своей земной юдоли нашла на краю стылой заснеженной степи, выброшенная из вагона помирать в чужом краю. Вот так вот, сынок. Но ты себя не укоряй, твоей вины тут нет никакой. Мы свою жизнь хорошо, достойно прожили. Вас, деток своих вырастили, гордились Вами всеми, каждый из Вас нашел свою дорогу жизненную, хоть и разную. А что конец жизни нашей печальный, так-то конец всей России-матушки прежней, златоглавой, такой был горестный.
Хлопнув себя по коленям, Григорий Потапович Науменко, одной рукой опираясь о плечи сына, а другой на крепкий резной костыль поднялся с приютившего их у дороги дерева. Старый казак с нежностью и тихой грустью смотрел на своего взрослого сына, по лицу которого пробегали отголоски того смятения и переживания чувств, которые кипели в его душе.
– Ты, Слава, лишний груз на душу не бери. Твоей вины в том, что с нами случилось, нет и быть не может. Тебе и без этих терзаний есть о чем подумать, вспомнить, осознать. Ноша твоя незримая тяжела. Но груз ли это грехов или ошибок? Или непременное и обусловленное условие твоего жизненного бытия? Кто знает… Не нам, и не тебе судить о том. Это место, как ты сказал загадочное, помогает по-новому взглянуть и на себя и на свою жизнь прошлую, уже ушедшую, холодно бесчувственную, потому как это уже лишь эхо былого. Иди сын, и слушай шепот своей души. Сомневайся в своей непогрешимости или утвердись в верности содеянного когда-то. Ты должен постичь себя, для этого тебе и дана эта дорога.
