Набережная Клиши
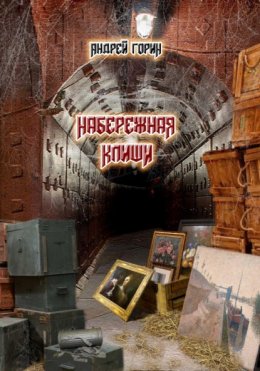
Несостоявшийся летчик люфтваффе
1940 год, поезд «Париж-Берлин»
В полупустом вагоне, с потертыми, непонятного цвета ковровыми дорожками на полу, было весьма прохладно, не в пример уличной июльской жаре. Виной всему были открытые окна в проходе возле ряда купе непрезентабельного вида, в которых, судя по всему, не так давно перевозили оккупационные войска. Паровоз, попыхивая свежевыкрашенной черной трубой и ритмично постукивая дружными колесами, бойко набирал обороты, едва оторвавшись от перрона Восточного железнодорожного вокзала Парижа. «Gare de I Est» был самый известный вокзал в столице Франции. Единственный пассажир, сидящий в купе № 3, был осведомлен о том, что именно с этого вокзала впервые в далеком 1883 году отправился легендарный поезд «Восточный экспресс», курсировавший между Парижем и Константинополем. Об этом знаменательном событии он прочитал на памятной табличке, установленной на стене здания возле главного входа.
Мелькающие за окном пейзажи явно не привлекали особого внимания молодого человека, одетого в форму офицера люфтваффе с погонами лейтенанта и ранее учившегося в Берлинском университете изобразительных искусств. Несостоявшийся художник с отрешенным видом смотрел на меняющиеся картинки за окном, всецело погрузившись в себя. Казалось, что может так расстроить бравого летчика, буквально только что захватившего столицу большого европейского государства, причем без боя. Город сохранился в неприкосновенности, и поэтому было на что посмотреть. Вроде надо бы любоваться достопримечательностями старинного города, основанного еще до нашей эры, и радоваться, празднуя победу над сильным противником, но… Вот это «но» и не давало покоя летчику, выворачивая всю его душу наизнанку.
Дело в том, что Манфред Матеус (так звали молодого офицера люфтваффе) не так представлял свое ближайшее будущее. Отложив учебу в университете до лучших времен, он успешно закончил летную школу в Брауншвейге, налетав положенные по учебной программе сто пятьдесят часов. Манфред мечтал прославиться на своем самолете, когда был зачислен во вторую эскадрилью двадцать пятой истребительной эскадры в апреле сорокового года. Он всегда с восхищением смотрел на своих старших товарищей, имеющих уже не по одной боевой награде. Преподаватели и летные инструкторы в один голос отмечали рвение курсанта, пророча ему блестящую карьеру на такой замечательной машине как «Мессершмит-109», позволяющей всецело применить полученные навыки. Война подходила к концу. Европа была практически завоевана. Нельзя было мешкать. В мирное время нет стремительного продвижения по службе с присвоением внеочередных званий, да и наград точно не получить. Некоторые недавние выпускники уже отличились, сбив вражеские самолеты, и с радостью сообщали об этом в своих письмах на родину, не забывая вложить в конверт фотографию на фоне истребителя.
Сначала Манфреду везло. Третий воздушный флот люфтваффе, в состав которого и входила его эскадра, прикрывал танковый прорыв Клейста и Гудериана. Территория между Парижем и направлением танкового удара немецких генералов утонула в хаосе. Здесь метались сотни тысяч беженцев и солдат из рассеянных, деморализованных французских дивизий. Наступающие танки прорвали оборону врага и пошли на огромный риск, устремившись вперед и не дожидаясь пехотных дивизий. Железные кони рванули на запад. Они мчались по шоссе, почти не встречая сопротивления. Все это время эскадра Манфреда Матеуса прикрывала их сверху. Летчики практически не спали, сменяя друг друга. С бешеной интенсивностью вылетов люфтваффе Геринга смогла подавить авиацию противника. Бомбардировщики разгромили аэродромы и скопления войск союзников. Пройдя за пять дней триста пятьдесят километров, корпус Гудериана вышел к Ла-Маншу. Если бы французы с англичанами были порасторопнее, то они могли бы организовать огромный котел всей этой лязгающей гусеницами армаде. И тогда вряд ли немецкие войска захватили бы Францию. Во всяком случае, их положение было бы катастрофическое. Но, как говорится, история не знает слова «если»».
Для Манфреда все складывалось как нельзя лучше. Первый боевой опыт позволил ему обрести уверенность в управлении самолетом, но произошла досадная оплошность… подвела банальная невнимательность. На одном из вылетов он не сразу заметил скрытую зенитную установку противника, в результате чего был неожиданно обстрелян. И что самое обидное, командир звена заранее предупредил его об этой зенитке. Одна из очередей скорострельного орудия прошила навылет корпус его самолета. Выровняв машину и убедившись, что она его слушается, Манфред успешно атаковал зенитку. Но лейтенант рано уверовал, что все обошлось. Оказывается, при посадке правое шасси не открылось. Как потом выяснилось, одна из пуль перебила шланг гидравлики. В принципе такое иногда случается. Система и сама по себе может дать сбой. В летной школе они прорабатывали вариант «садиться на брюхо», но только теоретически. Первым делом Манфред сделал несколько кругов над аэродромом, чтобы полностью выработать горючее. Это было необходимое условие, чтобы не взорвались бензобаки от сильного удара о землю. И когда стрелка манометра топлива была почти на нуле, собравшись с духом, Манфред пошел на посадку против ветра, чтобы максимально сократить тормозной путь по запасной полосе взлетного поля. Стараясь держать истребитель при встрече с поверхностью аэродрома как можно дольше на одном колесе, летчик планировал остановить машину возле маленького лесочка. Внизу уже стояла наготове пожарная машина. Но летчику не повезло… Нет, машину он уберег и посадил почти неповрежденной – слегка погнув одну лопасть винта. Но, пробежав на одном колесе тридцать метров, истребитель, потеряв устойчивость, резко завалился на правый борт. От удара неожиданно откинулась кабина, и только удерживающие ремни безопасности не позволили выкинуть летчика из кресла на землю. Перегрузка была такая сильная, что при этой болтанке Манфред ударился головой, при этом повредив глаз. Хорошо, что еще защитный шлем с очками смягчили удар. В госпитале его, конечно, подлечили, но зрение на этот глаз упало. Дальнейшая медицинская комиссия наложила временный запрет на полеты лейтенанта люфтваффе Манфреда Матеуса. Позже один из врачей откровенно посоветовал не строить иллюзий насчет авиации, а попробовать найти себе другое применение.
Разочарованию Манфреда не было предела. Первое время ему поручили заниматься доставкой запчастей для самолетов, а два дня назад пришел неожиданный вызов в Берлин. Ему предписывалось сдать все свои дела и прибыть в Имперское министерство авиации для прохождения дальнейшей службы в разведывательном управлении Oberkommando der Luftwaffe. Лейтенант имел смутное представление об этой структуре, считая скучным занятием перебирать фотографии аэрофотосъемок и донесения наземных специальных служб. Конечно, без разведывательного управления сложно было добиться такого ошеломляющего результата танковых соединений, но протирать штаны в пыльных кабинетах, заваленных картами, было выше его сил. Ну, что сейчас об этом. Поступил приказ, и его надо выполнять. С другой стороны – почему бы и нет. Как говорится, все, что ни делается – все к лучшему… Но так ли это?
«Вот вскоре и узнаем, – размышлял Манфред, оправдывая свое невезение с авиацией. – Зачем я только бросил учебу в Берлинском университете изобразительных искусств? Надо было продолжать учиться, а не мечтать о подвигах боевого летчика.
«Предчувствие Шамбалы»
1989 год, Париж
Эта история, которую я хочу вам сейчас рассказать, началась несколько неожиданно. Был конец мая. В этом году лето накрыло Париж еще в апреле. Я все так же продолжал трудиться в своей газете «Le Parisien libere», постепенно входя в скучный ритм своей профессии – криминальный репортер. Хотя ранее у меня об этом занятии было противоположное мнение. Просматривая, как обычно, с утра наше популярное издание, пахнущее еще свежей типографской краской, я неторопливо выискивал напечатанную накануне свою очередную статью о каких-то ничтожных злоупотреблениях «мирового» масштаба. Честно признаться, статейка была так себе, по большому счету, «высосанная из пальца». Даже шеф немного скривился, когда я предъявил ему расследование об очередном сливе мазута в акватории порта. Казалось, что весь мир замер и ведет достойный образ жизни… Это я сейчас так глупо пошутил. Нет. Конечно, хватало проблем не только на других континентах, но и в самой добропорядочной Франции. Взять тот же Париж с грязной рекой Сеной. Позор на весь мир… А эмигранты в своих изолированных кварталах, куда и полиция не хочет лишний раз сунуться по вечерам… Но, к сожалению, меня все это в одночасье перестало интересовать. Я предвидел такую реакцию еще заранее, попытался взять себя в руки и как можно скорее забыть свое расследование о загадочной Шамбале. Вернее сказать, о немецком археологе Винсенте Хартманне. Это было трудно воплотить в жизнь, так как еще не стихли дискуссии и споры вокруг книги Эммы Румменигге «Предчувствие Шамбалы». За все это время к фрау Эмме несколько раз обращались журналисты, пытаясь ее разговорить о нашумевшей книге. Еще бы… Одних только дополнительных тиражей на этот период было уже три. Сначала Эмма нехотя соглашалась на просьбы пишущей братии, но совершенно растерялась после небольшого конфуза на федеральном телевидении, когда после простого вопроса ведущего передачи о том, как ей удалось так живо и доходчиво описать события, произошедшие с ее братом Винсентом, она неожиданно запуталась в трех соснах и начала рассказывать о французском журналисте по имени Андрэ Горнье. Каково же было удивление в студии, когда выяснилось, что к написанию мемуаров эсэсовского археолога Хартманна имеет отношение еще какой-то француз. Тогда впервые прозвучало мое имя. Вопросы посыпались на бедную Эмму как из рога изобилия, и она, не найдя ничего лучше, созналась, что именно я помогал ей в написании книги, предоставляя дополнительные сведения. Но это еще не все… Дальше было еще хуже. Очередному пройдохе-журналисту, который профессионально разговорил ее и тем самым загнал бедную женщину в угол, она призналась, что книгу полностью написал я. Мол, она дала только свое согласие… Во время моего звонка из Парижа фрау Румменигге, расплакавшись в телефонную трубку, призналась: она так сильно устала за это время, что решила обнародовать правду.
– Поймите, мой дорогой Андрэ! Я так больше не могу. Они просто все достали меня. У меня давление скачет, – всхлипывала она в трубку. – Представляете, даже из Норвегии приезжали… интересовались каким-то письмом. Представляете? Я им что-то отправила! Уму непостижимо. Я толком-то и не знаю об этой стране ничего. Нет. С меня хватит! Не надо мне такой славы и денег… хочу спокойствия. Жить хочу без напряжения.
Я как можно убедительнее попытался уговорить взволнованную женщину не делать опрометчивых шагов, но она и слушать больше ничего не хотела, лишь постоянно повторяя, что очень устала от такого навязчивого внимания. В результате всех наших споров я предложил ей приемлемый, на мой взгляд, выход из этого неудобного положения. Немного поупрямившись, женщина все-таки согласилась. Суть этого компромисса заключался в том, что у книги «Предчувствие Шамбалы» неожиданно появился еще один автор, который, как оказалось, из скромности ранее не хотел себя афишировать, коим и оказался французский журналист Андрэ Горнье. На брифинге, устроенном в нашем издательстве в Париже, я сообщил во всеуслышание, что действительно предоставлял некоторые факты из жизни брата фрау Румменигге и даже написал несколько глав, но если бы не бесценная помощь сестры немецкого археолога Винсента Хартманна, то книга вряд ли была бы представлена мировой общественности в таком интересном формате.
В общем, проблема была решена, и назойливые репортеры отстали от бедной фрау Эммы, одномоментно переключившись на меня. Но, что самое удивительное, и меня это вскоре начало тяготить. Дело в том, что, связанный с правительством Франции подпиской о неразглашении, я не мог открыть общественности и половины известных мне фактов об этой истории, и поэтому начал отказываться от интервью. Но, Слава Богу, ажиотаж продолжался не так долго, и интерес к нашему сюжету начал потихоньку угасать. Правда, это не касалось спецслужб Норвегии. О чем меня заранее и предупредили недремлющие компетентные органы, еще раз напомнив о нашем «добровольном» сотрудничестве. Почему-то норвежцы решили, что я знаю, где находится загадочная Шамбала или, во всяком случае, имею предположение… мол, утаил эти сведения, чтобы найти богатого покупателя. На эту мысль их, безусловно, натолкнул мой трюк с письмом в посольство Королевства Норвегии в Германии. Тогда, чтобы правительство Франции даже и не думало скрыть от норвежцев информацию о светящихся камнях, хранящихся в секретном подземном бункере под городом Берген, я и отправил в норвежское посольство книгу «Предчувствие Шамбалы» с сопроводительным письмом. Они сначала решили, что это фрау Румменигге их таким образом информирует. Стремление норвежцев к контакту было понятно. Еще бы! В нескольких главах книги я так подробно описал пещеры с таинственными светящимися камнями, что у неосведомленного читателя могло сложиться впечатление, будто бы автор лично побывал там или, как минимум, имеет правдивые свидетельства непосредственных участников тех далеких событий. Так и было на самом деле. К изложенному в дневниках Хартманна мне оставалось лишь немного добавить красок воображения с элементами мистики в подземельях двуглавой горы и реализовать все это в печатном художественном слове. И, похоже, мне это удалось.
Казалось, столько лет уже прошло со времен окончания войны, и можно было бы уже успокоиться на тему этой мифической страны, находящейся непонятно где. Мол, где-то там, на Тибете… в Гималаях. Вот и все вводные координаты. Но мне доподлинно известно, что тайны этой страны до сих пор будоражат умы ученой братии. Еще бы, кто бы не поддался искушению открыть, не вкладывая никаких инвестиций, неизвестные прежде прорывные технологии древней цивилизации… К тому же, светящиеся камни существуют, и найдены они в тех самых пещерах. Ну да ладно. Что сейчас-то об этом говорить?
Прочитав свою статью о загрязнении Сены, я намеревался переговорить с шефом о новом расследовании. И тут неожиданно позвонил Серж Тарассивье и предложил вечерком встретиться. Я не стал расспрашивать его о причинах, побудивших к незапланированной встрече, но разумно предположил, что при своей огромной занятости полицейский чиновник вряд ли будет тратить время на обычную болтовню со старым другом. К тому же, еще сохранилась приобретенная по роду деятельности привычка – лишний раз не доверять секреты телефону. Поэтому у меня были причины думать, что Серж хочет сообщить что-то важное и срочное.
С Сержем мы договорились встретиться неподалеку от Ворот Сен-Дени в маленьком кафе на улице Де Дегре. Еще ее называют «улицей Ступенек». Она знаменательна тем, что не только самая короткая улица Парижа, но и во всем мире. Фактически улица представляет собой лестницу, соединяющую две параллельные улицы: де Клери и Борегар. В кафе было всего пять столиков и подавали в нем только кофе с вкусными хрустящими булочками.
– Меня сюда привела Инга, – сообщил Серж, поджидая меня внутри кафе. – Правда, забавное место? Столько лет болтаться по Парижу и не знать такое чудо.
Инга – это девушка Сержа. Она работала управляющей сетью аптек. Он встречался с ней уже больше года, и было печально наблюдать со стороны как «свободный художник» начал меняться… даже и не знаю, в какую сторону, но дело, похоже, принимало серьезный характер. Я уже давно заметил, что Серж стал каким-то домовитым и на мои предложения где-нибудь потусить все время как-то неуклюже отнекивался, при этом ссылаясь на Ингу, как на последнюю инстанцию принятия решений.
– Ты стал каким-то несамостоятельным. Можно подумать, сам себе не принадлежишь. Все Инга да Инга… Так мы друзей и теряем, – шутил я с кислой физиономией.
– Не говори, – соглашался Серж. – Прямо какое-то наваждение. Ты представляешь, всю жизнь бы ей служил. Никогда не думал, что это со мной произойдет.
Честно признаться, при всей своей надуманной обиде, я сильно завидовал другу и втайне от себя самого мечтал встретить такую же девушку. Ради которой можно… А что можно? Нет. Мне этого не понять. Видимо, пока не повстречаешь, не осознаешь.
– Ты можешь мне толком объяснить, почему выбрал это кафе? – поинтересовался я у друга, когда он сделал заказ миловидной официантке в кокетливом белом передничке.
– По-моему, здесь безопасно, – как-то невесело усмехнулся Серж. – Ты не находишь?
– Тебя что-то беспокоит? И перестань отвечать вопросом на вопрос. Это дурацкая черта не твоей народности. Не надо во всем с них брать пример.
– Все очень прозаично. За мной постоянно следят. А здесь все как на ладони.
– То есть как следят?! – меня шокировал ответ Сержа. Он как-то по-будничному ответил, словно речь шла о каких-то бытовых пустяках.
– Я надеюсь, что ты еще помнишь такого персонажа по прозвищу Седой?
– Конечно. Его рожу разве забудешь. Мне тогда повезло улизнуть от него в Торонто. Чуть нос к носу не столкнулся с ним. Даже пришлось удирать из отеля через служебный ход.
– Вот, взгляни, пожалуйста, на эти фото, – с этими словами Серж достал из внутреннего кармана пиджака две фотографии. – Никого здесь не узнаешь?
Один черно-белый снимок был плохого качества. Безусловно, он был сделан во время войны. Тем более, на этой фотографии были изображены трое молодых людей в эсэсовской форме.
– Не узнаешь стоящего в центре? – спросил Серж, указывая на высокого парня в черном обмундировании с одним погоном.
– Нет. А кто это? – в недоумении ответил я другу.
– Согласен. Здесь его трудно узнать. Тогда он был обычный гестаповец в звании унтерштурмфюрер СС. Потом его служебная карьера пойдет вверх. Будет офицером по специальным поручениям.
Зато на другой фотографии я сразу опознал своего «старого» знакомого. Тут уж ошибиться было сложно. К тому же, снимок был цветной и отличного качества. На нем была изображена, по всей видимости, семейная пара. Седовласый мужчина лет шестидесяти, в строгом темном костюме и с бабочкой вместо галстука на белоснежной рубашке, держал под руку элегантную женщину с маленьким букетиком сиреневых цветов в правой руке.
– Это Седой, правда, выглядит несколько моложе… Я так понял, что и по центру то же он.
– Да. Его настоящая фамилия – Эрих Нейрат. Это единственная сохранившаяся фотография военных лет, – пояснил полицейский чиновник. – Эти снимки нам отправили немецкие коллеги. Попросили опознать. Мадам Черепанофф его тоже сразу узнала.
– Его нашли? Поймали?
– Да. Выловили в реке Шпрее два месяца назад.
– Утонул?
– Помогли… Эксперты не обнаружили в легких воды. Но преступники постарались преподнести все как несчастный случай.
– Получается, что от него банально избавились…Но зачем?
– Все очень просто. По нашему мнению, он выполнял приказ своих хозяев и искал археолога Винсента Хартманна по всему миру. Следы последнего привели во Францию. Здесь у него были могущественные сообщники, которые координировали его поиски. Помнишь, я тебе рассказывал про «жучок» в своем служебном телефоне?
Я молча кивнул другу, поражаясь его рассказу.
– Прослушивали не одного меня. Им позарез нужен был Хартманн. Они хотели найти Шамбалу. Да что я тебе рассказываю? Ты и сам все это знаешь…
– Но избавляться-то зачем от такого ценного кадра?
– После того, что произошло в Париже, кураторы Нейрата занервничали. Побоялись, что может их выдать. К тому же Нейрат слишком много наследил. Фоторобот его физиономии был расклеен по всей Франции. Ему путь в нашу страну заказан. До первого полицейского… Нет. Они все правильно сделали. Так вот. Следы измены ведут в министерство внутренних дел. Скажу больше, – Серж ближе наклонился ко мне и более тихим голосом продолжил: – этим делом занимается специально созданная группа при Главном управление внешней безопасности. Я почему тебе сейчас так подробно рассказываю, находясь в этом пустом кафе… Нужна помощь. Как ты смотришь на то, чтобы ваша газета напечатала репортаж про твое новое расследование, связанное с Шамбалой?
– То есть, это как? Мне же запретили вмешиваться. Я же документ подписал! Да и редактор Бернар тоже…
– Все нормально. И это не только моя идея. Меня должны скоро попереть из полиции… Что так округлил глаза? Не переживай, еще посмотрим, кто кого. Так вот. Еще раз повторяю: все согласовано в ГУВБ. Мы хотим, чтобы змеи, осевшие в министерстве, зашевелились. Сейчас, ликвидировав Нейрата, они успокоились и затаились, резонно решив, что ниточка, ведущая к ним, перерезана. Их надо расшевелить, чтобы они засуетились и наделали ошибок. Предупреждаю, это опасно, и ты вправе отказаться.
– Не говори ерунды. Что значит отказаться… Но как расшевелить? О чем мы можем сообщить в газете? – я все равно не понимал Сержа. – У нас нет никакого материала. Три дневника похитили люди Нейрата. Четвертый дневник, карту бункера, фотографии – изъяла полиция. Да, это и пройденный материал…
– А ты придумай что-нибудь. Не мне тебя учить, – настаивал Серж. – Мол, случайно нашлись записи немецкого археолога по фамилии… ну, например, «Х», в которых он указывает место… подземный проход в Гималаях. Напиши, что все это предположительно. Мол, некий «Х» прочитал книгу «Предчувствие Шамбалы» и утверждает, что в годы существования Третьего рейха был участником одной из экспедиций на Тибет. Сам же знаешь, доподлинно известно, что было несколько экспедиций… Сейчас изучаем эти документы. А настоящую фамилию этого археолога держим в секрете по его просьбе. Как-то так.
– А откуда записи у меня появились? Ерунда какая-то. Никто не поверит, что я мог их утаить от следствия… Я сейчас не про читателя, а про преступников.
– Пришли по почте на твое имя… неделю назад, – тут же нашелся Серж. – Тебя не в чем упрекнуть правоохранительным органам. Ведь нельзя же тебе запретить вообще упоминать слово Шамбала. У нас свободная страна, и ты журналист. Тем более, ни у кого нет сейчас сомнения, что книгу «Предчувствие Шамбалы» написал ты единолично.
– Представляю, как норвежцы засуетятся… Они почему-то решили, что я торгую секретами.
– Ну и замечательно. У нас нет твердой уверенности, кто именно за всем этим стоит. Только подозрения. Но круг очень широк. Ты даже представить себе не можешь, сколько осталось на свободе немецких агентов. Гестапо, Абвер, СД… Кстати, надеюсь, норвежцам ты сопроводительное письмо к книге на машинке напечатал?
– За кого ты меня принимаешь? Естественно… без подписи и на немецком языке. Воспользовался печатной машинкой и бумагой в издательстве «Fackel» города Фельклингена.
– Все правильно. Они потом поймут, что твоя статья была согласована с французской разведкой. Не хватало еще дипломатического скандала. Мол, Франция ведет непонятную игру с норвежскими спецслужбами.
– Может, проще их предупредить?
– Это не наше дело. Даже я многого не знаю. Так что, давай, пиши статью…
– Когда надо?
– Вчера.
– А что же ты сегодня об этом говоришь? – зашипел я от возмущения.
– Ты не представляешь сколько мне потребовалось усилий, чтобы все завертелось… Да, еще, тебя будут прикрывать. Так что, особо не пугайся.
– То есть ловля на живца? А еще другом называешься…
– Я уже тебе говорил, можешь отказаться, – засмеялся полицейский чиновник и после небольшой паузы добавил. – Вот если тебе сейчас запретить то, что я тебе предлагаю, наверняка обиделся бы на меня… Что молчишь? Разве не так?
– Ладно, ладно. Все понял. Завтра читайте в «Le Parisien libere» сенсацию о загадочной Шамбале.
– Ты только там не переусердствуй. Знаю я тебя…
– Все будет в лучшем виде. К тому же, мы должны поддерживать интерес к нашей газете. Как говорится, все ради тиража. Постой, у меня возникла одна интересная мысль, как подогреть интерес к завтрашней статье.
– Ну-ну, рассказывай!
– У тебя еще остались светящиеся камни, те, что ты прихватил из подземного бункера на сувениры?
– Да. Так и валяются в ящике на чердаке.
– Сфотографируй несколько штук. Я опубликую снимок в газете. Мол, фотография прилагалась к присланным документам.
– А что? Интересно придумано. Только у меня их потом заберут… Да и черт с ними. Кстати, ты знаешь, какое придумали название операции по разоблачению внутренних врагов Франции? Ни за что не догадаешься, – Серж сделал многозначительную паузу, а потом тихо произнес: – «Предчувствие Шамбалы».
– А ты еще говоришь, что я могу отказаться. И кто я буду после этого. У тебя все? А то мне пора в издательство. Надо «обрадовать» главного редактора.
Расставшись с Сержем, я, не теряя времени, помчался в свое издательство.
Новое назначение
1940 год, Берлин, Лейпцигерштрассе, дом 7
Лейтенант Манфред Матеус знал, что Имперское министерство авиации находилось по адресу: Берлин, Лейпцигерштрассе, 7. Проверив на входе документы, дежурный офицер направил его в административный отдел для постановки на учет, как того и требовало предписание. После того, как все формальности были соблюдены, молодого летчика перенаправили на четвертый этаж в кабинет под номером 417. Зайдя в приемную, Манфред не застал секретаря и в ожидании уселся на один из стульев. Еще на входе он прочитал на табличке должность обладателя этого кабинета. Им был заместитель начальника разведывательного управления полковник Конрад Шнайдер. Не прошло и трех минут, как из кабинета начальника вышел молодой офицер в звании старшего лейтенанта. Манфред встал со стула и вручил офицеру заверенное в административном отделе предписание. Быстро пробежав глазами документ, старший лейтенант скрылся за дверями хозяина кабинета, коротко бросив на ходу: «Вас пригласят. Ожидайте».
Прошло минут десять, прежде чем показался секретарь полковника и, оставив за собой открытую дверь, так же кратко сообщил: «Заходите».
Заместителем начальника разведывательного управления был человек, на вид слишком молодой для такого звания и должности. Если бы Манфред повстречал его на улице в цивильном костюме и шляпе, то принял бы за обычного университетского преподавателя или адвоката. В понимании лейтенанта – типичный интеллигент. Единственное, что выдавало необычную профессию Шнайдера, это его проницательный взгляд. Некоторое время полковник бесцеремонно разглядывал Манфреда, а после, отложив открытую папку в сторону, слегка покашливая, произнес: «Я думал, вы постарше будете». Манфред слегка растерялся от таких слов, не зная, как на них реагировать, и продолжал стоять по стойке смирно.
– Расслабьтесь, молодой человек, здесь не казарма. Присаживайтесь, – предложил хозяин кабинета.
И после того, как Манфред уселся на крайний стул, полковник продолжил:
– Я сейчас изучал ваше досье. Из него следует, что до поступления в летное училище вы учились в Берлинском университете изобразительных искусств. Почему вы захотели летать? По-моему, это не очень совместимые профессии. Летчик-истребитель и художник.
– Идет война. Я не мог оставаться в стороне, – отчеканил лейтенант.
– Все это похвально, но давайте без пафоса, – как-то скривился полковник Шнайдер. – Вы, надеюсь, понимаете куда попали?..
Не успел Манфред ответить, как «интеллигент» продолжил:
– Это разведывательное управление. Здесь не принято произносить речи. Здесь принято кратко и четко отвечать на поставленные вопросы. И не смотрите так на меня. Через наше управление проходит много информации, и если мы будет в этот нескончаемый поток донесений вносить партийные лозунги, то дела на фронте пойдут гораздо хуже. Так что давайте оставим торжественные речи нашим публичным руководителям… Иначе мы с Вами не сработаемся. Вы меня хорошо поняли?
– Решил сделать карьеру военного летчика. А к живописи всегда можно вернуться, – уловив нужную волну, ответил Манфред.
– Вот это другое дело, – улыбнулся уголками губ хозяин кабинета. – Но вынужден вас обрадовать… Как забавно звучит – «вынужден обрадовать». Не находите?
– Звучит многозначительно. Можно думать одновременно о плохом и хорошем.
– А вы мне все больше нравитесь. Так вот. Вы хоть и будете служить в разведывательном управлении под моим началом, но в тоже время у вас будет специфическая должность. Вы возглавите отдел по перемещению художественных ценностей. Понимаете, куда я клоню?
– Не совсем, – слегка растерявшись, ответил лейтенант, и тут же добавил. – Если я вас правильно понял, речь идет о произведениях искусства. Только непонятно, куда их перемещать и откуда?
– Да. Вы меня правильно поняли. Это будут мировые шедевры. А перемещать надо будет в безопасное место. Туда, где они не пострадают. Как вы верно сказали, идет война, и наша миссия – спасти бесценные картины от варварского уничтожения. Потомки нас не простят. Вам надлежит в кратчайшее время подготовить все необходимые документы для организации вашего отдела. Определить численность сотрудников, найти подходящее здание для вашего отдела, сухие охраняемые складские помещения… много что придется сделать. На первых порах вам найдут стол со стулом и телефоном, но в дальнейшем все сами… У вас будут широкие полномочия, и не только в юрисдикции Имперского министерства авиации. Сам рейхсмаршал распорядился создать этот отдел и навести порядок… Да, еще. Мы неслучайно выбрали среди других претендентов именно вас. Нам нужны специалисты в этой области. Так что можете восстановиться в университет и продолжать учебу… скажем, по облегченной программе. Это возможно в вашем университете?
– Даже затрудняюсь ответить… Наверное.
– При необходимости мы все уладим. Учеба поможет в вашей работе. Необходимо наладить связи в университетских кругах, чтобы систематизировать картины и завести каталоги. Заведите полезные знакомства среди экспертов. Лишнего не рассказывайте. Должность свою не афишируйте. Говорите, что просто выполняете отдельные поручения командования. Форму носить необязательно. Сами решайте по обстановке. Но помните, вы с этого момента начальник отдела и на вас лежит вся ответственность… Кстати, возвращаясь к началу разговора, это как минимум капитанская должность, так что и у нас можно делать карьеру. Вам предстоит интересная работа… Я понимаю, что объем работы огромный, но времени на раскачку нет. Картины уже поступают, и в данный момент мы их не спасаем, а портим своим неумением хранить. Среди всего массива, идущего из Европы, много мусора. Там наши люди хватают все подряд из музеев с выбитыми стеклами и поврежденных брошенных домов с частными коллекциями. Вместо бесценных неказистых рисунков могут погрузить в ящики черт знает что… цветные репродукции. Там практически нет экспертов, чтобы подсказать, да и времени нет заниматься такой сложной работой. Здесь, на месте, определяйте ценность предмета. Обязательно указывайте в специальном формуляре, кто конкретно делал экспертную оценку. Если что, сразу обращайтесь ко мне. По мелочам мой секретарь Курт вам поможет. Вопросы есть?
– Пока нет. Разрешите идти?
– Идите. Мы в вас верим, – сказав это, полковник Конрад Шнайдер поднял руку в партийном приветствии.
Почтовая марка
1989 год, Париж
Как и обещал своему другу, репортаж о немецкой экспедиции я подготовил в тот же день. Жизнь все-таки сложная штука. Рассчитывал написать цикл правдивых статей про нацистские экспедиции в Гималаях, а в итоге пришлось состряпать незатейливую липу. Хотя, в принципе, ничего особенного и выдумывать не пришлось, просто на описанные Винсентом Хартманном декорации, находящиеся в Гималаях у двуглавой горы, я наложил новую историю. Так я поступил для правдоподобности. Преступники, безусловно, ознакомились с теми тремя дневниками, которые похитили люди Нейрата, и наверняка сравнивали записи нацистского археолога с моей статьей. Для убедительности я чуть по-другому отобразил внутренние убранства пещер. Но самое главное не это. В своей статье я указал путь до запечатанной двери, находящейся внутри подземелий. Немного дав волю воображению, я и самой двери коснулся рукой выдуманного немецкого археолога по фамилии «Х». Вообще, конкретики вперемешку с туманом нагнал по полной схеме, не забыв опубликовать и фотографии. Всего в статье было два снимка. На одной фотографии – светящиеся камни Сержа, а на другой – потертая толстая тетрадь, из которой торчит уголок карты. Правда, с этой тетрадью пришлось изрядно повозиться. Прототипом послужили мои университетские конспекты. Но их пришлось значительно состарить, чтобы у читателя газеты создавалось впечатление затасканной рабочей тетради. Когда я утром принес шефу газетную верстку, он даже не поверил, что тетрадь с картой – это банальная бутафория.
– Я уж ненароком подумал, что ты утаил от всех нас один из дневников, – сказал месье Бернар, отложив газету в сторону. – Все-таки ты молодец. Представляешь, хоть я и в курсе всей истории с археологом Хартманном, и то с огромным интересом прочитал твою статью, даже прекрасно понимая, что это выдумка… И, главное, как ты аккуратно написал про пещеры в Гималаях! Они вроде похожи на те, из дневников, а вроде и нет. Молодец! Думаешь, они поведутся?
– Должны. Когда прочитают про запечатанную дверь, вряд ли будут спать спокойно. Тут у кого угодно крыша поедет.
– Вот это меня и пугает. Вдруг перемудрил? Все ищут эту Шамбалу, а тут, оказывается, вот она… как-то все уж очень подозрительно просто.
– Я про дверь написал неопределенно. Вроде дверь, а вроде и нет. А что за ней… Может, вовсе и не Шамбала. Тут уж у кого какая фантазия. Может, в этих пещерах раньше люди жили, вот и сохранилось что-то наподобие дверей.
– Да согласен я с тобой. Правильно, что во всей статье не прозвучало слово Шамбала. Мол, обычная экспедиция на Тибет. Весь расчет сводится к тому, что им обязательно захочется глянуть на тетрадь некоего неизвестного археолога. Что там еще начертано? Да и повстречаться с ним наверняка захотели бы. Может, надо было в статье, как-то ненароком, его возраста коснуться. Если, к примеру, в сорок первом году ему было лет двадцать пять, то сейчас где-то семьдесят три… Вполне адекватный возраст, не в старческом маразме. Ну да ладно, и так все нормально, – подытожил разговор главный редактор.
Прошла уже неделя после моего разговора с Сержем в кафе на улице Де Дегре. От друга вестей не было. Все это время я старался вести обычный образ жизни, прекрасно понимая, что процесс запущен, и начать в этой ситуации суетится – значит провалить все дело. Обещанного полицейским чиновником наблюдения за собой я не чувствовал, но нисколько не сомневался, что за мной присматривают. Главное управление внешней безопасности Франции или, проще сказать, DGSE, входит в топ-пятерку разведок мира, и поэтому сомневаться в ее компетенции не приходилось. Но это если рассуждать как-то абстрактно, не касаясь собственной жизни. Мол, крутая разведка – муха не пролетит. Все так говорят… Но есть и грандиозные провалы этой организации. Предшественником DGSE была Французская разведывательная служба SDECE, которая в 1949 году разработала разведывательную программу MINOS. Свое название она получила от всей разведывательной группы – Информационного подразделения подготовки проведения операций. Согласно этой программе, во многие страны Восточной Европы начали массово засылать агентов. У британской разведслужбы МИ-6 были страшные и громкие провалы, у американского ЦРУ тоже, но никогда ни у кого не было столько неудач, как у MINOS. Причем, провалы начались буквально сразу же, что называется, с первых дней службы. Едва агенты MINOS высадились на территории Литовской ССР, как сразу же были раскрыты, подобная ситуация случалась в Румынии и Чехословакии. Доходило до смешного – разведчиков брали сразу после приземления на место. Польша поступила иначе – как только агенты приземлились на их территории, поляки посадили их на самолет и демонстративно, с пафосом отправили обратно во Францию. Провалы продолжались год за годом, месяц за месяцем. Все прекрасно понимали, что агентов кто-то «сливает», и, сколько бы ни проводилось расследований, никто не мог найти этого «крота». В конечном итоге, после ряда громких международных скандалов и бесполезных затрат времени, денег и усилий, программа MINOS была закрыта – случилось это в пятьдесят четвертом году. А причина таких неудач выяснилась буквально не так давно. В восемьдесят четвертом году из Румынии во Францию сбежали три человека – все они были румынскими кадровыми разведчиками. Их побег – эта целая детективная история с неожиданными поворотами. Придет время, об этой истории и фильм снимут. Так вот, перебежчики сообщили, что всех агентов MINOS сдавал Франсуа Бисто. А кем же был Франсуа Бисто? Это был начальник контрразведки того самого MINOS, а в прошлом знаменитый герой французского сопротивления по прозвищу «Полковник Франс»… Ну и, конечно, на самом деле он был еще и советским разведчиком. Вот так, фактически один агент всего лишь за пять лет полностью ликвидировал целую разведывательную программу.
Но и это еще не все. Когда в пятьдесят четвертом программу закрыли, Франсуа Бисто без дела не остался. Он успешно перевелся в службу Управления инфраструктурой и материальными средствами французской разведки. На этой службе советский агент имел доступ к секретным архивам. В общем, и на новом поприще изрядно напакостил. Бисто умер в восемьдесят первом году, поэтому разоблачения и обвинений сумел избежать.
Так что полностью надеяться на спецслужбы – это все равно что себя самого не уважать. Я не знал, каким образом они хотят выйти на преступников, засевших в министерстве внутренних дел. Скорее всего, была установлена прослушка служебных и домашних телефонов подозреваемых. Во всяком случае, это самое действенное. Но сколько этих подозреваемых? Может, половина министерских чиновников. Интересно, сунутся ли они ко мне в студию, как в прошлый раз, или сначала решат обыскать издательство? Незваных гостей я не особо остерегался даже ночью. И этому была причина. Дело в том, что этажом ниже сдавалась в аренду такая же жилплощадь. Я снял ее, заплатив вперед за три месяца, и в основном находился в ней, лишь только изредка посещая свою студию. С начала Серж планировал подселить в нее агента спецслужб, но потом под давлением руководства отказался от этой идеи. Мол, незачем лишняя суета, и так все под наблюдением. Ну, ну… Поживем, увидим.
Время шло, но злодеи так себя и не проявляли. Во всяком случае, до меня никаких сведений не доходило. Я уже намеревался сам позвонить Сержу и договориться о встрече, на которой хотел предложить написать продолжение статьи, но, придя утром в издательство, застал на улице полицейские машины. Оказывается, ночью, предварительно отключив систему сигнализации, в административный корпус проникли неизвестные. Был обыскан кабинет главного редактора со взломом сейфа и столы почти всех сотрудников. Разгром был полнейший. В бухгалтерии также был взломан сейф, из которого была похищена вся наличность. Кроме этого, пропали ценные личные вещи сотрудников. Полицейский инспектор, руководивший следственной группой, сразу выдвинул версию про грабителей, ссылаясь на показания главного бухгалтера, заявившего следствию, что в сейфе была достаточно крупная сумма денег на хозяйственные нужды. По правде признаться, это была на самом деле «черная» касса. И в этом нет ничего удивительного. Без всякого сомнения, такая неучтенная наличность имеется в любом подобном учреждении. А как вы хотите? Нашим информаторам надо платить наличкой. Граждане с пониженной социальной ответственностью чеки категорически не принимают. Они их на дух не переносят, от них налогами пахнет и проблемами. Им плати «чистым золотом», луидорами, иначе унесут свою информацию нашим конкурентам. Не очень дорогие девушки – отличный источник информации о нравах, царящих в нижних слоях общества. Древнейшая профессия позволяет быть в курсе всех значимых событий в преступном мире. Их услугами пользуются не только бандиты, но и чиновники, которые также чеками не расплачиваются. Только звук звонкой монеты радует слух. Вернее сказать, шуршание франков. Нетрудно представить, что будет с бедолагой, у которого подельники найдут в кармане чек редакции газеты… тут же отправят купаться в Сене с камнем на шее.
Доходило до абсурда, когда какой-нибудь «скользкий» обыватель, обладающий ценными сведениями о нашумевшем деле, заламывал до неприличия высокое вознаграждение, и приходилось нам всем скидываться в расчете на то, что газета в ближайшее время возместит понесенный ущерб. Такой колхоз можно раз провернуть, ну два… А потом все плюнут на эту дырявую кассу взаимопомощи. Вот и приходится постоянно держать кэш в сейфе.
Конечно, может, инспектор полиции и правильно выдвинул версию. Но уж очень явно она лежала на поверхности, и, к тому же, он не был посвящен в игры спецслужб. У меня не было никакого сомнения, что искали записи несуществующего немецкого археолога, а деньги взяли для отвода глаз, чтобы полицейским сразу был понятен мотив. Вероятно, кураторы бандитов, трезво подумав, решили, что я вряд ли буду хранить эти документы у себя дома… «Ведь не полный же кретин этот Андрэ Горнье, – предположительно рассуждали они. – Уже один раз украли у него дневники, наверняка сделал работу над ошибками и держит бумаги на работе под надежным замком. Там сигнализация, охрана, сейф…»
Проведя все следственные мероприятия, полиция удалилась, разрешив нам наводить порядок. Сержу я не стал звонить, резонно полагая, что он и так в курсе ночного происшествия, и не только из полицейских сводок. Вероятно, именно в этот момент происходят кульминационные действия по разоблачению негодяев. И, как потом показали дальнейшие события, я был не так уж далек от истины. Дело в том, что преступники засветились еще до ограбления нашего издательства. Контрразведчики не стали им препятствовать, намереваясь собрать больше информации, а самое главное, подождать, когда они будут выходить на связь с кураторами, чтобы доложить о полном фиаско. Без всякого сомнения, отсутствие результата должно было очень расстроить начальство грабителей и заставить их спешно соображать о дальнейших действиях заезжих гастролеров. И это была их роковая ошибка. Они решили, что у полиции только одна версия – ограбление в целях наживы, что и было отражено в полицейских протоколах, и поэтому дали приказ обыскать мою студию. Вот тут-то и накрыли всю банду. Причем так аккуратно, что и соседи по дому ничего не услышали. Ну, а дальше дело техники. Не буду вдаваться в подробности, но главарь грабителей долго не отпирался и сообщил контрразведчикам все, что знает, взамен на снисхождение. Все-таки огромная разница, когда тебя допрашивает обычный полицейский или сотрудник внешней разведки целого государства. Канал связи главаря с куратором был хитроумный, но в спешке секретарь заместителя министра сделал маленький просчет, слегка нарушив установленные правила конспирации, и лично встретился с главарем грабителей, максимально загримировав свою внешность. Естественно, этот маскарад не сработал. Дальше произошло еще интереснее. После того, как секретарь передал информацию по моей студии и направлялся обратно в министерство (а приехал он на встречу в целях конспирации на метро), сотруднику разведки удалось незаметно прикрепить к его пиджаку малюсенький «жучок». Услышанного хватило, чтобы его и его шефа полностью изобличить. Доказательств было выше крыши, и взамен на сокращение тюремного срока заместитель министра также стал сотрудничать со следствием. Фамилии его не называю, так как еще идет следствие, но обвинение уже выдвинуто. Так что скоро об этом мы напишем в своей газете, и, безусловно, будем первым печатным изданием, опубликовавшим такую сногсшибательною новость.
Месье Бернар, уже поручил мне, как виновнику торжества, готовить статью о задержании «целого» заместителя министра внутренних дел. Единственным недостатком этого репортажа будут мои репутационные издержки, придется написать опровержение о существования загадочного немецкого археолога по фамилии «Х». Мол, все это было придумано в интересах следствия.
Прошло три месяц. За это время я несколько раз встречался с Сержем, который кулуарно рассказывал о продвигающемся следствии. Я с нетерпением ждал, когда будет дана отмашка на разоблачение министерского оборотня. И этот день наступил. В своем репортаже, естественно, на первой полосе, я подробно рассказал об этом персонаже. Он оказался очень занимательной персоной. Оказывается, шестидесятичетырехлетний Жильберт Тигуа был завербован немецкой внешней разведкой еще в сорок третьем году. Тогда он был еще несмышленым восемнадцатилетним юношей, решившим освободить любимую страну от немецкого гнета. Он вместе со своими друзьями стал расклеивать по ночам листовки, рассказывающие о реальных делах на фронте. Никто за ними не стоял, и эта группа юнцов действовала на свой страх и риск, практически не соблюдая осторожность. Свои так называемые воззвания Жильберт готовил на домашней печатной машинке, принадлежащей его матери, в прошлом служащей адвокатской конторы. Захватив Париж, нацисты разогнали почти все эти конторы, и поэтому мать перебивалась случайными заработками. От отца, отправившегося на фронт в начале сорокового года, до сих пор не было никаких вестей. Скорее всего он погиб, но родные надеялись на чудо и не переставали верить, что он жив.
При очередной агитационной расклейке листовок Жильберта и двух его товарищей задержало «французское гестапо». Сейчас я немного поясню об этой организации. Сотрудничество с нацизмом имело во Франции множество уродливых обличий, но самым гнусным было то, что проходило по линии работы на германские спецслужбы, в первую очередь, конечно, на гестапо и СД. Хотя бы потому, что это несло смерть десяткам тысяч честных патриотов. А началось это сотрудничество практически сразу же после разгрома Франции и установления германского оккупационного режима. Достаточно быстро выяснилось, что, несмотря на податливость и продажность, Франция таила немало опасностей для немцев, в том числе из-за Сопротивления. В стране действовали агенты британской разведки и коммунистические подпольщики, причем последние после развязывания Германией войны с СССР стали прямо средь бела дня нападать на немецких офицеров и совершать кровавые вылазки. Пышными красками расцвел саботаж. Немцы быстро осознали невозможность полноценной работы во враждебной среде. По привычке нацисты постарались переложить это бремя на самих местных. Так в 1941 году под эгидой гейдриховского РСХА была сформирована неформальная группа, ставшая, по сути, полноценным отделом германской тайной полиции. Правда, было одно «но»: все ее руководство сплошь состояло из профессиональных преступников, мафиози и уволенных полицейских.
Самое интересное, что, когда немцы начали вербовку в это подразделение, они дали объявление о том, что им требуется две тысячи человек, но всего через неделю набралось более шести тысяч желающих. Созданная группа не имела своего названия. Сами себя они называли «карлингами» … это слово означает кабину воздушного судна. Таким образом они считали себя «рулевыми». Офис французского гестапо расположился на улице Лористон в Париже и вскоре стал внушать местным ужас. Там практиковались самые зверские пытки, в том числе пресловутые вырывание ногтей и зубов, ледяные ванны и даже электрический стул. С одобрения немецких хозяев они совершали тайные ликвидации неугодных «по-гангстерскому», прямо на улице, чтобы не арестовывать и не разводить бюрократию.
Я специально подробно описал этих нелюдей, чтобы у читателя газеты сложилось представление о том, в какое место попал Жильберт со своими товарищами. Правда, Жильберту повезло, в отличие от двух его подельников, которых в результате пыток сделали инвалидами, отправив потом в концентрационный лагерь, где их жизненный путь оборвался. Случилось так, что дело Жильберта Тигуа попало к Пьеру Бонни. Этот Бонни был одним из самых известных полицейских довоенной Франции. Он сочетал в себе прямо противоположное: с одной стороны, прославился высочайшим профессионализмом, с другой – коррупцией, махинациями и превышением должностных полномочий. В 1935 году был уволен из «органов», но в 1942 году неожиданно всплыл среди коллаборантов. Так вот, этот французский гестаповец сразу обратил внимание на то, что Жильберт из интеллигентной семьи и, похоже, готов к вербовке, и поэтому решил передать его в руки СД, чтобы лишний раз выслужиться. Служба безопасности сразу увидела в этом перспективу и сработала четко. Успешно завербовав Жильберта, она вернула его обратно к садистам, которые театрально над ним поиздевались, создав из него образ мученика, а потом отправили в центр для перемещенных. Там Тигуа познакомился с людьми из Сопротивления, и те помогли бежать «несломленному» пытками соотечественнику. На свободе Жильберту поменяли документы, и он успешно влился в ряды Сопротивления. Что самое интересное, об этом не переставал говорить на допросах сам заместитель министра внутренних дел: он не выдал ни одного своего товарища. И это было похоже на правду. Следственная группа пришла к мнению, что СД готовило этого агента «вдолгую» и поэтому всячески оберегала его репутацию. Единственный, кто мог связать Жильберта с СД, был Пьер Бонни, но после освобождения Парижа его расстреляли в сорок четвертом году по решению суда за военные преступления.
Как позже мне сообщил Серж, английские контрразведчики однажды поделились с коллегами полученными сведениями о том, что на территории Франции скрывается действующий секретный агент нацистов по прозвищу Почтовая Марка. Все думали, что это женщина, но в действительности им оказался наш заместитель министра. С его слов, такое прозвище он получил за то, что в детстве увлекался коллекционированием открыток с марками.
В итоге предателя приговорили к пожизненному заключению, не взяв в расчет его сотрудничество со следствием. Грабители отделались гораздо меньшими наказаниями, каждый получил срок в зависимости от тяжести совершенных преступлений. Избежал наказания только главарь. Но это временно. По просьбе немецкой прокуратуры его экстрадировали в Германию, где его ждет суровое наказание за военные преступления в составе айнзацгруппы СД на территории Восточной Европы. Задача карателям была определена как «умиротворение тыла», но за этой, на первый взгляд, безобидной формулировкой скрывались массовые расстрелы мирных жителей.
Центр подготовки летного состава
1940 год, пригород Берлина
Манфреду Матеусу было нелегко. Начальство установило жесткие сроки, не оставив новоиспеченному начальнику отдела времени на сомнения и колебания. Первым делом он подобрал себе заместителя из числа уже задействованных в этой сфере сотрудников и после долгих поисков наконец-то выбрал местонахождение своего отдела. Предпочтение пало на небольшой ангар в аэропорту «Йоханнисталь». Этот аэропорт, располагавшийся в Берлине между Йоханнисталем и Адлерсхофом, неслучайно привлек внимание Манфреда, так как художественные ценности, как правило, поступали в Германию на транспортных самолетах. Ранее в этом неотапливаемом ангаре, находящемся в самом отдаленном углу аэродрома, хранились списанные самолеты еще времен Первой мировой войны вперемешку с разным хламом. Место как нельзя лучше подходило для сортировки конфискованных предметов, которые поступали туда перед тем, как их сфотографируют и присвоят им артикул для картотеки. То, что так обтекаемо и красиво задекларировал его непосредственный начальник, полковник Конрад Шнайдер, при знакомстве в его кабинете на Лейпцигерштрассе семь, не ввело в заблуждение Манфреда… Мол, художественные ценности будем спасать от варварского разграбления и уничтожения. Лейтенант прекрасно все понял – банальный государственный грабеж, со всеми вытекающими последствиями. Сначала молодого человека это шокировало, но потом он свыкся с этой мыслью, решив про себя, что все армии мира занимались и будут заниматься мародерством. Таков удел победителя, которого, как говорится, не судят.
Первым делом он приказал отремонтировать ангар и смонтировать автономную систему отопления с возможностью регулирования влажности воздуха. Различный хлам выкинули, а вот старые самолеты выкатили на улицу, покрасили и установили на специальные площадки недалеко от ангара, у центрального входа которого установили табличку «Центр подготовки летного состава люфтваффе».
– Эти самолеты послужат нам декорациями, – пояснил свой приказ лейтенант.
Все делалось для того, чтобы создать видимость обычного строения гражданского аэродрома, но с учетом военного времени. По распоряжению полковника Шнайдера была установлена охранная сигнализация, изготовленная по последнему слову техники. Лейтенант пробовал возразить:
– Зачем? Аэродром и так надежно огорожен. Кроме того, находится под круглосуточным контролем военизированной охраны.
– Любая картина, которая будет храниться в этом помещении, пусть даже самая заурядная, дороже самого современного истребителя. Полотна известных художников становятся ценнее с каждым днем и им неподвластна инфляция. Это очень выгодное вложение денег. И, пока существуют богатые люди, они всегда будут востребованы, – ответил полковник на сомнения Матеуса в целесообразности такой безопасности.
Восстановившись в университете, лейтенант Матеус сразу навел связи с нужными людьми. В университетских кругах было много грамотных специалистов, способных быстро и точно дать первичную оценку той или иной реликвии. Лейтенант быстро составил список таких ученых. В списке на четырех листах за каждой фамилией стояло пояснение, в какой области художественных ценностей разбирается этот человек. Гораздо труднее было найти настоящих экспертов, способных подтвердить подлинность произведения искусства. И если первый список состоял сплошь из соотечественников, то во втором были ученые из всей Европы, естественно, из стран, подконтрольных Третьему рейху.
Неизвестно, или руководство оценило рвение молодого начальника вновь созданного отдела, или звание не соответствовало должности, но, тем не менее, Манфреду Матеусу вскоре присвоили звание старшего лейтенанта люфтваффе. Расписываясь в приказе, молодой человек впервые подумал о том, что правильно сделал свой выбор. Единственным, чего пока не хватало на новой работе, были те самые мировые шедевры, ради «спасения» которых все и затевалось. Ему с нетерпением хотелось взглянуть на картины величайших художников, так сказать, прикоснуться рукой к бессмертному творению, почувствовать трепет восхищения перед талантом великого мастера.
Когда Матеус приступил к своим обязанностям, он, конечно, посетил все места временного хранения прибывших из-за границы ценностей. Картин среди них было мало. В основном это были различные предметы старины: иконы, бронзовые статуэтки, украшения, исторические книги, всевозможные коллекции… В общем, всё то, что не привлекло особого внимания старшего лейтенанта люфтваффе. Из картин самым достойным было произведение Камиля Писсаро «Бульвар Монмартр. Сумерки».
«Набережная Клиши»
1989 год, Париж, Браззавиль
А сейчас я перейду непосредственно к рассказу самой истории. Как все началось. Вернее, как случайно оброненная фраза привела к такому грандиозному расследованию. И это не преувеличение. После того как разоблачили заместителя министра внутренних дел, наступило некоторое затишье, но все изменилось 19 сентября. Вот что сообщили мировые информационные агентства:
«Во вторник, 19 сентября 1989 года, самолет McDonnell Douglas DC-10, следующий международным пассажирским рейсом 772 UTA французской авиакомпании Union de Transports Aeriens из Браззавиля в Народной Республике Конго через Нджамену в Чаде в аэропорт Шарль де Голь в Париже, упал в пустыню Тенере недалеко от Бильмы».
Естественно, такое событие всколыхнуло всю Францию. Не медля ни мгновения, я по заданию редакции газеты вылетел в Браззавиль. Выбор на столицу Конго пал не случайно. Самолет вылетел оттуда, а это значит, что именно там и надо искать концы. В 1886 – 1947 годах территория современной республики Конго была колонией Франции под названием Французское Конго в составе Французской Экваториальной Африки.
Заселившись в гостиницу, я связался с филиалом нашей газеты, чтобы попросить помощи с автомобилем и сопровождением. Конечно, назвать филиалом небольшой офис – это слишком громко. В задачи этого подразделения в Браззавиле входила доставка свежих газет местным подписчикам. Эти газеты переправляли самолетом, затем их рассылали по адресам. Один из сотрудников по имени Дюбуа Фицжеральд согласился быть моим водителем на маленьком служебном Рено. Пока мы с Дюбуа намечали маршрут к месту крушения самолета, начали поступать первые подробности авиакатастрофы:
«Самолет вылетел из международного аэропорта Нджамены в 13:13. Сорок шесть минут спустя на крейсерской высоте 35 100 футов в грузовом отсеке, скорее всего, взорвалась бомба, вероятно, находящаяся в одном из чемоданов, в результате чего рейс 772 UTA разбился над Сахарой в 450 километрах к востоку от Агадеса. Взрыв разбросал обломки на сотни квадратных миль пустыни. Все сто семьдесят человек погибли. Жертвами были выходцы из восемнадцати стран, большинство которых французы – сорок пассажиров и четырнадцать членов экипажа».
Получив это сообщение, мы поняли, что нам не добраться до места падения самолета. Тогда Дюбуа предложил посетить одного своего знакомого, проживающего в районе Пото-Пото. Мол, к нему стекается информация о всех местных сплетнях и слухах.
– К тому же, он «вроде» местного ясновидящего, – добавил Дюбуа. – Вот и наведываются все к нему со своими проблемами. Я ему газеты иногда доставляю.
Но, не доехав буквально сотню метров до места назначения, мы вынуждены были остановиться. Дорогу неожиданно перегородила машина скорой помощи. Улочка была очень узкая, и двум машинам сложно было разъехаться. Ждать пришлось недолго. Из небольшого дома вышла врач и, узнав, что я только что прилетел из Франции, разговорилась со мной. Оказывается, она долгое время жила в Париже и очень обрадовалась соотечественнику, тем более репортеру из такой уважаемой газеты. Дело в том, что по прибытии в Конго я специально повесил на грудь бейджик, чтобы лишний раз не возникали проблемы с различными столичными ведомствами. Я давно заметил, что в африканских странах этот кусочек пластика вроде охранной грамоты и действует на оппонента обезоруживающе, тем более что уровень преступности здесь до неприличия высок. Нельзя сказать, что я слишком пуглив, но, выполняя редакционное задание в проблемных странах, журналист просто обязан принимать меры предосторожности. И еще оставалось надеяться, что любой местный преступник прекрасно знает о том, что полиция приглядывает за иностранцами с журналисткой аккредитацией.
– Закончив Парижский медицинский университет, я уже десять лет здесь работаю врачом, – пояснила женщина, назвавшаяся Дарси. – До сих пор тоскую по Парижу. Как он там?
– Скучает по вам, – улыбаясь, ответил я женщине. – Он так же привлекателен и загадочен.
– Представляете, в этом доме я увидела картину «Набережная Клиши», – произнесла Дарси с большими от восторга глазами. – Я раньше жила в Париже на улице Лепик, что находится недалеко от площади Жан-Батиста-Клемана. В десяти минутах ходьбы до бульвара Клиши. А там и набережная… Такая ностальгия нахлынула, прямо до слез. Еле сдержалась…
Поболтав еще немного с женщиной, мы встретились с местным вуду.
– В религии «вуду» мужчину, проводящего церемонии, называют oungan, а женщину – mambo. Нашего еще здесь называют Тьма. Дело в том, что у старика разные глаза. Один светло-карий, а другой смоляной, как космическая черная дыра, поглощающая все живое. Старайтесь не смотреть ему в этот глаз, – пояснил Дюбуа перед тем, как мы зашли внутрь дурно пахнущего дома.
Вуду изъяснялся на ломаном французском, вставляя какие-то непонятные слова, похожие по звучанию на шипение потревоженной змеи. Создавалось впечатление, что разговариваешь со старой одноглазой говорящей змеей, тем более что и внешний вид подчеркивал это сравнение – серые свисающие одежды как сползающая шкура рептилии. Дюбуа поинтересовался у старца насчет упавшего самолета, на что тот, закатив глаза, замер, испуская изо рта шипящие звуки. Потом как-то задергался, словно эпилептик, и тихо заговорил не своим голосом.
– Что он бормочет?
– Мало что могу разобрать… но, похоже, обращается к Геде, – прошептал Дюбуа.
– Геде? Кто это?
– Геде – грозный черный дух, управляющий перекрестком, через который каждый должен когда-нибудь пройти. Переход от жизни к смерти. Его символ – крест на могиле. А их бога зовут Бондье. Они ему поклоняются. Тсс… давай помолчим. Не надо его сердить.
Церемония общения с духом по имени Геде была недолгой. После шептания и дерганья старик сказал, что самолет разбился из-за происков сатаны. Дюбуа пытался задать еще несколько уточняющих вопросов, но вуду лишь устало отмахнулся от него старческой рукой, показывая всем своим видом, что очень устал. При выходе из дома Дюбуа опустил деньги в стоящий возле двери большой кувшин.
– И ты во все это веришь? – поинтересовался я у своего помощника, едва глотнув свежего воздуха, при выходе из дома колдуна.
– Я здесь давно живу. Сначала было интересно прикоснуться к неизвестному, словно ребенку – к новой таинственной игрушке. Считал это местной экзотикой. Но потом несколько случаев перевернули мое сознание. Я не то чтобы уверовал в их способности… скорее всего, осознал, что вуду могут сотворить ужасные вещи. Поверь, не стоит их недооценивать, тем более, провоцировать и преследовать. Помните, что случилось в маленьком городке Френиере возле Лос-Анджелеса в начале двадцатого века?
Я отрицательно покачал головой.
– В этом поселении проживала целительница Джулия Браун, практиковавшая что-то вроде вуду. Она совершала ритуалы для жителей и была известна своим магическим даром. К сожалению, люди начали приставать к ней, требуя ее помощи. Она пыталась их образумить, но это не подействовало. Тогда она начала проклинать тех, кого считала неблагодарными и злыми. В последние несколько недель перед своей смертью, а это было в 1915 году, она все пела и пела про себя проклятие городку Френиер: «Однажды я умру и заберу всех вас собой». Ее кончина произошла, как она и предсказывала, и все жители из страха пришло на ее похороны. Когда они начали заколачивать гроб Джулии Браун, разрушительной силы ураган пронесся по поселению, убив всех, кроме двух человек. Как и обещала жрица, городок умер вместе с ней… И это еще не все. Многие застройщики пытались перестроить этот район, но люди так и не смогли там жить. Необъяснимое чувство тревоги и страха преследовало их по ночам.
Слушая Дюбуа, я вдруг вспомнил юродивого-провидца Санму из дневников Винсента Хартманна. В них немецкий археолог доходчиво описал круги нарака. В мою память хорошо врезались эти строчки из дневника:
«Все мы грешники, и надо очистится в кругах нарака… каждый несет в душе свой ад. Но у каждого и своя дорога через ад. Там есть нарака волдырей. На темной промерзшей долине, окруженной холодными горами, постоянно метет метель и идет снежная буря. Жители этого ада лишены одежды и одиноки. От холода их тело покрывается волдырями. Время пребывания в этом аду займет столько, сколько потребуется, чтобы опустошить бочку зерен кунжута».
Совершенно разные религии, но есть одно, что их объединяет. Страх. Страх неизвестности. Хватает малейшего прикосновения к бездне, чтобы потерять покой на всю жизнь.
– Никогда не думал, что могу так бояться. Умом понимаю, что это обычные шарлатаны, но ничего с собой поделать не могу. Виной всему наше хрупкое сознание… Пойдем скорее отсюда, – немного нервно сказал я своему спутнику.
Возвращаясь в Париж, я лихорадочно соображал, сидя в кресле самолета, о чем будет моя завтрашняя статья. В голове царила полнейшая пустота. Конечно, это не в первый раз такое со мной, и все-таки… О чем же написать?.. О самой катастрофе и без меня все прекрасно знают. Тут как бегущая строка на мониторе… Стоит что-то выяснить по поводу трагедии, как сразу же эта новость вываливается на головы обывателя. И чем ближе ты находишься к международной следственной группе, тем быстрее ты выпалишь новостную сенсацию. Хотя, похоже, основное уже известно. Самолет взорвался в воздухе. Скорее всего, взрывчатка с часовым механизмом находилась в чемодане багажного отделения самолета. Багаж с бомбой был загружен в аэропорту, где отсутствовали необходимые меры безопасности. Только вот в каком?.. Уже называли причины. Месть. Среди подозреваемых была и Ливия, которая могла захотеть наказать Францию за помощь Чаду в период чадско-ливийского конфликта. Но это все предварительно. Копировать все это в свою статью у меня рука не поднималась… Но не писать же про встречу с местным вуду по прозвищу Тьма, указавшим на происки сатаны… Или про тоскующую по Парижу соотечественницу, врача скорой помощи, едва не расплакавшуюся при виде картины, как маленькая девочка. Кстати, что это была за картина? Она пояснила – «Набережная Клиши». Но мне это ни о чем не говорило. Я понятия не имел, кто ее написал и как она вообще выглядит. По-моему, Ван Гог – автор картины «Бульвар Клиши»… Выходит, невежество – это мое второе «я». Но ничего, прилечу в Париж, заполню пробел в области прекрасного. Об этом своем отрицательном качестве я особо не переживал… Если бы невежество было единственным моим недостатком. И без него хватает проблем с моим неуживчивым характером.
Статью я все-таки написал прямо в самолете. Я вошел в какой-то раж, жестко пройдясь по человеческой расхлябанности, по отсутствию элементарных средств безопасности, когда два аэропорта представляли собой проходной двор. Дописывая статью, я продолжал наблюдать за нервозной обстановкой в салоне самолета. Напуганные недавней трагедией, люди робко сидели в своих креслах, боясь пошевелиться, постоянно прислушиваясь к равномерному звуку двигателей реактивного лайнера. Снующие туда-сюда стюардессы пытались своими натянутыми улыбками как-то приободрить пассажиров, но не всегда это получалось.
Придя в издательство, я вручил нашей незабвенной секретарше Люси небольшой презент, приобретенный в сувенирном магазинчике рядом с отелем. Это были красивые бусы с цветными маленькими камешками.
– А вам идет африканский загар, – поблагодарив за подарок, произнесла девушка, кокетливо взглянув на меня из-под длинных ресниц.
– Кстати, подскажите несмышленому олуху, кто написал картину «Набережная Клиши»? А то все вертится на языке, а вспомнить не могу, – схитрил я, обращаясь к Люси.
– Поль Синьяк. Эту картину некоторые называют «Причал Клиши», но правильнее надо говорить – «Набережная Клиши. Хмурая погода».
– Но есть еще «Бульвар Клиши» Ван Гога. Я правильно говорю?
– Все верно. Это два разных места… набережная и бульвар. Произведение Ван Гога интереснее. А почему вас это заинтересовало?
– Да вот, разговорился с одной соотечественницей. Увидев эту набережную, она чуть не разрыдалась от ностальгии по Парижу.
– Здорово! – воскликнула секретарша. – А я и не знала, что картина нашлась. Мне всегда нравилось творчество Синьяка. Замечательно! Я думала, что она навсегда утрачена.
– То есть как нашлась? – я аж поперхнулся. – Она, что, когда-то исчезала?!
– Ну да. Она пропала, когда немцы заняли Францию. Об этом все знают, – ответив на вопрос, девушка посмотрела на меня как-то подозрительно.
– Может, моя знакомая смотрела на репродукцию… или копию?
– Наверняка. Иначе все газеты мира трубили бы об этом. Это же такой праздник, когда бесценные реликвии возвращаются домой. Уму непостижимо, сколько было похищено произведений искусств.
– А я и не знал, что вы, дорогая Люси, специалист в этой теме…
– Вы многое про меня не знаете. Все торопитесь куда-то… не обращаете внимания, кто рядом с вами.
– Простите, – немного замявшись, я поцеловал даме ручку. – Впредь обещаю быть внимательнее.
– Да уж, надеюсь.
Я давно обратил внимание на то, что Люси как-то «неровно дышит» ко мне. Это обидное прозвище Ищейка Длинный Нос, ежедневные шпильки в мой адрес, меняющееся настроение: от игривого смеха до презрительно вздернутого носика… Все это явно указывало на то, что я чем-то заинтересовал девушку. А что? Молодой, подающий надежды журналист. По-моему, неплохая партия. Но дело в том, что в данный период я даже не задумывался об этой перспективе. Нет, я, конечно, оказывал и оказываю знаки внимания Люси, привозя из каждой командировки какой-нибудь сувенир, иногда даже купленный впопыхах в аэропорту, как в случае с забавным канадским Пиноккио. Но и все, если не считать еще обязательных подарков ко дню рождения и таким большим праздникам, как Рождество. Не шефу же сувениры возить… А Люси так всегда искренне радуется. Но только зачем мне серьезные отношения, которые обязательно будут мешать работе, которой я дорожил? Я понимал, что пока к этому не готов.
Мне нравилась моя профессия. Различные расследования, уважение пишущей братии, пускай и с шипением за моей спиной некоторых так называемых коллег по цеху. Но это только от зависти. Их можно понять – сам такой был раньше. Я уже говорил, что в статусе «свободного художника» в нашем издательстве я был один. Главный редактор месье Бернар благоволил ко мне и особо не стеснял меня рамками должностных обязанностей, и этому было банальное объяснение. Меня читали, и главным показателем был тираж газеты. Это как в театре ходят на полюбившегося актера. У меня были свои поклонники. Им нравился мой стиль, мой способ общения с читателями, разумный цинизм, говорящий: «Смотрите! Я такой же, как вы, обычный человек со своими слабостями»; – ненавязчивый юмор, то, что я мог подшутить над какими-то социальными чертами, не забывая при этом пройтись по самому себе и, что самое главное, – мое умение находить сенсации. Это я придумал, как заранее подогреть интерес к своему едва начавшемуся расследованию… Или даже к еще не начавшемуся, так сказать, а к перспективному, еще эфемерно витающему в недалеком будущем. Нужна реклама. Вот и все. Зачем изобретать велосипед, когда уже весь мир на нем ездит? Но как эту рекламу донести до читателя? Это же не телевидение. Взял и тупо выпалил в эфире… Не придумав ничего лучшего, я решил в конце уже опубликованной статьи размещать коротенький анонс… наметки на новое расследование. Таким образом, пытаясь задать интригу, но только в общих чертах, без какой-либо конкретики.
Не мне судить, срабатывало ли мое ноу-хау на сто процентов, но обратная связь с читателями говорила, что я на правильном пути. Моим кумиром был главный герой Джека Николсона в фильме «Китайский квартал». Эксцентричный и обаятельный частный детектив, не обремененный серьезными отношениями с представительницами слабого пола, флиртуя, скользил по жизни, как парусник с полными ветра парусами, определяя лишь только курс направления к успеху.
Спору нет, Люси, конечно, весьма привлекательна. И, честно признаться, пару раз у меня мелькали шальные мысли, но я тут же брал себя в руки. А если у девушки действительно, все очень серьезно, и эта мимолетная связь разобьет ей сердце?.. Зачем портить отношения на работе? К тому же, я обратил внимание, что наш шеф опекает Люси и не дает в обиду. Защищает от навязчивого внимания и раздевающих взглядов молодых самцов на корпоративах, приглашая Люси на танец. У месье Бернара с женой нет детей, и они относятся к Люси как к своей дочери.
Поэтому я не герой романа Люси. Она еще найдет своего принца на частном самолете. А мне проще заводить ни к чему не обязывающие интрижки. Раньше мы тусили вместе с Сержем. То его пассия познакомит меня со своей подругой, то моя. Недорогие девушки меня никогда не вдохновляли, трудно сосредоточиться, когда партнерша в это время соображает, куда потратить часовой гонорар…
Но что-то я отвлекся.
– Что ты об этом думаешь? – поинтересовался шеф, когда я рассказал про встречу с доктором скорой помощи в Браззавиле.
– А черт его знает. Может, Люси что-то напутала с пропажей картины. А, возможно, это действительно была репродукция. А вы видели эту картину?
– Нет. Я и «бульвар» Ван Гога не помню. Наверняка видел, но, думаю, даже и не узнаю. Серые мы с тобой.
– Что есть, то есть, – с наигранной печалью, подтвердил я.
– Ты вот что… Первым делом выясни, на самом ли деле картина Поля Синьяка «Набережная Клиши» находится в розыске. Это первое. А потом… А что потом?
– Потом свяжусь с Браззавилем и попрошу Дюбуа Фицжеральда найти Дарси, – подхватил я эстафету.
– Дарси? А кто это?
– Так зовут врача.
– Понятно. Узнай пока ее адрес с телефоном, а там решим, что делать. И принеси мне изображение этой картины. Очень хочется взглянуть на то, из-за чего копья ломаем. Я думаю, что быстро управишься.
На том мы и порешили.
Дарси Лефаль
1990 год, Париж, Браззавиль
Тем не менее, с наскоку выяснить ничего не удалось. Из полицейского управления меня направили в министерство культуры.
– Не то чтобы у нас нет сведений на этот счет, но проще поступить так. Быстрее получите справку, – пояснил свой отказ полицейский чиновник. – У них должна быть полная информация по этому вопросу.
Это из серии «нет тела – нет дела».
После недолгой волокиты в столичном департаменте культуры устно подтвердили, что картина Поля Синьяка «Набережная Клиши. Хмурая погода» была похищена оккупационными войсками Германии в 1940 году. Для того, чтобы получить полную письменную справку, кто является владельцем картины и при каких обстоятельствах она была утрачена, пришлось оформить официальный запрос от газеты. Иначе никак.
– За ответом на ваш запрос сами придете или почтой в издательство «Le Parisien libere» выслать? – поинтересовалась служащая культурного учреждения.
– А сколько это займет времени? Я имею в виду – подготовить справку…
– Дня два, три. Я могу позвонить.
– Сами заберем. Буду ждать звонка. Спасибо! – ответил я и, слегка замявшись, спросил: – Скажите, а можно немного обнаглеть?
– Это как? – растерялась девушка, не понимая, куда я клоню.
– Может, в вашем уважаемом учреждении найдется какое-нибудь изображение этой картины? Стыдно сказать, но я ее ни разу не видел… и ничего не знаю о ее авторе. Буду вам очень признателен…
– Ну, что с вами поделаешь? Чего только не сделаешь ради уважаемого издательства! Сейчас постараюсь что-нибудь придумать.
Вернувшись через пять минут, барышня протянула мне цветную фотографию:
– Вот, но с возвратом. Взяла на время из архива. Придете за справкой, вернете. Договорились?
– Всенепременно. Спасибо!
Честно признаться, я не ожидал что картина действительно украдена. Мне казалось, что Люси все просто напутала в своей прелестной головке. Рассматривая фотографию, я мысленно представил этот район Парижа. Бульвар Клиши был назван в честь заставы, около которой наполеоновские войска отчаянно держали оборону столицы Франции от русских войск. Но не с ратными подвигами связывают этот бульвар, как и находящуюся на его восточном конце площадь Пигаль. В этом районе с девятнадцатого века активно селились дамы древнейшей профессии. Бульвар и прилегающие к нему районы заполнили дома терпимости и разного рода увеселительные заведения. С учетом того, что рядом проживала творческая богема: писатели, художники – сочетание получалось весьма пикантное. Когда-то в этом месте находилась студия Тулуза-Лотрека, завсегдатаем которой был Мулен Руж, часто рисовавший девиц и жизнь местных кабаре. После войны проституция была официально запрещена, но квартал продолжил свое существование… И это я знаю не понаслышке, мне как-то на заре своей деятельности в газете доводилось освещать некоторые аспекты бытия подобных заведений.
Да, еще, при вручении фотографии картины «Причал Клиши», девушка, видя мою дремучесть, любезно просветила меня насчет творчества Поля Синьяка. Так, в общих чертах, чтобы у меня сложилось хоть какое-то представление об авторе:
«Родился в Париже в 1863 году. Картины начал писать под влиянием импрессионистов. Главным образом его вдохновил Клод Моне, который впоследствии отказался быть его учителем, сославшись на свою занятость. Позже познакомился с Жоржем Сёра, с которым разработал живописную методику пуантилизма, основанную на технике письма мелкими точечными мазками почти чистых красок для создания целостного изображения. В то время как импрессионисты, такие как Клод Моне и Винсент Ван Гог, часто использовали мазки краски как часть своей техники, художники пуантилизма продвинули эту идею еще дальше, рисуя плотно скомпонованные отдельные точки чистого цвета. Таким образом при взгляде издалека создается оптический эффект, при котором изображения кажутся детализированными и содержат более полный диапазон тонов».
– По сути, термин «пуантилизм» был придуман искусствоведами в конце восемнадцатого века, чтобы высмеять работы этих художников, – добавила служащая культурного учреждения. – Но у Поля Синьяка был твердый характер. Еще будучи юношей, только мечтавшим о живописи, на выставке импрессионистов он повстречался с Гогеном. Тот сделал неприятное замечание молодому человеку, пытавшемуся тайком набросать зарисовки с картин Дега. «Здесь не копируют!», – во всеуслышание заявил Гоген и прогнал парня с выставки. Но Поль сумел сдержать удар, и это нисколько не охладило его любви к искусству.
Вернувшись в издательство, я поблагодарил Люси за точные сведения и, запершись в кабинете с шефом, ознакомил последнего с планом действий, предполагающим поездку в Браззавиль с фотографированием картины «Набережная Клиши».
– Конечно, по фотографии подлинность не установишь, но хоть что-то. Да и взглянуть уж очень охота на тайного владельца работы Синьяка.
– С Дюбуа Фицжеральдом я уже сам связался, пока ты наводил справки, – пояснил шеф, разглядывая фотографию картины. – Он аккуратно выяснит все данные об этой Дарси… Номер телефона, домашний адрес. У нашего филиала хорошо налажены связи с местной полицией. Я думаю, что прежде, чем расспрашивать женщину, надо что-то придумать… Почему мы так заинтересовались ее пациентом? Что это ты так сорвался из Парижа? Ведь не скажешь же правду.
– Безусловно. Такая информация небезопасна. Предлагаю два варианта. Первый – газета готовит статью о творчестве Синьяка, и второй – неизвестный коллекционер хочет купить картину. Я понимаю, что оба варианта так себе…
– Начни с первого, все равно лучше ничего не придумать, а если она засомневается, то доверительно, на ушко, сообщи о втором. Думаю, что купится… Одно непонятно, как ты собираешься проникнуть в дом подозреваемого?
– С помощью врача Дарси. Мол, она решила проведать больного… Ну, а я вместе с ней. Например… кардиолог. Надо с ней посоветоваться, в качестве кого мне выступать. Главное – без подозрений попасть в дом, а там попытаться выбрать подходящий момент для скрытой съемки. В крайнем случае, самому завести разговор о картине… ну, это только в крайнем случае. Может, это обычная копия, а мы тут детективное расследование организовываем. Но если картина подлинная, то, возможно, в Конго скрывается подпольный коллекционер, а может, вор… или, еще хуже, – бывший нацист. Хотя, почему бывший? Бывших нацистов не бывает. Я не так давно читал мемуары Курта Майера. Он в свое время командовал двенадцатой танковой дивизией СС «Гитлерюгенд». Был самым молодым дивизионным командиром не только войск СС, но и всех немецких вооруженных сил. Ему было всего лишь тридцать четыре года. Вроде заслуженный отважный генерал. Выжил в такой мясорубке. Но после войны на все вопросы журналистов про зверства нацистов неизменно отвечал: «Никто и никогда не услышит от меня плохого слова о фюрере». А когда умер, на его похороны боевые соратники явились с наградами Третьего рейха. Так что бывших нацистов не бывает.
– А если Дарси не согласится? Не захочет участвовать в этой авантюре. Что тогда? – спросил шеф, посмотрев внимательно на меня. – Ей это надо?
– По прибытии в Браззавиль первым делом ее подробно расспрошу. И постараюсь уговорить, ну, а если откажется, то… поговорю с Сержем. Он, похоже, в свете последних событий немного меняет профиль своей работы. В принципе, к нему все равно придется обращаться.
– Как-то странно все, – с сомнением покачал головой месье Бернар. – Врач по собственной инициативе навещает больного. Разве такое возможно?
– Не знаю… Надо сначала Дарси расспросить, с ней посоветоваться… Я вот что подумал. Может, подарим врачу годовую подписку нашей газеты? И ей будет приятно такое внимание, и нам будет чуть проще с ней общаться. Что скажете, шеф?
– Ладно. Заказывай билет в Конго. А там действуй по обстановке. Дюбуа будет тебе помогать. Я уже об этом распорядился. Да, ему сразу расскажи про второй вариант. Наверняка засомневается, ну да ладно. Его дело маленькое, – подытожил разговор шеф.
Накануне вылета я получил ответ на запрос о судьбе картины «Набережная Клиши», не забыв вернуть архивную фотографию. Вот что было начертано на официальном бланке за подписью заместителя начальника департамента культуры города Парижа:
«Настоящим письмом сообщаем, что картина Поля Синька «Набережная Клиши» была похищена оккупационными войсками Германии в 1940 году из резиденции Les Bouffards, наряду с остальной коллекцией, принадлежавшей известному меценату Гастону Просперу Леви».
Как пояснили в департаменте культуры, владельцем картины Синьяка был французский брокер по недвижимости Гастон Леви. Он приобрел картину в 1927 году у автора. В Париже успешный бизнесмен и застройщик Гастон Леви собирал коллекцию картин импрессионистов. Он дружил с Полем Синьяком и был поклонником его творчества: в собрании бизнесмена находилось сорок четыре работы этого импрессиониста. Леви был еврейского происхождения и, прежде чем с женой бежать от нацистов в Тунис, отправил большую часть своей коллекции произведений искусства в свою загородную резиденцию Les Bouffards, находящуюся на юге Парижа, в июне 1940 года. Свидетельства очевидцев указывают на то, что несколько месяцев спустя вся коллекция была погружена немецкими солдатами на грузовики и увезена в неизвестном направлении. Предположительно в Берлин.
С Дарси я встретился сразу после прилета в столицу Конго. Заинтригованная такой встречей, она любезно пригласила меня к себе в гости.
– Я так понимаю, не праздное любопытство узнать, как поживают соотечественники на чужбине, привело известного журналиста в Браззавиль. Насколько помню, я вам не оставляла свой номер телефона. Не удивлюсь, если и адрес мой знаете. Так что лучше всего пообщаемся у меня дома. Здесь нам никто не помешает, – пояснила Дарси по телефону.
Дарси была права. Дюбуа еще в аэропорту вручил мне копию досье на Дарси Лефаль, в девичестве Сертинс.
– Позаимствовал информацию у местных стражей правопорядка? – поинтересовался я у своего расторопного помощника, при этом бегло просматривая стандартные сведения о враче, имеющей двойное гражданство.
– Да. У нас с ними доверительные отношения. Коррупция – беда африканских стран. Это неискоренимо. Здесь все продается и все покупается. Заиры каждый любит, – подтвердил Дюбуа.
На встречу с Дарси я отправился на такси. Уютный домик с небольшим садиком за оградой практически не отличался от своих собратьев, выстроившихся в несколько рядов вдоль уходящих улиц.
– Это поселок медиков, прибывших в Конго из разных стран, – пояснила Дарси, встречая меня на пороге. – В основном здесь проживают французы. Некоторые не выдерживают разлуки и возвращаются на историческую родину. Вот и мой муж, хирург, год назад вернулся во Францию. Все никак не мог привыкнуть к местным мусорным кучам посреди улицы. Мы с ним познакомились еще в медицинском университете.
– Но почему власти не наводят порядок?
– Менталитет у народа своеобразный, наверное. Не знаю… В одной стране, не буду ее конкретно сейчас называть, чтобы не обидеть, живут племена, ходят почти полуголые… носят что-то наподобие набедренной повязки. И это в наше время. Так вот, новая власть решила навести порядок и раздала нормальную одежду этим людям. Бесплатно. Просто привезли и положили на землю, сказав: «Берите. Это все вам. Оденьтесь». Люди походили, подумали и стали носить брюки, юбки, рубашки… Вроде все хорошо. Но неожиданно стали болеть кожными заболеваниями. На их телах появлялись язвы. Власти были в шоке. Как? Почему? Оказывается, эти племена никогда не снимали с себя одежду, чтобы постирать. Как нарядились, так и все время ходили в ней. Вы бы видели их. Мне довелось. Жуткое зрелище… В общем, чтобы по-настоящему изменить жизнь к лучшему, людям нужно образование.
– Да. Не все так просто… Я прочитал как-то мемуары одного отважного немецкого танкиста. Образованный, талантливый командир, но всю жизнь прожил как папуас в джунглях с язвами на душе. Мне кажется, многое зависит от воспитания. Порядочные ли были у тебя учителя…
– Согласна, – как-то печально произнесла Дарси.
– Вы живете одна? – задав этот вопрос, я несколько растерялся от своей бестактности.
– Все нормально, – ответила хозяйка, заметив мое смущение. – Муж приезжал не так давно. Зовет к себе… Возможно, уеду отсюда. Ну что мы все на пороге? Проходите в дом.
Расположившись в гостиной, Дарси предложила мне кофе.
– Извините за прямоту, но мне кажется, что так будет правильнее. Скажите, Андрэ, какова цель вашего визита ко мне? Ведь не для того, чтобы подарить мне годовую подписку «Le Parisien libere». Чем обычный врач мог заинтересовать журналиста известной во всем мире газеты? – разливая в чашечки кофе, произнесла Дарси.
– Согласен. Давайте перейдем сразу к делу. Я приехал сюда по поводу картины «Набережная Клиши». Дело в том, что по возвращении в Париж я рассказал в редакции, что эта картина находится здесь. Мы в свое время планировали репортаж про французских художников-импрессионистов, но все время откладывали. То не было времени, то недостаточно интересного материала… В общем, как-то не срасталось. А тут мы узнаем, что одна из картин Поля Синьяка здесь… К тому же, открою вам небольшой секрет. Работами Синьяка продолжают интересоваться, есть покупатели на его картины, – не знаю, почему, но я вдруг решил объединить оба варианта.
– Вот и меня очень заинтересовала эта картина. Я живьем ее ни разу не видела. Только в журналах. Моя мама – страстный поклонник Синьяка. Я помню, как мы с ней не могли понять, в каком месте Парижа находится эта набережная… Я предполагаю, что это набережная Вальми. От мамы у меня привязанность к творчеству Поля Синьяка. Представляете, и тут я вижу эту картину…
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее, – попросил я женщину. – Возможно, я напишу об этом.
– Да. Конечно. Понимаю, что для настоящего журналиста мелочей не бывает, – улыбнулась Дарси. – Я прибыла на обычный вызов. У пожилого человек резко скакнуло давление…
– Извините, что опять перебиваю, но как его имя?
– Его имя?.. – переспросив, доктор немного задумалась. – Патрик Катель. Ему восемьдесят один год. Проживает по адресу Линцоло, дом 83. Страдает сердечными заболеваниями. Когда я осматривала Кателя, поинтересовалась, какие таблетки он принимает, чтобы до конца понять клинику. Он ответил, что все лекарства находятся в кабинете, и я могу сама на них посмотреть. Пройдя в указанный кабинет, я обратила внимание на приоткрытую дверь, ведущую в другое помещение. Каково же было мое изумление, когда увидела часть картины, напоминающую «Набережную Клиши»! Не удержавшись, я вошла в это помещение, чтобы убедиться, не ошиблась ли. Действительно, это была она.
– А где в это время находился сам хозяин?
– Он продолжал лежать на диване. У него было высокое давление и болела голова, затылочная часть. Я с самого начала предложила госпитализацию, но Катель категорически отказался. Сказал, что живет в доме один и не на кого оставить хозяйство.
– То есть попасть в помещение с картиной можно только из кабинета? – задал я уточняющий вопрос.
– Ну да. Только там висела не одна картина. Их было семь. А прямо в центре – черно-белая фотография молодого человека в форме.
– Понятно. Извините. Что было дальше?
– Посмотрев таблетки и вернувшись в гостиную, я выразила пациенту свое восхищение этой картиной.
– И как прореагировал Патрик Катель? Он поддержал ваш восторг?
– Вы знаете, нет. Сейчас, вспоминая те события, я нахожу странности в поведении этого человека. Он как-то насупился и буркнул что-то нечленораздельное. А потом нехотя добавил, что картины не его, а племянника. Оставил на хранение. Вот и все… Хотя, находясь в таком тяжелом состоянии, наверное, он по-другому и не мог прореагировать.
– Вы сказали, что в комнате были и другие картины. Вы не узнали их?
– Нет. Как я и говорила, всего было семь картин. И только две из них написаны импрессионистами. Одна Синьяка, а вторая очень похожа на его стиль… Но я не знаю автора. Хотя, может быть, это тоже его работа.
– Вы помните, что на ней было изображено?
– Женщина с веткой дерева… Рядом стоит мальчик. Поле… Похоже, они что-то жгут.
– А на других?
– По-моему, два портрета и три пейзажа. Или наоборот… Извините, боюсь напутать. Да и рассматривать не было времени. Из гостиной меня окликнул пациент.
– По вашему рассказу у меня сложилось впечатление, что вы уверены в подлинности картин. Почему?.. Может, это простые репродукции? Ведь глянули вы мельком. Да еще и нервничали, что без спросу проникли в помещение.
– Нет. Это были не цветные плакаты, а картины, написанные красками на холсте. Тут я не могла ошибиться. А по поводу подлинности… Конечно, точно не знаю. Может, и копии.
– Все понятно. Но вы еще упомянули про фотографию.
– Да. Она находилась прямо в центре, среди картин. У меня еще мелькнула мысль, что это как-то странно. Прекрасные картины и фотография, причем черно-белая. И качество у нее, прямо скажем, так себе… А самое главное – зачем? Молодой человек в военной форме.
– Немецкой? – не удержавшись, спросил я у Дарси.
– Очень похожа. Но не уверена.
– Фуражка была на голове?
– Нет. Улыбчивый молодой человек смотрит в объектив.
– Орел был на кителе в области груди?
– Нет. Его вообще не было. Но были какие-то награды… форма очень напоминает немецкую. Два витиеватых погона… Извините, плохо рассмотрела.
– Молодой человек похож на хозяина дома?
– Не знаю… Но ведь Патрик Катель – француз. Правда, с гражданством Конго.
– А говорил он без акцента?
– Как мы с вами… Хотя я вспомнила вот что: у Кателя на правой щеке небольшое, едва заметное родимое пятно, а на фотографии у молодого человека в этом месте затемнение… Может, конечно, из-за качества фотографии.
– Скажите, а мы сможем еще раз посетить Патрика Кателя? Как будто вас отправили проведать пациента… ну или что-то в этом роде, а я вместе с вами. Например, в качестве кардиолога. Как вы на это смотрите?
– По-моему, вы мне что-то недоговариваете, – Дарси подозрительно посмотрела на меня. – Вы в чем-то его подозреваете?.. Я, кажется, догадываюсь… Картины краденые. Угадала? И не смотрите так на меня. Я знаю, что нацисты похитили много произведений искусства.
– Даже не знаю, что вам и ответить… Возможно, и так. А может, это простые копии. Хочу сам посмотреть…
– Я согласна, – твердым голосом ответила доктор. – Я подумаю над предлогом посещения и вам сообщу, когда можно это сделать. Вы в каком отеле остановились?
– В «Mikhael’s Hotel».
– Я позвоню.
– Откуда такая решительность?
– От отца. Он всю жизнь проработал в полиции. Мама настояла, чтобы я училась не на юриста, а на медика.
Дарси Лефаль позвонила через два дня.
– Завтра с утра моя смена, и мы сможем навестить Патрика Кателя. А если спросит, почему заранее не предупредили о своем приезде, скажем, что находились недалеко от его дома. Вы будете выступать в качестве практиканта. Я предложу сделать кардиограмму… Когда он будет весь в проводах, вы попроситесь в туалетную комнату. Она находится рядом с кабинетом. Я постараюсь отвлечь его. У вас будет минут пять. Попробуете в это время проникнуть в комнату с картинами, – инструктировала меня женщина по телефону.
– Он больше не вызывал врача на дом?
– Нет, больше не обращался. Я проверила журнал регистрации вызовов. Ну вроде все… Да, еще, при водителе ничего не говорите. Ждите машину скорой помощи в начале улицы Линцоло. Мы вас подхватим.
Мы прибыли к дому 83 по улице Линцоло в начале десяти утра. Ничем не выделяющийся частный дом встретил нас настороженно, всем своим видом показывая, что не рад непрошеным гостям. Во всяком случае, мне так показалось. Я уже не первый раз занимаюсь противоправными действиями, но почему-то сейчас было особенно тревожно. Возможно, пугала неопределенность. Попроситься в туалет, а самому рыскать по дому… Надо было раньше подробнее расспросить Дарси о расположении этой чертовой туалетной комнаты.
На звонок в двери никто не реагировал. Дом безмолвствовал.
– Похоже, хозяина нет дома, – сказал я, позвонив несколько раз. – Сейчас попробую у соседей спросить.
Заметив женщину, вышедшую из дома напротив, я поспешил поинтересоваться у нее о Кателе.
– Уехал дней пять назад. Погрузил какие-то вещи в грузовичок и укатил в неизвестном направлении, – ответила соседка. – Он нелюдимый, всех сторонится. На улицу лишний раз не выйдет. Все цветы в своем садике выращивает. Вот скоро будет десять лет, как я здесь рядом живу, а имени его до сих пор не знаю.
– Патрик. Его зовут Патрик Катель, – пояснил я женщине. – Мы привезли ему результаты медицинского обследования. Сам за ними не приходит. Ему надо срочно обратить внимание на свое здоровье.
– Ничем не могу помочь… Хотя, постойте. Видите дом с зеленым резным крыльцом? – соседка указала на высокое строение с нарядным входом. – Там спросите. Хозяина зовут Теофил. Теофил Фабрикас. Он местный электрик, все может починить. Вот к нему все и обращаются. Вдруг он подскажет.
Прежде, чем следовать в указанном направлении, я поблагодарил Дарси за помощь, обещая перезвонить. После того как скорая помощь уехала, я направился к дому с зеленым крыльцом.
Пропавший пациент
1990 год, Браззавиль – улица Линцоло 83, Париж
– Вас ввели в заблуждение. Я понятия не имею, куда он отправился, – несколько эмоционально ответил местный электрик, после того как я рассказал, что привез результаты медицинского обследования мистера Кателя.
– Но что же мне делать? – несколько театрально возмущаясь, я продолжал следовать своей на ходу придуманной версии. – По договору наша поликлиника обязана вручить пациенту результаты комплексного обследования. Сам он не забирает. На телефон не отвечает. Он такие деньги заплатил. К тому же, у Патрика Кателя есть проблемы… Я не могу сейчас об этом распространяться. Существует врачебная тайна, и я обязан только лично вручить пациенту результаты обследования. В крайнем случае, родственникам. Может, вы знаете, куда мне обратиться?
– Да нет у него никого здесь. И вообще, я ничего о нем не знаю. Приехал сюда сразу после войны, из Италии. Говорил, что ранее жил в Бордо… Я за столько лет с ним толком-то и не переговорил.
– К нему никто не приезжал?
– Точно… Племянник. Года два назад я проходил утром мимо его дома, и тут подъехало такси. Оказывается, прилетел племянник на день рождения Патрика.
– Это племянник сказал про день рождения?
– Нет. Сам Патрик. Мы с ним тогда выпили вечером немного конголезского виски в честь его рождения, – делясь воспоминаниями, электрик почесал нос.
– И племянник присутствовал?
– Нет. Он перед моим приходом уехал на катере… Я еще удивился, что даже не погостил. На что Патрик, усмехнувшись, ответил: «Весь в заботах. Дел очень много».
– Чем он занимается?
– Я так понял – доставкой каких-то грузов. Наверно, торговый агент.
– Но почему вы решили, что племянник прилетел?
– Бирка багажа на сумке осталась.
– А откуда прилетел?
– Если мне не изменяет память, из Аргентины… Вспомнил, точно из Аргентины.
– Почему вы так уверены? Прочитали название страны?
– Нет, что вы. На багажном ярлыке было три полосы – по бокам голубые, а посередине – белая. Я, конечно, болею за наших, но и бразильцы с аргентинцами очень нравятся. Я сразу узнал флаг Аргентины.
– Понятно… Вы можете описать, как выглядел этот племянник?
– Обычная европейская внешность. Правильные черты лица. Голубые глаза. Светлые длинные волосы. Не больше сорока лет… Спортивного телосложения. Среднего роста. В общем, девушкам такие нравятся.
– Случайно имя и фамилию не знаете?
– Филипп. Так его называл Патрик. А фамилию не знаю.
– А в каком месяце это было? Я про приезд Филиппа.
– Тридцать первого июля – день рождения Патрика. Филипп прилетел в этот же день.
– Вы так хорошо запомнили эту дату…
– А ничего удивительного, тридцать первого июля –День Революции. Вы, что, не местный?..
– Я не так давно в Конго. Приехал по программе… Вы после того случая видели Филиппа?
– Нет. Мне кажется, что нет.
– У меня к вам просьба: если что-то еще вспомните, пусть даже незначительную мелочь, то позвоните по этому номеру телефона, – с этими словами я вырвал из записной книжки листок и быстро написал телефон браззавильского филиала газеты. – Оставьте информацию тому, кто ответит. Очень важно найти родственников, чтобы они предупредили Патрика о надвигающейся опасности. Договорились?
– Конечно. Я все понимаю. Одного моего знакомого болезнь за месяц скрутила. Если что вспомню, обязательно перезвоню.
– И вот еще что, – немного замешкавшись, обратился я к Теофилу Фабрикасу, – давайте и я ваш номер телефона запишу на всякий случай, вдруг понадобится помощь. Вы же специалист, все можете починить.
– Конечно обращайтесь. Буду рад помочь, – тут же согласился мужчина, быстро продиктовав ряд цифр.
Я, естественно, не собирался звонить электрику, но сработала профессиональная привычка – обрастать всевозможной информацией при новом расследовании. Еще неизвестно, что ждет впереди и какие дополнительные сведения могут потребоваться.
Вернувшись в отель, я позвонил своему помощнику и предложил встретиться. Дюбуа примчался через пятнадцать минут, благо что наш филиал находится в трех кварталах от гостиницы.
– Как вы на это посмотрите, если я попрошу об одной услуге. Скажем так – не совсем законной, – без обиняков обратился я к молодому парню.
– Нормально посмотрю, – с серьезным видом ответил Дюбуа. – Что надо делать?
– Обыскать один пустующий дом. Вас это не пугает?
– Не пугает. Мне приказано выполнять все ваши распоряжения. Говорите адрес…
– Мы пойдем вместе.
– Это лишнее. Поверьте, одному мне проще будет. Вам светиться никак нельзя, – разумно рассудил Дюбуа. – Говорите адрес и что ищем.
– Улица Линцоло, дом 83. Это рядом с вашим вуду по прозвищу Тьма. Хозяин съехал дней пять назад. Я сегодня был возле этого дома. Похоже, у соседей нет собак, но не факт. В одной из комнат висели картины. Проверьте, на месте ли они. Ищите бумаги: письма, альбомы, открытки. Все, что может пролить свет на то, куда делся хозяин. Фотографируйте все. Пленки не жалейте. Потом разберемся… Да, еще, осмотрите подвал, если таковой имеется. У меня есть подозрение, что вход в него может быть тайный.
– Там, что, жил разведчик-нелегал?
– Почти угадали. Есть предположение, что хозяин дома – бывший нацист. Так что будьте осторожны. Вдруг оставил какой-нибудь сюрприз для непрошеных гостей. Проверьте, есть ли сигнализация. Откройте дверь и спрячьтесь на улице. Если полиция не приедет, то все в порядке.
– Не переживайте, справлюсь. Проходил в армии специальную подготовку.
– Ни в коем случае не рискуйте. Сразу уходите. Потом решим, что делать…
– Все понял. Этой ночью наведаюсь.
Конечно, мне не терпелось самому обыскать дом Патрика Кателя, но в случае попадания в полицию нам грозил серьезный скандал. Еще неизвестно, как на это посмотрят столичные власти. Да и месье Бернара нельзя подставлять, ему больше всех достанется. Так что остается надеяться, что армейская подготовка не подведет Дюбуа Фицжеральда.
Получив все инструкции, Дюбуа отправился готовиться к ночной операции, а я начал анализировать произошедшие события. В том, что Патрик Катель – бывший нацист, я почти не сомневался. Как и в том, что это его вымышленная фамилия. И никого не должно смущать его отличное владение французским языком… возможно, даже и не одним французским. Он – немец. Взять того же Винсента Хартманна… Паспорт – вообще не проблема, руководители РСХА могли снабдить каким угодно. Не так давно мне попалась в руки статья британского издания «The Guardian». В ней доходчиво было описано, что происходило после капитуляции Германии. В статье говорилось, что тысячи нацистов разбежались, кто куда смог: Ближний Восток, Северная и Центральная Африка. Самый теплый прием ждал бывших военных преступников в Латинской Америке: Мексике, Боливии, Бразилии, Коста-Рике. Но больше всех нацистов сбежало в Аргентину. Президент этой страны Хуан Перон открыто сочувствовал эсэсовцам и критиковал решения Нюрнбергского трибунала. Но самое печальное, что помощь в организации бегства нацистов оказывал Международный Комитет Красного Креста. По свидетельству сотрудника Гарвардского университета, австрийца Геральда Штейнахера, Красный Крест выдал, по меньшей мере, сто двадцать тысяч выездных и проездных документов бывшим нацистам. Большая их часть сумела сбежать в Испанию и Латинскую Америку через Италию. Для получения подложных документов бывшие эсэсовцы старались смешаться с настоящими беженцами, а иногда и представлялись евреями, чтобы уехать через Италию якобы в Палестину. Использовались нацистами и краденые документы.
Неприглядна и роль Ватикана. Хотя он не афишировал своего участия в бегстве нацистских преступников, но отдельные представители католической церкви не стали отрицать своего участия. Епископ Алоиз Худал начал помогать нацистам, находящимся в розыске. Он помог бежать коменданту концлагеря «Треблинка» Францу Штанглю, заместителю коменданта лагеря смерти «Собибор» Густаву Вагнеру, Адольфу Эйхману и Алоизу Бруннеру, отвечавшему за лагерь «Данси».
Патрик Катель сразу осознал, что прокололся. Его подвело банальное тщеславие. Зачем было вешать на стену краденые картины, да еще вместе со своей фотографией в эсэсовской форме. Судя по описанию Дарси, на фотографии был именно он в звании штурмбаннфюрер СС. На это указывали витиеватые погоны. Ну хорошо, решил полюбоваться прекрасным, так хотя бы двери закрывай в такие комнаты на ключ. А он просто потерял осторожность, расслабился, решив, что в Конго он в полной безопасности. Но француженка опознала одну из картин. Да, Дарси не знала, что картина Поля Синьяка в розыске. Но это до поры до времени. Представляю, какая паника охватила эсэсовца. Бежать и как можно быстрее… Дарси очень повезло, что у Кателя не было под рукой псевдоплемянника Филиппа, иначе судьба врача скорой помощи была бы незавидной.
Конечно, еще оставалось маленькое сомнение в правильности сделанных выводов, но весь образ жизни этого человека говорил о том, что я на правильном пути. Если я действительно прав, то Дюбуа ничего не найдет в доме Кателя. Профессионалы не оставляют следов. Одна надежда на возраст с плохим самочувствием и цейтнот. Катель должен был торопиться. Заказать грузовик с грузчиками, вычистить весь дом от компромата… чтобы ни одна бумажка ни позволила напасть на его след. Ну да ладно. Завтра все узнаю. Главное, чтобы Дюбуа не попался в руки полиции.
Я напрасно переживал. Мой помощник справился с нелегким заданием. Не было еще и пяти утра, когда он позвонил.
– Все нормально. Подробности при встрече, – кратко сообщил Дюбуа и повесил трубку.
В принципе, и рассказывать-то было особо нечего. Я оказался прав в своих смелых предположениях. Дюбуа ничего из заявленного не обнаружил. Дом был просто вычищен. Ни одной зацепки, ни одного намека на то, в каком направлении исчез бывший хозяин.
– Все указывает на спешку. Раскиданные вещи. Не до конца задвинутые ящики шкафов. Картин на стене нет. Я нашел комнату, где они висели. Вы оказались правы. Вход в подвал сделан неприметным… Хорошо, что предупредили, иначе мог бы пропустить, – рассказывал Дюбуа, когда мы днем встретились в кафе.
– Подвал был пустой?
– Да. Но оборудован качественно. Стеллажи, вентиляция, освещение. Похоже, что-то важное в нем хранили. Все фотографировал. Всего три пленки… Но это еще не все. Я нашел несколько отпечатков пальцев, оставленных одним человеком. Как только вы сказали, что в доме, возможно, жил нацист, я сразу подумал о пальчиках… Хозяин, хоть и старался, но стер не все, – с этими словами Дюбуа протянул мне небольшой пакет. – Здесь пленки и отпечатки пальцев на прозрачном скотче в конверте.
– Молодец! А я упустил это. Когда имеешь дело с такой публикой, нет мелочей. Так нам будет проще его искать. Возможно, его пальчики находятся в базе… Я ближайшим рейсом вылетаю во Францию, а вам будет еще одно поручение. Постарайтесь узнать, что есть в полиции на Патрика Кателя. Данные переправьте в Париж. Ну все, успехов!
Ближайший рейс оказался в семь вечера, так что поздно ночью я уже был в Париже. Утром так не хотелось вылезать из постели… Но, зная, с каким нетерпением ждет меня шеф, я понимал, что выбора нет. За все время своей командировки я практически ему не звонил, отделываясь лишь общими фразами: занимаюсь, все в порядке. Месье Бернар не обижался на мое поведение, понимая, что так лучше для дела… нечего лишний раз друг друга дергать пустыми разговорами. Но по приезде он не прощал опозданий – будь как штык прямо с утра с подробным докладом.
В этот раз я пришел на работу даже раньше шефа, не забыв прихватить сувенирчик для Люси, приобретенный, как обычно, в аэропорту, в ожидании вылета. И пока я пил кофе, секретарша с восхищением примеряла на своем запястье элегантный браслетик из танзанита. Голубые оттенки камня как нельзя лучше подходили к глазам девушки.
– Скажите, Люси, если в прошлый раз вы так помогли мне с картиной Поля Синьяка «Набережная Клиши. Хмурая погода», – обратился я к девушке, – может, еще раз проконсультируете, но уже с другой картиной, написанной в стиле Синьяка?
– Ну, я, конечно, не такой знаток, но постараюсь, – ответила секретарша, продолжая вертеть рукой с браслетиком.
– Тут вопрос посложнее. На картине изображено поле. В нем женщина с веткой дерева. Рядом стоит ребенок и, похоже, они что-то жгут.
– Боюсь напутать, но, по-моему, это «Молодая крестьянка» Камиля Писсаро.
– Тогда у меня будет к вам еще просьба. Найдите, пожалуйста, изображение этой картины и отправьте его в Браззавиль Дарси Лефаль. Запишите ее координаты…
Едва Люси записала телефон, как ввалился в офис запыхавшийся шеф.
– Уже руководишь без меня. Стоит только на минутку задержаться. Представляете, в такую пробку попал. Жуть… Думал уже пешком идти, да припарковаться было негде.
Немного поболтав о парижских загруженных улицах, мы уединились с шефом в его кабинете. Я сразу, не упуская никаких мелочей, рассказал о своем расследовании в столице Конго. Месье Бернар практически не перебивал меня, лишь изредка просил уточнить некоторые детали.
– Ты считаешь, что все семь картин подлинные и они похищены нацистами во время войны? – услышал я ожидаемый вопрос, после того как закончил свое повествование.
– Скорее да, чем нет, – уклончиво ответил я главному редактору. – Сами посудите. Патрик Катель неожиданно сорвался с места, насиженного десятилетиями, после визита врача неотложки. Без всякого сомнения, он был сильно напуган тем, что Дарси обратила внимание на картины. Он этого совсем не ожидал. Все эти годы жил затворником и ни с кем не общался. Он и бы и дальше оставался в Браззавиле, но Дарси своим любопытством спутала ему карты. Его охватила паника.
– Но это говорит о том, что он боялся правосудия… возмездия. Возможно, он военный преступник. При чем здесь картины? – как-то неуклюже возразил шеф.
– Безусловно, его поведение наводит на эту мысль. На фотографии он запечатлен в погонах штурмбаннфюрера СС. Это достаточно высокое звание для эсэсовца. Оно подразумевает и приличную должность в политической разведке или контрразведке. Но одно другому не мешает. Какая для него разница, на чем он попадется. Следствие все равно установит его подлинную личину. Он служил или в четвертом управлении РСХА, так называемом гестапо, или в шестом, у Шелленберга.
– А если занимался кадрами? Многие сотрудники носили такую форму. Черную с одним погоном практически отменили.
– Вы посмотрите, как он ловко замел за собой все следы. Дюбуа с трудом нашел всего лишь несколько отпечатков пальцев, и это в не таком уж маленьком доме… Нет, он профессионал. Он не просто так здесь оказался… охранять картины. Я предполагал, что под домом есть подвал…
– Почти под каждым домом – подвал, – возразил шеф.
– Согласен. Но какой? Незамысловатый, чтобы вино хранить. А тут стеллажи, вытяжная вентиляция. Тайная дверь, ведущая в нижнюю часть дома.
– Думаешь, хранил там краденые картины? Чтобы потом переправлять в другое место?
– Наверняка. Иначе зачем все эти траты… Через его дом проходила тропа контрабанды художественными ценностями.
– Давай не будем такими категоричными.
– А загадочный племянник Филипп?.. Какой он торговый агент? По всей вероятности, обычный курьер, – не унимался я. – Прилетел из Аргентины, прихватил картины – и рекой к побережью. Там на неприметном суденышке отправляйся куда душе угодно. Во всяком случае, маршрут вырисовывается… причем относительно безопасный. Но наверняка нацисты и их пособники хорошо вооружены.
– Может, Филипп настоящий родственник?
– Вряд ли. Кто уходит на нелегальное положение, тут же обрывает все родственные связи, иначе рано или поздно провал неизбежен. Сколько уже так погорело… Израильский Моссад не дремлет.
– Ну, это когда военный преступник. Может, Катель не зверствовал в годы войны… решал другие задачи. А вот то, что Филипп прилетел из Аргентины, о многом говорит. Аргентина для бывших нацистов – идеальное место укрытия. Почти всю войну эта страна сохраняла нейтралитет. Впрочем, нейтралитет был мнимый… На территории этого государства находились филиалы оружейных концернов, а в здании немецкого посольства в Буэнос-Айросе – отделения двух банков Третьего рейха. Не отказывали власти Аргентины и в «парковке» у своего побережья немецких субмарин для тайного перемещения грузов… секретных документов и важных персон. Немецкие мигранты ничего не боялись… создавали в своих кварталах так называемые «спортивные клубы», организованные по примеру СА и СС, даже издавали свои газеты. Самой известной из них была «Эль Помперо», выходящая тиражом около ста тысяч экземпляров. Так что бегство тысяч нацистов в эту страну было заранее подготовлено.
– Вот и я про это.
– Я так понял, ты попросил Люси найти изображении картины «Женщина с веткой»?
– Да. Отправим Дарси, вдруг это действительно Камиль Писсаро. Если подтвердится, сделаем опять запрос: не похищалась ли картина немцами. Пленки надо проявить, вдруг что-то упустили.
– Согласен. Любопытно будет взглянуть на подвал. Надо потом показать специалистам. Пусть дадут заключение… Это все нормально. Ты скажи, как будем искать Патрика Кателя?.. Найдем его, найдем и картины.
– Сейчас самое главное – установить его настоящее имя. Дюбуа должен прислать нам материал на Кателя. Посмотрим, что о нем знает столичная полиция. Нужна его фотография. Дарси сказала, что на правой щеке у него родимое пятно. Известен его день рождения, есть отпечатки пальцев. Это уже немало. Я думаю, надо получить разрешение на изучение архивов. Дарси сказала, что Катель в совершенстве владеет французским языком. Может, у нас засветилась его физиономия… Вдруг действительно жил в Бордо.
– А шустрый этот малый Дюбуа Фицжеральд, как быстро сообразил поискать «пальчики» штурмбаннфюрера в брошенном доме! Может, заберем к себе его? Как считаешь?
– Ловок. Ничего не скажешь. Но пусть пока за домом понаблюдает. Вдруг хозяин вернется…
Дегенеративное искусство
1942 год, Германия
Прошло два года с тех пор, как лейтенант Манфред Матеус возглавил секретный отдел «Kűnstlerische Werte bewegen» – «Перемещение художественных ценностей» или, проще сказать, – «KWB». За это время из сомневающегося лейтенанта люфтваффе, с оглядкой делающего первые шаги на новом поприще, появился уверенный в себе представительный капитан с очень широкими полномочиями. Такое стремительное повышение в звании: с лейтенанта до капитана и всего лишь за два года нельзя было просто объяснить продолжающейся кровопролитной войной, тем более что Манфред Матеус не принимал непосредственного участия в сражениях и не возглавлял ни один из оперативных штабов по принятию стратегических решений, влияющих на положение на фронте. Можно сказать больше: многие сослуживцы, с которыми Манфреду по роду своей деятельности приходилось как-то вскользь пересекаться, вообще понятия не имели, чем он занимается. Вроде на нем мундир летчика, но никакого отношения к люфтваффе он не имел. На его груди не красовались высокие воинские награды, и лишь только почетный знак «Пилот» висел на левом нагрудном кармане его кителя. Этим знаком Манфред дорожил. Он напоминал о первых боевых вылетах во Франции, когда, одержимый подвигами, на своем истребителе «Мессершмит-109» мчался на полной скорости в бой. Прошло всего лишь два года, но Манфреду казалось, что это было в прошлой жизни, и с тем максималистом с широко открытыми глазами, которым он был тогда, его больше ничего не связывает. Жалел ли он об этом? Наверное, да… И особенно в последнее время. Как ни старайся – себя же не обманешь. Если бы он тогда остался заниматься поставкой запчастей к самолетам, то опять бы летал. Дело в том, что зрение на поврежденном глазе при аварийном приземлении практически восстановилось.
Но нельзя не отметить и положительные моменты деятельности начальника отдела. Наблюдать вживую работы признанных мастеров, которые вряд ли когда-нибудь довелось бы увидеть. Понимать, точнее, стараться понять внутренний мир художника, решившего почему-то запечатлеть именно данное мгновение жизни… Это дорого стоит. Манфред давно уже обратил внимание, что многие творцы с большой буквы ставили в приоритет будничность и непринужденность. Когда персонажи картины веселились или грустили так естественно, что создавалось впечатление, будто они на самом деле живые, и стоит тебе только дотронуться до холста, как они тут же оживут и поделятся своими радостями или печалями. Или почтенный господин в камзоле с серебряными пуговицами и шпагой на боку, молчавший уже две сотни лет, снизойдет до общения с тобой и доверительно разъяснит, в чем смысл жизни и стоит ли постигать истину бытия. А задорная барышня, кружась в танце, при этом кокетливо бросая взгляд на галантных кавалеров, не спускающих с нее взора, обязательно рано или поздно и на тебя обратит внимание. Все это видел Манфред. Он все это чувствовал.
