Тени двойного солнца
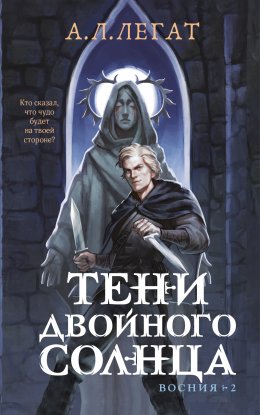
© А.Л. Легат, текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
I. Долги и старые вдовы
– Вам этхо ш рук не ш-шойдет-х!
Четыре гостя в подвале. Один – лишний.
Он сидел в полумраке на расшатанном стуле и угрожал. Я видела его вчера: за столом в гостиной, у камина. В дорогом акетоне и с кружевом на рукавах. Он красиво улыбался, показывая белые зубы без пропусков. Весь ухоженный, надушенный – выглядел дороже, чем стоил. Зачем-то хвалил еду и назвал Гуло остолопом.
Сейчас остолоп стоял позади и придерживал его за плечо.
Некоторых гостей в нашем доме видели всего один раз. Этого хорошо стригли и мыли перед тем, как он пошел против моего отца. Безнадежный красивый дурак. Сидит, лишенный всякой чести: нагой, в синяках и ссадинах. Только на бедра ему набросили старую тряпку, которой обычно моют полы или вытирают рвоту со столешниц в бараке. Если бы не я, этой тряпки бы там не было. Отец все еще считал, что я слаба.
– Иш-ш-пот семли дош-штанут, – почти крикнул вчерашний гость, сегодняшний пленник.
Отец повернулся ко мне, присел на одно колено. Его рука не дрогнула, когда он обхватил мою ладонь.
– Бельчонок, слушай очень внимательно…
– Всдерхнут на вее!
– …это будет наш самый большой секрет. Дай слово, что никогда о нем не расскажешь.
– Да, отец.
Не стоило и спрашивать: в отличие от мамы, я всегда на его стороне. Отец поднялся с колена.
– Покажи, – он кивнул нашему псу – Гуло.
Тот вытянул руку пленника: потемневшую, распухшую, с торчащими в разные стороны пальцами, точно лапа у старой зарубленной курицы.
– Прикоснись, – чуть мягче сказал отец и подвел меня ближе.
Пленник завыл. Я поджала губы и провела пальцами по распухшей коже у запястья. Трогать дохлую крысу и то приятнее, чем людей, которых запирает отец.
– Выше, у ладони. Вот так. Чувствуешь?
Нос поморщился сам собой. Кривые линии. Метка, как на быках в загоне. Человек-бык. Я прыснула – и тут же опустила глаза в пол. Взрослые не смеются как дураки.
– Да, отец.
– Запомни ее как следует.
– Два кружка и две черты. Как два солнца и два горизонта, – зачем-то добавила я. – Мать двойного солнца?
Пленник всхлипнул и замычал. Отец покачал головой:
– Может, и так, только священники не носят меток, бельчонок.
«Бельчонок». Называл меня, будто я совсем мала и на меня нельзя положиться.
– Тогда кто он?
– Служит Его Величеству, – добавил Гуло.
– Это ложь, – поправил его отец.
– Гх, н-нет, в-все так, миледи, послуш…
Гуло ударил одной рукой, наотмашь. А второй придерживал стул. Голова пленника качнулась в сторону, на стене застыли брызги.
– Гху, рвг-лх, – подбородок пленника коснулся груди.
Отец встал между нами.
– Слушай внимательно, бельчонок. Нет большего горя, чем повстречаться с носителем метки. С этого дня не подпускай ни одного из них слишком близко.
По лицу человека, которого положено бояться, ручьями стекал пот. А в его глазах стояли слезы. Уже больше страха, чем зла.
Ничего не понятно. Мама ничего не понимала и не задавала никаких вопросов. Именно потому мы с отцом остались одни во всем мире. И Гуло, но он пес.
– С меткой… но как я их узнаю, отец?
Пленник всхлипнул, Гуло снова поднял руку для удара.
– Со временем ты научишься отличать полезных людей от отбросов. Слугу от хозяина, друга от врага.
Враг не выглядел угрожающим, опасным или сильным. Но я все равно нахмурилась и скривила лицо. Мама не верила отцу, не понимала. Даже если я не понимаю, ни одно его слово не пройдет мимо.
Вера. Отец никогда не бывает не прав.
На стуле, сгорбившись, сидел опасный человек, который выглядел слабым. Запутывал, лгал. Змея, вылезшая из тени.
– …И если ваши пути пересеклись, – отец чуть повернул голову в сторону пленника. Тот широко распахнул глаза и снова замычал. – Если встретится тебе отмеченный этим знаком, пусть твое сердце не знает пощады. Повтори за мной.
Отец сжал мою ладонь так же крепко, как сжимал руки матери перед тем, как попрощаться навсегда.
– Встретив врага, я не должна знать пощады, – перетерпев боль, ответила я.
– Гпр-рошу ф-фас, пхош-шалу…
Гуло ударил врага ладонью. И посмотрел на меня взглядом, полным жалости. Так, будто я была слабой и никчемной. Хуже хромого пса.
– Слушай внимательно и запоминай, – рука отца легла на мое плечо. – Никто не должен увидеть вас вместе.
Пленник всхлипнул и дернулся на стуле. Я кивнула.
– В вашу первую встречу враг не должен назвать тебя по имени.
Я кивнула еще раз.
– И эта встреча должна стать для него последней.
– Пж-а-алста, – заскулил совсем не страшно страшный человек, – гсп-дшин когл…
– Повтори, – строго сказал отец.
Я подняла подбородок выше.
– Человек с меткой – мой враг. Если он подойдет слишком близко, но не назовет моего имени, я должна отдать его псам.
– Пвжалста, – стул скрипнул, грязные стопы заскребли по полу, пытаясь сдвинуть мебель. – Пвршу!
– Гуло, – коротко бросил отец.
Пес наклонился над пленником, обхватил его голову.
– Нгет-нхе!..
Хрусть! Что-то сломалось, и враг перестал быть страшным.
Отец посмотрел мне в глаза. Очень усталый, тяжелый взгляд. Усталость, причину которой я обязательно узнаю, когда стану женой.
– Его одежду уже сожгли, и ты в будущем поступишь так же, – сказал отец.
– Я сожгу все вещи врага и… избавлюсь от его коня, если он приедет верхом, – с вызовом ответила я.
– Ты и правда мой бельчонок, – обычно отец улыбался, когда хвалил и обнимал. Но не сегодня, не в этот раз.
Под моим врагом растеклась смешная позорная лужа. Гуло поднял тело одной рукой, будто держал тюк с соломой, и стал подниматься по лестнице. Он нелепо сутулился, едва умещаясь под низким потолком и балками. Распухшие руки с клеймом волочились по ступеням, слегка подскакивая на каждом шаге. Взвизгнули петли двери, и Гуло исчез во тьме.
– От тела не должно остаться ни одной кости. – Отец придвинул меня ближе и сказал совсем тихо. – О том, что вы встретились, должны знать только ты и я.
Я повторила:
– Никто не узнает.
И мы вышли в ночь. Крупная тень – Гуло и его ноша – двигалась к хлеву, срезая путь по грязи. Мы шли следом, но не как псы: по садовой тропинке, чтобы не испачкать обувь.
– Пора ложиться, бельчонок, – отец хотел меня прогнать.
Не замечал, что я уже доросла до его плеча. Селяне болтали, что наша семья не удалась ростом. Я знала, что во всем Криге не было человека выше, чем мой отец. А скоро – не будет и в целой Воснии.
– Тем летом больная птица упала в загон, – сказала я.
Отец вздохнул, но не настоял на своем.
– От нее не осталось даже перьев. Я видела. Я не боюсь.
В молчании мы продолжали идти.
– Иногда ты так похожа на свою мать…
«Только я никогда не погибну так глупо, как она», – промолчала я.
Отец умен и всегда желает лучшего своей семье. Даже псам. Потому я всегда буду рядом. Буду делать то, что нужно. Буду верить. Верю.
Скот в хлеву спал, только стрекотали кузнечики и гудел ветер. Свежий корм перекинули через ограду, и с тихим всплеском он упал в нечистоты. В хлеве проснулась жизнь.
– Они голодны даже ночью, миледи.
Гуло обернулся и встал так, чтобы я не видела трапезу. Свиньи не знали манер. Даже в черноте ночи блестели их мокрые рыльца. Пес всегда считал меня слабой, потому что ничего не понимал.
Я спросила шепотом:
– Отец, но что, если гость назвал бы меня по имени?
– Это бы значило, что они выбрали тебя.
Я дернула подбородком:
– И что тогда?..
За оградой чавкали свиньи. Гуло еле слышно напевал себе под нос. А может, молился. Отец опустился на оба колена, в самую грязь, и обнял меня так, что стало тяжело дышать.
– Тогда только боги смогли бы нам помочь, Сьюзан.
Такого голоса я боялась больше, чем всех врагов, вместе взятых.
На следующее утро вместо Гуло нас охранял новый пес. Отец ничего не сказал. В тот день он поверил, что я уже достаточно выросла, чтобы понимать все с первого раза.
– Я вам сказал, милейшие: у меня ничего нет, – в голосе Руфуса проступали истерические ноты.
Любому пьянице в Волоке было известно, что «милейшими» моих псов не назвала бы и Мать двойного солнца, воплощение милосердия. Неразговорчивый горец-каторжник и безмозглый мясник, который строит из себя рыцаря. Горе-охранники. Цепные псы.
Вуд молча ждал драки. Джереми по-хозяйски водил пальцем по опустевшим полкам серванта. В один из дней этот лоботряс поймает стрелу, засмотревшись на паутину в углах. Я обвела взглядом темную комнату. Паутины здесь и впрямь было в достатке.
Человек без дела вполне может навести чистоту. Впрочем, именно из-за лени этот слизняк – Руфус Венир – и влез в долги.
– …говорю и в третий раз: я гол как сокол!
Наглая ложь. Этот разговор шел уже пятый сезон, а у него все еще остались портки, рубаха и обувь.
– Миледи, – Руфус начал пресмыкаться, – я устал повторяться. Ничего у меня нет и не возьмется из ничего хоть что-то, поймите…
Возможно, все графы – отменные лжецы.
– Вы прекрасно знаете, что именно у вас есть, господин Венир, – напомнила я.
«И мы знаем об этом не меньше вашего, особенно после того, как мой отец пьянствовал с вами около пятнадцати лет назад».
Лицо Венира сделалось болезненно-серым.
– Позвольте, – выпалил он, – Сьюзан… э-э… миледи Коул! Вам должно быть прекрасно известно, что наделы не являются каким-то горшком, э-э, товаром для купца или обновкой, которую передают из прихоти…
Из щелей у окна страшно дуло. Я прошла в комнату, приблизилась к столу, и Джереми тут же протер единственный стул краем своего плаща.
Руфус заговорил громче:
– И если так станется, что землею станут торговать или, быть может, оставлять любой черни за пару серебряков, – от этого слова его лицо перекосилось, – если лорды и Его величество больше не распоряжаются землей, как прежде… что будет с нашим краем, Воснией?
Стул скрипнул. Руфус стал заискивать:
– Или с домом Восходов, миледи?..
Я деликатно улыбнулась. С одной стороны, благодаря Восходам наш банк в Волоке начал процветать. С другой – Восходы и Долы вызывали во мне лишь один интерес: на каких условиях любой из ставленников захочет взять займ. Я подыграла.
– Что станется, господин Венир?
Хозяин дома распалялся:
– Форменное безобразие! Мы уподобимся этим дикарям, обитателям болот. Нет, даже хуже! Восния всегда была королевством, а не… э-э, купечеством, не каким-нибудь рынком, знаете ли. Камня на камне не останется, будьте уверены. Сегодня они раскупят наделы, а завтра, того гляди, купят и вас, как какую-нибудь, простите, крестьянку! Дочь горшечника! Свинопаса! Не станет и вашего банка…
– А может, наконец отпадет нужда проливать кровь за право распоряжаться землей? – чуть улыбнулась я.
– Так было век назад, и не нам с вами судить, миледи, о том…
– Старые порядки на то и стары, – я переплела пальцы рук, чтобы погреть ладони, – они дряхлеют, господин Венир. Такова жизнь: дряхлое увядает, чтобы уступить место новому, сильному, полному жизни. Край, где почитают дряхлость, становится кладбищем.
– Помилуйте, Сью… э-э, миледи Коул! Вы же разумная женщина, и…
– Именно потому я здесь. Протягиваю вам руку помощи. Вы разорены, господин Венир. Независимо от того, как ведут дела Долы, Восходы или что покупает чернь. Я предлагаю лучшее решение…
– Как предложили в тот проклятый год?! – Венир потерял лицо.
– Вы нуждались в помощи, и вам ее оказали.
Признаться, так быстро истратить все, что предложил контракт, – настоящий талант. За каких-то пять лет! Что нужно делать: не вылезать из борделей, завтракать породистыми скакунами? Играть в карты на сотни золотых? Подавать беднякам?
Восния обречена.
– Помощи?! – вскрикнул Венир. – Да тогда я был сказочно богат! До встречи с вашим семейством…
«Уже в те времена задолжал около двух тысяч каким-то наемникам из Гарготты. И до сих пор не сознался за что».
Вуд молчал, не показывая никакого интереса к происходящему. Его волновало одно: когда можно приступить к делу и пустить кровь. Почему-то мужчины, прибывшие с гор, всегда желали утвердиться. Если сегодня крови не будет, Вуд приступит к оскорблениям, чтобы начать драку.
Удивительно, но эти псы – Джереми и Вуд – продержались дольше всех. Возможно, я становлюсь слишком мягкой.
Я резко поднялась и расправила складки на платье.
– Дело ваше, господин Венир. В конце концов, кто мы с вами такие, чтобы нарушать естественный порядок вещей! Сегодня же я обращусь в суд Его Величества с просьбой разрешить наш спор. Уверена, справедливость восторжествует, сохранив устои нашего общества, на котором и держится благополучие всех и каждого…
Венир уже позеленел. Впрочем, в петле он будет выглядеть еще хуже. Одному солнцу известно, отчего в Воснии предпочитают повешения.
– Вы… вы и вправду собираетесь… – Он прервался и уперся рукой в старую балку. Я с опаской посмотрела на потолок. Удивительно, что мы все еще живы.
Вуд хохотнул. Почуял расправу.
– Боюсь, традиции и законы нашего общества не оставляют мне иного выбора. – Я посмотрела на Джереми: тот гнул спину, стараясь выглядеть благородным. – Все-таки, это наша четвертая встреча со дня последней выплаты.
Петля так петля. Люди часто выбирают худшее, полагаясь на удачу. Даже когда очевидно, что никакой удачи у тебя не было пятый год.
– Но, миледи, вы…
Я пошевелила пальцами ног и поежилась – в доме постоянно гуляли сквозняки.
– Доброго вечера, господин Венир. Постарайтесь заделать щели у окон.
Вуд включился в беседу:
– Да-да, зима, сказывают, грядет холоднющая. Долгая.
Джереми уже приоткрыл дверь в город, и ледяная осень заколыхала паутину в углах. От порога разбегалась уличная пыль.
– Проклятье. Святые мученики! Будь по-вашему, – еле слышно ответил Венир и рухнул задницей на кованый сундук. Задница его уже давно не была столь велика, как в былые годы.
– Чего-чего? – громко уточнил Вуд, ибо больше всего любил именно эту часть беседы. Унижения.
– Я согласен, раздери их всех боров! Давайте сюда ваши бумаги или что там… Святые мученики и их доброта, да простит меня милосердная Мать солнца…
А граф еще не потерял последний ум. Пытается торговаться, подловить меня.
– Никаких бумаг. Я буду ждать вас в главном здании «Арифлии и Коул». – Руфус показался в этот миг совсем старым и немощным. – После полудня.
Он покачал головой. Сквозняк так и завывал, прорываясь сквозь щели и распахнутую настежь дверь. Вуд наслаждался больше всех – этот крупный горец, не знающий холода. Должно быть, его родили в снегу.
– Без бумаг? Явиться лично?.. Все по закону, скажете? – Руфус придержал ворот рубахи, стараясь сохранить тепло.
– Законы созданы людям в помощь, не так ли? Я рада, что даже в столь тяжелые времена мы можем помочь друг другу, господин Венир. Не заставляйте меня ждать до темноты, – я подарила ему улыбку. Ту, которую ждет человек, чья жизнь оказалась в твоих руках. Ту, которая на самом деле ничего не стоит и ничего не обещает. Крохотное оружие большой власти.
– Я никогда не опаздываю, миледи Коул, – прохрипел он.
«Еще бы! С тех пор как тебе совершенно нечего делать, кроме кутежа в долг».
– Вот и славненько. – Вуд вместо улыбки знал только как скалиться и щериться. Я вышла на улицу, пытаясь решить, какая из его гримас казалась мне менее отвратительной.
– Стойте!
За спиной захрустели шаги. До чего же грязный пол…
– Погодите! – Венир встал на пороге и ухватил меня за рукав.
Я остановилась, посмотрела из-за плеча. Станет ли торговаться, молить или упрется рогом, полагая, что у него остался выбор? Пусть не питает надежд. Эту роскошь себе могу позволить только я.
– Скажите ради всего святого, миледи, – лицо Руфуса скривилось, – когда и почему вы сделались такой сукой?
Вуд сделал шаг вперед и уже вцепился в свою палицу. Я коснулась пса и слегка мотнула головой.
– До встречи, господин Венир. – Рукав бесшумно выскользнул из чужих пальцев. – Не забудьте одеться перед выходом.
Старый приятель моего отца осмотрел заношенную рубаху с дорогой вышивкой, протертые портки, которые висели на его исхудавшем теле, и растрескавшиеся сапоги из воловьей кожи. На подгибе еще можно было различить тиснение, признак былого достатка.
Мы оставили разоренного графа в молчании и не оборачивались. За поворотом на главную улицу, откуда виднелся банк, Джереми начал подлизываться:
– Вы улыбаетесь. Да? Верно, так и есть. Он вас чем-то развеселил, миледи?
Тяжелые времена. Мои псы больше крутятся перед носом и паясничают, нежели выполняют свою работу. Вуд коротко отрезал:
– Ничего смешного.
Мы прошли кабак, и я улыбнулась еще шире:
– «Сука», ну надо же!
Джереми снова изобразил нечто, что в его голове должно вызывать восхищение окружающих:
– Неслыханная дерзость! – его здоровенный кулак испугал прохожих. – Да за одно это его стоило бы вздернуть! Позвольте мне вернуться и потолковать с этим ублю…
– Обычно меня называют гораздо хуже, – я пожала плечами и добавила: – Приятно… все-таки.
Лезвие прошло у самого горла. Чирк. Опустилось ниже и снова пошло наверх. Зацепило кожу, холод стали обжег щеку. Ш-шух. И снова вниз. Если сидеть с прикрытыми глазами, становится только страшнее.
Главное – не дергаться и не крутить головой.
– Усе готово, ваше благородие! – прохрипел старый цирюльник и неаккуратно стал обтирать мое лицо.
Я взял полотенце из его рук и убрал мыльную пену у воротника.
– Глядитесь.
Небольшое зеркало было забрызгано не только пеной. Я отвел взгляд, стараясь не думать о происхождении других пятен. Из мутного стекла на меня смотрел будто чужой человек. Когда-то его звали первым мечником Крига, чужаком и болваном, цепным псом на службе у отбросов Варда. Звали и сыном палача. Он мог бы стать сотником, землевладельцем или просто счастливым человеком.
Вместо этого он сидел в грязной цирюльне, с последними медяками на поясе. Наряженный как на гребаную свадьбу.
– Как вам, милсдари? – спросил старик, не особо тщательно сполоснув бритву.
Рут, будь он проклят за все свои идеи, выглядел довольным.
– Сойдет, – одобрил он.
Когда-то меня так одевали перед встречей с консулами, на острове. Я клялся матери, что вырасту и никогда не влезу в нарядное тряпье. И вот что делается со старыми клятвами.
Консулы бы оценили: выкрашенный лен с дорогой толстой нитью вдоль обшлага. Темно-зеленый плащ, будто его соткали из скошенной травы. Приталенный крой, еще более узкие сапоги: явно для тех, кто не отходит от дома дальше сотни шагов. Словом, во всем Оксоле я находил одно верное сходство.
– Я похож на дешевую шлюху.
Рут поперхнулся: должно быть, решил, что я его развлекаю. Что взять с пьяницы?
– Тоже мне горе, миленькое дело! Готов спорить, что твои сотники обращались с нами похуже, чем с гулящими девками…
– По крайней мере, они не лезли ко мне в портки.
За ставнями тоже шла перепалка. На улице кипела жизнь. Что ж, у кого-то она хотя бы была.
– Быстро ты передумал, – не отставал от меня Рут. – Что, седлаем коней, вернемся к добрым командирам под флаг, к славному делу? Полагаю, Стефан и другие твои сотники нас просто заждались.
Цирюльник дважды открывал беззубый рот, пытаясь вклиниться в беседу, но не поспевал.
– Милсдари…
– Наши сотники, Рут, – я скинул полотенце на стол, – тебя силком под флаг не тащили.
– Мог бы стать одним из них, а? – приятель снова надел на лицо поганую ухмылочку.
Я глянул на него исподлобья. Этот упрек начал мне надоедать еще неделю назад, там, в землях Волока.
– Мог бы. Но я выбрал жизнь.
И потому я сейчас здесь, в очередной дыре, хватаюсь за последнюю надежду, как бедняк, как утопающий…
Цирюльник подгадал время и выпалил:
– Самая дорогая шлюха, милсдари, энто моя жена: таскается хреньте где и с кем, а плачу за нее я!
Стало только хуже. Дорогая ли, дешевая – какая мне теперь разница?
Я нахмурился, придирчиво осмотрел работу цирюльника, повертев головой. Должно быть, не у всех столь острое зрение, особенно в старости. Да и, будем честны, когда мужчины Воснии выглядели опрятно: брились, умывались, расчесывали колтуны? Я давно покинул остров и отчий дом. Больше не будет ни терм, ни ровных воротников, ни чистых простыней. Восния – край грязнейших людей. Людей хуже самой грязи. Для кого я вообще стараюсь?
Рут продолжал ухмыляться. Уж он-то знал, для кого.
– Пожилые вдовы будут в восторге, готов ставить на это все свои зубы, дружище. Такого они еще не видали.
«Приплывший из-за моря аристократ без земель вернулся с войны и ищет выгодный брак».
Разве у пьянчуги могла родиться идея получше? Да и я хорош: согласился же. Сотню раз пожалею, забуду про хороший сон…
– Только рожу сделай попроще. – Рут ткнул флягой в мою сторону.
Я глянул в зеркало в последний раз. И что не так с этим лицом? Грядущее корчило мне рожи куда хуже.
– Сталбыть, я сгодился? – напомнил о себе старик.
Я поднялся, кивнул и скинул медяк сверху: нет никакой вины цирюльника в том, что в Воснии все идет наперекосяк. Мы оседлали коней, не проверяя поклажу – воровать у нас теперь, кроме седел, было нечего.
Осенняя свежесть приглушала уличный смрад. Подмастерья суетились, гнули спины, вытирали пот со лба – полны надежд и заблуждений. Еще пару лет назад я был таким же. Шел под флаг, торопился на войну, полагая, что хуже бандитов Крига ничего быть не может. Что нет участи паршивее, чем выступать на турнирах, побеждая по команде, но куда больше – проигрывая, поддаваясь. Все ради того, чтобы золото со ставок попадало в правильные руки – руки моего хозяина, последней скотины, что держала меня на коротком поводке.
– Рожу, говорю, сделай попроще. – Рут почти прикончил то, что осталось во фляге, и совсем повеселел.
Единственный друг, который стерпел все и остался на моей стороне. Вероятно, я не заслужил даже этого.
После разоренного Волока улицы Оксола казались безупречными. Здесь и там возводили новые дома, пекли свежий хлеб. Сытые, румяные дети гоняли дворовых котов…
– Давай освежу тебе память, пока не поздно. Как зайдешь на банкет, будь вежлив: подавай руку, кланяйся и все такое прочее.
– Это и так ясно, – вздохнул я.
Рут глянул на меня с сомнением, вытер нос рукавом и продолжил:
– Я поспрашивал: вдов будет с лихвой, не проворонь ни одну. Гранже оставь напоследок, хоть она и моложе всех. У ней на содержании три любовника, и парочка из них – гвардейцы. Туда лучше не лезть, сечешь?
Я кивнул.
– Буду держаться подальше. Напомни: высокая, все лицо в родинках?
– Ага. Не женщина, а сплошная проблема. – Он почесал нос. – Впрочем, после твоей подружки из Крига эта – сущий ангел.
– Из Крига? Ты о ком? – Я сделал вид, что ничего не помню.
Приятель хмыкнул.
– Так или иначе, ближе всех к смерти старушка Йелен – бывшая жена казненного мятежника. – Рут смягчил горло сливянкой. – Чем ейный муж провинился, я так и не вынюхал, но ты в голове держи. Что еще…
Хромой попрошайка встал посреди дороги, явно нацелившись на нашу совесть. За шесть лет жизни на материке я не обнаружил сострадания ни у всадников, ни у пеших бедняков.
– Пошел вон, – огрызнулся я.
Видит небо, через пару недель мне и самому пригодится парочка медяков. Рут прикоснулся к рукояти ножа, и бедняк излечился от хромоты.
– Так о чем бишь я, – невозмутимо продолжил приятель, когда мы отправились дальше. – По поводу сестер Бринс: тебе сойдет любая. Светленькие, по волосам узнаешь. Да только сказывают, что доходы у них все хуже…
Я покосился на приятеля и перебил:
– Где ты это все разнюхал?
– Где пьют, там всегда хорошо болтают.
Ему ли не знать. Мы проехали забегаловку «Гусь». Осталось всего две развилки, чтобы повернуть назад, пропустить чертов банкет и сбежать.
– Про Бовилль и Карнаух я тебе уже докладывал. – Рут подцепил это слово после того, как ходил разведывать под флагом.
– Мгм. Держаться подальше от первой, подумать насчет второй…
– Нет, ты все напутал, – раздраженно сказал Рут. – Карнаух сама та еще охотница, к ней не суйся. Овдовела дважды за пять лет, и с отличным прибытком. За ней пастбищ не меньше, чем у Малор. Гиблое дело.
От подробностей начинала трещать голова.
– Выходит, Бовилль не так плоха – та крупная дама с жестокими сынками?
Приятель кивнул и поковырялся в зубе.
– Есть еще навозная графиня, скупщица скорняжных мастерских – мегера Малор. Поговаривают, что она свела мужа в могилу. – Рут поковырялся в ухе, в котором явно побывало слишком много сплетен за последние дни. – Отравила или извела мерзким нравом.
– Славная компания. – Я замедлил коня, рассмотрев шпили резиденции. – И как мне выбрать?
– Если у тебя вовсе будет выбор, приятель, – Рут дернул плечами. – Я бы надеялся на наименее худшую.
– Это которая?
Мы помолчали. Если уж и Рут заткнулся, дела мои плохи, нечего и гадать. Площадь приближалась. Острые концы башен резиденции торчали, как колья в охотничьей яме.
– Проще сказать, с кем не стоит водиться, – снова заговорил Рут. – Про Карнаух и любовничков Гранже ты все знаешь. А помимо… я бы остерегался графини. Ну, той, которая одного мужа извела.
Я усмехнулся, покачав головой:
– За два года я успел связаться с куртизанкой, которая пыталась прикончить все войско Восходов, и с оторвой, которая…
– Э-э, нет, приятель. Тут другое. Обо всех чего-то не договаривают, а графиня Малор известна каждому пьянице в округе. – Рут поднял палец к небу. – Ты дослушай, не торопись. У Венсель странные дела с банком Арифлии, о которых никто ничего толкового не расскажет. У Бовилль сыновья – те еще ублюдки, похуже твоих сотников…
– Наших. Бывших наших сотников.
– Ты слушай. Сестры Бринс в последние годы беднеют и безвозмездно дают в пользование славные земли под Квинтой. Венсель, Бовилль, Бринс, Карнаух. Один слух на каждую. Что же Малор? – Рут промочил горло. – Жестока, с отвратительным нравом, весь ее прибыток с наделов покойного мужа, а еще сказывают, что сношается она со свиньями, не подмывается годами и балуется искрицей в игорных домах. – Я поднял бровь, Рут уточнил: – Сечешь? Захочешь чего добавить или сочинить – уже некуда. Человек, у которого нету тайны, страшнее всех вместе взятых, коли меня спросишь.
Спрашивать о чем-либо уже не имело смысла. Мы прибыли на площадь.
– О, дьявол. – Мне захотелось вернуться к баллисте и требушету под стенами осажденного замка. Тихое, спокойное место. Враги за стеной и враги под чужим флагом. Все ясно и понятно.
На площади Годари все одновременно могли стать мне друзьями или врагами. Новые лица и никаких правил. Почему-то гвардейцев в этот раз было меньше, чем два года назад, когда я впервые встал под флаг.
Зал для банкета выбирали без усердия: невысокое здание с кованым забором и крупными окнами на фасаде. При входе скромные ворота. Не дворец – с тем же успехом внутри могли соорудить ристалище.
– Рожу попроще, – напомнил Рут.
Кожа на лице зачесалась, и я потер подбородок.
– Я слышал, женщинам нравится неотесанная грубость.
– Этого в тебе точно нет, и не мечтай, – прыснул приятель.
В последнее время я вообще не знал, что во мне есть хорошего. Тем более для воснийских вдов. Приятель слез с кобылы и привязал ее.
– Бывай. И чтоб к утру вернулся женатым!
– Дважды, – съязвил я, спешился и вручил Руту поводья.
Через две сотни шагов меня ждал самый страшный позор в жизни. Между мной и позором стояло последнее препятствие – охрана.
Я прочистил горло и посмотрел в глаза привратнику. Здоровяк без шлема, в короткой бригантине, а рядом с ним тощий восниец в старом нагруднике – прихвостни Варда влегкую перебили бы весь банкет, не вспотев. И за что им платят жалование?
Я сдержанно улыбнулся и протянул ладонь:
– Добрый день!
Здоровяк покосился на меня сверху вниз, но руки не пожал.
– Меня зовут Лэйн Тахари, я по приглашению.
«Если приглашением можно считать пару золотых, оставленных в кармане клерка».
– Что-то я егой не припомню, – сказал сосед здоровяка.
Все внимание двух охранников безраздельно стало моим.
– Мы с вами и не могли повстречаться. Несколько дней тому назад я вернулся с запада, после похода на Волок. – Глаза здоровяка только сощурились в подозрении. – Бился с Долами под командованием господина Эйва Теннета и одержал победу. – Оксол хуже деревни, никакого узнавания на пустых рожах. – Мы взяли замок Бато, мятежного лорда…
– Что-то я о таком не слыхал.
Я потер уголки глаз у переносицы и выдохнул:
– Господин Годари лично выехал из ворот Оксола с месяц назад, чтобы повесить свой герб на воротах замка. Под Волоком, на гиблом всхолмье…
– Что-то я такого не знаю, – все больше унывал сосед здоровяка.
«Любопытно, хоть один из них научен читать, чтобы свериться со списком?»
– Я не тороплюсь, – солгал я. – Подожду, пока вы проверите имена гостей.
Охранники переглянулись. Один дернул плечами.
– Дак нету никакой бумаги, милорд. Мы ж грамоте не тогой, – хихикнул он, а здоровяк притих, будто вовсе про меня позабыл.
В зале за широкой дверью уже начали банкет. Подвижек не было. Возможно, общение с вдовами – наименьшая из моих проблем. Молчание затянулось.
– Дорогу, – окликнул меня грузный восниец со свитой.
Я посторонился. Ворох цветистого тряпья прошмыгнул в арку.
– Доброго денечка, господин Кумывах! – раскланялся охранник запоздало.
«А может, этот умник из канцелярии просто нагрел руки и был таков: нет никакого списка и не бывает никаких приглашений для чужаков вроде меня? Даже за золото».
– Я подожду, – повторил я с меньшей уверенностью.
– Списки нонче им подавай…
– Кто вас приглашал? – удивительно спокойно спросил здоровяк, который и был главным, судя по всему.
Кажется, клерк упоминал чью-то фамилию. Дьявол… Как его звали? Гремер, Грабаль, Горваль? Я выпрямился и сказал так, чтобы неучи не разобрали и половины слогов в фамилии.
– Приглашение я получил от господина Граваля.
– Как-как?
– Что-то я такого не припомню…
– Гербаля!
– А-а, Горваль, – протянул здоровяк и переглянулся с соседом. Тот посмурнел и сплюнул на лестницу. – То – дело другое.
После этих слов он шагнул ко мне и по-хозяйски обшарил руками почти все места, где можно припрятать большой нож. Я держал руку на кошельке: здоровяк дважды полез к поясу, будто не видел, что там не висят ножны. Кто же прячет оружие на самом видном месте?
«Наверное, те же люди, которые платят клеркам, чтобы попасться на глаза влиятельным вдовам».
– Все? – уточнил я, когда рука снова потянулась к моим деньгам. – Там только медь, брать у меня нечего.
«Все ушло на гребаный плащ, новые сапоги, цирюльника, мыльню и три ночи пьянства, пока я мирился с неизбежным».
Почему-то здоровяк не отошел, когда закончил искать железо.
– Ну иди, смельчак, – сказал он тише. – С такой рожей тебя, того гляди, пристроят…
– К лорду Бринсу! – хрюкнул сосед. – Слыхал я, он страшно одинок.
Он так мерзко ухмыльнулся, будто я пришел свататься к нему или его старухе. Или будто стоять у дверей – роль почетнее, чем стать первым мечником в Криге.
Двери мне никто не открывал и не придерживал. В проеме показался отощавший мужчина в вытянутой шляпе. С неохотой уступил мне дорогу.
– Зря вы сюда наведались, здесь счастья нет, – грустно заметил он, покидая банкет, едва тот начался.
– Как и нигде в Воснии, – я пожал плечами и вошел в просторный зал.
Без мечей, в тонком дублете и ярком плаще я чувствовал себя абсолютно нагим. Высшее общество Оксола уставилось на меня не хуже солдат Долов: казалось, сейчас принесут столовые приборы и начнется резня.
Впрочем, такие, как я, не заслуживали ни приветствий, ни долгого взгляда. Гости банкета быстро вернулись к своим делам.
Все, как и говорил Рут. Вдовы, благородные семьи, гвардейцы и прилипалы вроде меня. Вот в самом углу шепчутся представители Восходов – три здоровых лба, сыновья Бовилль. Ждут, когда их пожилая матушка ляжет в гроб, осчастливив наследством.
Самые сытые люди города. Я знал, что им отошли хорошие земли под Волоком, в самых предместьях. Земли, за которые я проливал кровь и сам дважды чуть не простился с жизнью. Земли, в которых оставил больше друзей, чем приобрел за время похода.
Двери в зал снова распахнулись, и голоса притихли.
– Милорды и миледи! Главное блюдо от господина Соултри!
На стол подали огромный поднос с крохотными обрезками. Снова зазвучал хор голосов.
– Подкопченная дичь! – выкрикивал другой слуга, будто торговал на базаре. – Из угодий Ее величества…
Одновременно работали десятки ртов: перемывали кости друг другу, причмокивали, пробуя вино и мясо, кривились в фальшивых улыбках или скрывали мерзкие тайны.
Молчали эти рты о том, что госпожа Карнаух овдовела дважды, и оба раза – весьма выгодно. Молчали, что сыновья леди Бовилль вешают молоденьких служанок на заднем дворе имения. После чего или перед чем – молва не уточняла. Молва…
Я бы не верил слухам, если бы не знал, каковы воснийцы на самом деле.
Под расписным потолком собрался весь цвет Оксола: Восходы, дальние отпрыски династии Орон-до, местные повелители пшена и стали, разбогатевшие лавочники севера, воротилы поланских хребтов. Наши чувства были честны и взаимны: не глядя на статус и достижения, счета в банке и ухоженный вид, я ненавидел их всех одинаково.
За ближним столом спорили вдова Гранже и командир гвардии:
– Может, вы будете так любезны и приструните головорезов у рыночной площади?
– Помилуйте, вы их точно спутали с зазывалами Виго, никакие они не бандиты. Просто, э-э, своеобразны, весьма. Да будет вам известно, в Оксоле уже десять лет как не встречалось ни одной банды…
– Что же, дела в городе так плохи, что и бандиты чураются наших улиц?
– Мама, прошу вас! – воскликнул гвардеец и начал что-то лепетать вполголоса.
Я осторожно обошел их стороной. Возле окованной бочки с вином шептались сестры Бринс. «Светлые волосы», как же. Каждая из них сгодилась бы Руту в матери.
«Немного обаяния, дерзай!» – советовал приятель. Я не представлял, как можно быть обаятельным с людьми, от которых хочется бежать.
Присвоив свободный кубок со стола, я подошел к бочке и наполнил его. Вдовы Бринс говорили очень громко и явно имели проблемы со слухом.
– Глянь, еще один попрошайка с Излома, – сказала одна на ухо своей сестре.
Впрочем, проблемы у них водились не только со слухом, но и с тактом. Я пригубил вино и отошел подальше. К счастью, совсем недалеко стояла вдова Венсель, и даже не была занята: перебирала угощения вилкой, явно задумавшись о своем. Сухопарая, с продолговатым лицом, безупречно одетая. Не самый худший вариант.
– О, нет-нет-нет, – почти взмолилась она, едва мы встретились взглядом, – мне вас не надо, хватит с меня!
– Но, позвольте, мы даже не знакомы, – вежливо улыбнулся я.
– Поверьте, будь вы хоть чем-то мне полезны, я бы давно нашла вас сама. Пойдите прочь! – Венсель едва сморщила нос, приподняла юбку и отошла в другой конец зала.
На столе осталась брошенная вилка, судя по всему, из серебра. Я сохранил невозмутимый вид и угостился с соседнего подноса, будто так и было задумано.
– Смотри, ко всем лезет, – так же громко судачила за спиной одна из сестер Бринс.
Угощение оказалось безвкусным. Место Венсель вдруг занял поланский аристократ в летах. Сразу же за его спиной и сбоку от меня возникли гвардейцы. Не местные – другой доспех и цвет на рукавах. Кусок застрял в горле.
– Господин Лэйн, – расплылся поланец в хищной улыбке. – Рад, рад. Так и знал, что вы быстро подыметесь.
Я осторожно проглотил плохо пережеванное мясо. Поланец продолжал:
– Оно и ясно. После короны турнира – как не подняться? Какие-то два года. Все по заслугам, скажу я вам. Ах, какой славный был поединок! – он закатил глаза, будто не видел ничего лучше. – Раздели Беляка, как девчонку. А Лэнгли, этого бездарного свинопаса? Как вы его, хватило бы и одного меча!
Похвала в Воснии пугала больше, чем оскорбления. За спиной поланца кто-то знакомился с вдовами, пока я прохлаждался.
– Благодарю, э-э, не знаю вас по имени…
Охрана поланца посмотрела на меня с презрением, будто я плюнул в знатное лицо.
– Ах, если бы мой сын хоть наполовину был бы так же хорош, как вы, – вздохнул поланец, пропустив все мимо ушей. – Дурная кровь! Настоящее проклятие. Не зря старый провидец Грэм сказал мне в ту ночь: ослабеет твой род…
– Прошу меня извинить, – я осторожно вклинился в эту тираду и склонил голову, – но я крайне занят, пришел по делу.
Поланец погрустнел и приблизился. Положил мне руку на плечо:
– Где же мои манеры, вы абсолютно правы! Что же, не держу вас. – Он убрал руку. – Возвращайтесь, как будете свободны. Мне есть что вам предложить, господин Лэйн.
Люди с предложениями. Валун Вард и его бандиты в Криге. Таким сотрудничеством я наелся сполна.
Какое-то время я избегал хищного взгляда вдовы Гранже, пока дожидался, как освободится неуклюжая Бовилль. Из обрывков торопливой беседы я понял, что на банкете она обсуждала железный рудник возле Красных гор с каким-то купцом. Но и с ней знакомство не сложилось.
– Идите дальше к своим поланским дружкам, – фыркнула она, обмахиваясь веером. – От вас несет.
Возможно, некоторым женщинам не по душе запах мыла. Я не стал спорить и вернулся к столу. По счастью, поланец куда-то пропал, и я остался в одиночестве. Копченая дичь оказалась не такой безвкусной, хоть ее почти и не пробовали другие гости. Признаться, дичь – лучшее, что было на чертовом банкете.
– Вы, я слыхал, с войны вернулись?
Почему-то ко мне в друзья постоянно набивались одни мужчины. Вот и этот объявился, словно его ждали. Купец с обветренным лицом. Пришел без свиты и охраны, почти такой же несуразный, выходит, как и я.
– Ищете работенку? – прогундел он, вместе с этим стараясь проглотить как можно больше мясных рулетов с подноса.
Я покачал головой. Работенки в Воснии с меня хватило.
– Ищу свой дом. Место, где…
«Где меня будут ждать? Где я буду наконец-то свободен?»
Рулеты один за другим исчезали с подноса. Купец внимательно слушал, не забывая жевать. Я уже и сам не знал, что ответить.
– У вас даже дома нет? – уточнил он, окинув взглядом мою одежду. – Ну и времена настали. Может, скажете еще, что вы без права на меч?
Удивительно, компания голодного купца оказалась приятнее прочих.
– Я беден, но не настолько.
Рулет замер на пути ко рту. Мой собеседник поморщился, положил его обратно. Ушел, ничего не сказав.
Осталось два стола, за которыми я мог найти новое унижение. Вздохнув, я отправился к компании вдовы Йелен, самой пожилой из гостей. Кругом, как стервятники, уже пристроились другие гвардейцы, торгаши и странный солдат, что был одет проще, чем сотник в походе.
Поздороваться я не успел – меня, будто случайно, оттеснили к концу стола. Я сделал несколько шагов назад, чтобы не упасть.
– Ох, вы не могли бы отойти? – громко сказал дородный мужчина.
При этом сам никуда не спешил, оставался рядом. Ошивался поблизости, словно карманник. Я увидел, как госпожу Йелен повели к выходу.
– Вы что-то хотели? – устало спросил я.
Снова эта гримаса. Отвращение, ненависть, презрение? Должно быть, все сразу.
– Удивительная наглость, – почти шепотом объяснил мне мужчина, явно опасаясь привлечь внимание. – Ты вообще откуда всплыл, мальчик? Да ты хоть знаешь, сколько мы здесь стараемся, чтобы вот так стоять рядом? Я три года…
– Шесть лет.
– Что?
– Шесть лет я пахал, чтобы оказаться здесь.
Собеседник поджал губы.
– Теперь это называют работой? Когда мужчина идет в шлюхи? – прошипел он совсем тихо, а затем добавил громче: – Падение нравов! Никаких устоев…
Из вдов остались только леди Карнаух, сестры Бринс и дылда Гранже, сверлившая меня пристальным взглядом, равно как и ее свита из гвардейцев. Остальных я не узнавал.
Вместо старой жены я приобрел только новых врагов.
– Падение нравов? – я сдержал улыбку. – Под Волоком мы жгли деревни, казнили женщин, вешали наших солдат за кражу хлеба. Убивали детей, лгали друг другу, крали чужой скот и так долго пытали сотника Долов, что на третий день кто-то перерезал ему глотку. В ночь, из жалости.
– Э-э, – собеседник отшагнул и стал искать взглядом охрану.
– Падение нравов, – повторил я. – Поверьте, я только начал. Вхожу во вкус. – Я поднял кубок, словно пил за его здоровье. – Куда же вы?
Так я и остался совсем один у опустевшего стола. Голоса становились громче: пышная дама опьянела и почти лупила соседку по плечу, умирая со смеху. Горбатый сержант торопливо водил ладонью по спине вдовы Венсель, полагая, что никто этого не замечает. И был прав – кроме меня, в несчастном углу никого и не было. Уверен, даже стоя здесь, в десяти шагах, я все равно не существовал для Оксола.
С открытой лоджии повеяло осенней сыростью. Я залпом прикончил выпивку, взял добавку и поднялся к балкону, глотнуть свежего воздуха. В саду под окнами пролегли длинные увечные тени от поредевших крон и косых ветвей. Я пил и смотрел, как слабые листья срываются, кружатся в предсмертном танце и падают в грязь. Две золотые монеты таяли с каждым глотком. Золото, потраченное впустую.
Стоило бы вернуться. Улыбаться и кланяться, как говорил Рут. Вот только казалось, что, если я еще раз увижу расписной потолок и эти лица, меня вывернет на чьи-нибудь высокородные ноги.
«Эта идея изначально была обречена на провал. И о чем думал этот пьянчуга? – Я потер лоб пальцами и прикрыл глаза. – Нет, о чем думал я?»
Шесть лет назад я бежал из дома, чтобы ни перед кем не пресмыкаться. Отказался от наследства, крова, верного будущего ради свободы. Поклялся себе, что сам буду решать свою судьбу без уступок чужакам. Не прошло и месяца, как я связался с бандитами, угодил на цепь. Потом обещал, что пойду на любую низость ради цели: крал и лгал, убивал, льстил фанатикам и болванам. А по итогу лишь чудом уцелел. Теперь я дал слово, что пойду иным путем, самым легким. Тем, которым и стоило идти с самого начала…
И не выдержал и часа в компании воснийской знати.
«Посмотрите, дамы и господа, экая безделушка: клятвы, которые дает Лэйн Тахари самому себе!»
За спиной послышались неторопливые шаги. Если желают подкрасться и напасть – шагают тише. А еще сложно ступать так мягко, если ты гвардеец при доспехе или раздобревший купец. Меня окликнули:
– Выход на первом этаже. – Голос низкий и хриплый, но не мужской.
Я чуть повернул голову. Рядом встала невысокая воснийка в дорогом платье и навалилась локтем на ограждение. На вид ей было лет под сорок. Точно чья-то влиятельная жена.
– Или вы решили остаться? – чуть улыбнулась она.
Я дернул плечами и ничего не ответил.
У нее был длинный хищный нос, как у плотоядной птицы, и такие же цепкие тощие узловатые пальцы, которыми она держала бокал и ограждение на балконе. На лбу между бровей пролегала глубокая тревожная полоса. Я промолчал и не стал дальше разглядывать гостью, предпочитая ухоженный сад.
– Вижу я, болтать вы не любите, – продолжила она. – Вы – человек дела.
Я еле удержался от смеха:
– Зависит от того, что за дело.
Она заправила темную прядь за ухо, показав золотые серьги размером с пол-ладони. И улыбалась, будто владела всем вокруг.
– Дело. Хм-м. С чего бы мне начать? Например, с короны турнира в Криге? Или захвата земель Волока, острога «Святы земли» и замка на гиблом всхолмье, – она сделала глоток, – победы над старым змеем Бато, которого обходили стороной не один десяток лет…
Ледяной ветер пробрался под дублет. Я осмотрелся: на балконе мы все еще находились одни, но у дверей с той стороны стояла охрана. Не мои друзья, тут не стоит и гадать.
– Мы знакомы? – я покосился через плечо на собеседницу.
– Еще нет. – Она улыбнулась и выплеснула остатки вина в сад. – Меня зовут Жанетта Малор. Могу поспорить, обо мне вы слышали не меньше, чем я о вас.
II. Чудеса, старые и новые
Тень Вуда шевельнулась: неестественно длинная черная рука потянулась к сплющенной голове, и пятерня приросла к тому месту, где обычно торчит ухо. Затем, судя по движениям, то ли поковырялась в носу, то ли почесала бровь.
«И знать не хочу».
Яркий дневной свет красил гардины в морковно-алый, заставлял лепнину на потолке мерцать, отражался от серебряного кубка, рисуя крохотный нож на лакированной столешнице. А еще этот свет нагревал оба ковра – один лежал под моими ногами, второй… Поверх второго тень Вуда тщательно вытирала что-то о штаны. И этими руками меня пытались защищать последний год?
– Немедленно умойся, – приказала я, глянув через плечо. Вуд молча подчинился. – И купи уже себе носовой платок!
Я вздохнула и постучала пальцем по столу. Неужели все, что может прийти в голову скучающим горцам, – подобная низость? Псы – они и есть псы.
Джереми, почти как щенок, суетился, то и дело поглядывая в окно.
– Запаздывает… А еще зовется графом! И что он о себе возомнил, миледи?
Здоровенная ладонь Джереми перевернула часы. Тонкая струя песка коснулась стеклянного дна, но не успела его заполнить – дверь в кабинет отворилась. Вместо Руфуса объявился Вуд, полагая, что руки можно помыть за несколько секунд.
– Последнее время все мнят о себе слишком много, – я подняла бровь и посмотрела на горца. Тот без раскаяния устроился в прежнем месте – за спинкой моего кресла.
Я вздохнула еще раз и переложила сверток с картой левее. Большой стол в большом кабинете. Большие ставки.
«Кто владеет золотом, тот владеет миром», – говорил отец. И, как всегда, был прав.
Гувернеры и подавальщицы, наемники Гарготты и капралы Восходов, шлюхи и барды, клерки в канцелярии и стряпухи его Величества. Все они жаждут одного – хорошей жизни.
Так уж сложилось, что в Воснии без золота ни о какой жизни не могло идти и речи.
Одно письмо, отправленное в нужный час правильному человеку, могло выставить на улицу тысячи семей. На мороз, в пещеры, в землянки. И погнать дальше, к горному хребту, в степи, в гиблые топи. Или, напротив, приманить, как мух, поселить в городах, вдали от родной семьи и дома. Заставить жить в тесноте и нечистотах, спать в затхлых углах, среди блох и вшей…
Такова сила золота. Потому стены моего банка никогда не пустовали слишком долго.
– Гости, миледи!
Небольшой сквозняк лизнул ноги – дверь кабинета отворилась: Джереми запустил посетителя. Руфус Венир пришел не один. Рядом с ним, не как прислуга, а как равный, шел ссутулившийся человек с невзрачным лицом и длинными руками.
Стоит сказать, что в эти дни по городу без охраны ходили только бедняки, ветераны Второго Восхода или сами охранники.
– Добро пожаловать!
Я улыбнулась, как обычно приветствуют старого друга. Это предназначалось Вениру. Улыбка стала чуть слабее и обозначила интерес к новому гостю. Интерес в этот раз был неподдельным.
– Мы знакомы? – спросила я.
Невзрачный гость заторможенно уставился в ответ, будто ошибся дверью и только сообразил, как оплошал. Длинная рука в перчатке потянулась в мою сторону, и стол уже не казался таким большим.
– Густав, – в Воснии женщинам нечасто пожимали руки.
Я протянула Густаву ладонь. Пальцы в черном накрыли мою кисть плавно и осторожно.
– Вы делаете мне больно, Густав, – поморщилась я.
В глазах нового гостя отражалось полное, всемогущее… ничто. Казалось, я смотрю в выжженную пустошь, на одно из сел, оставшихся после марша Восходов.
– Прошу извинить, – он так же безразлично отпустил мою руку и сделал шаг назад, – я давно не имел дел с женщинами.
Странный тип. А вот глаза Руфуса всегда выдавали его с потрохами: он в испуге переводил взгляд с моих псов на Густава и снова на меня.
– Это, э-э, Сьюзан Коул, – он не добавил слова «миледи» и даже не снял свой нелепый головной убор.
«Привести головореза в здание банка, чтобы меня запугать… – я удержалась от смеха. – Руфус, Руфус. С каких пор вы стали таким дураком?»
– Что же мы стоим? Присаживайтесь. – Джереми протащил стул по полу с крайней небрежностью, до мерзкого скрипа.
– Да, э-э, конечно… – Руфус рассеянно плюхнулся на сиденье, а руки спрятал под столешницей.
Его головорез обошел весь стол и расположился напротив. Сел так, чтобы слышать все то, что я скажу Руфусу. И не глядел, как любопытная ворона, по сторонам: не интересовал его потолок с лепниной, гобелены, безупречные люстры, роскошный стол и вырез моего платья.
«Отморозок похуже Вуда и всей его дикой родни», – заключила я. По счастью, Джереми уже встал за спиной головореза.
– К сожалению, половина часа – это все, что у меня есть. – Я встретилась с Джереми взглядом, и тот едва заметно кивнул. – Ведь вы опоздали.
Сказала – и тут же развернула большую карту на столе. Главный предмет нашего договора. На землях Руфуса проходила старая дорога к озеру, реке и десяти селам на востоке. Древесина, неплохие отрезки для пастбищ, часть реки, переправа.
– Мы вас не задержим, миледи, – почему-то вместо Руфуса заговорил Густав.
Вуд стоял так близко, что я слышала его дыхание за спиной.
– Прекрасно, что мы понимаем друг друга, – я сделала вид, что не заметила, как меня перебили. – Тогда как мы уже обсуждали с вами, господин Венир… Меня интересуют лесные угодья на востоке, доступ к дороге и переправе, – палец скользил по нарисованным рельефам, – а также свободный выпас между Сутулым холмом и белыми пещерами.
Руфус открыл рот, выпучил глаза, но не нашел слов.
– Полагаю, я могла бы просить и часть оброка с ваших сел. – Если бы они хоть что-то приносили последние два года. – Но я помню о старой дружбе. Мой отец настоял на том, чтобы дать вам послабление.
Я отвела глаза и вздохнула:
– Боюсь, годы сделали его слишком мягким.
На деле, мне бы хватило доступа к переправе и дорогам. Только отец верно сказал, что нужно просить всегда больше, чем хочется. И брать, если хватит сил.
– Вы не просто хотите получить с меня долг, – Руфус вытер лоб платком, – вам нужно загнать меня в могилу!
Густав молчал и слушал. Слишком внимательно для головореза. Спокойнее, чем мертвец.
Джереми перевернул песочные часы и громко заметил:
– Прошло пять минут.
– Вы ничего не получите, – прошипел Руфус, сжав кулаки. – А знаете почему?
За весь разговор он ни разу не обратился ко мне с уважением. Даже не снял свой нелепый головной убор. Единственный, кто пытался загнать в могилу Руфуса Венира, был он сам.
Вуд потоптался на месте. Я пригладила пальцами цепочку на шее и бережно заметила:
– Полагаю, мне точно известно лишь одно. Ваша жадность не доведет вас до добра, Руфус.
– … потому что я верну ваш проклятый долг!
Я тяжело вздохнула:
– Господин Венир, я слышу это от вас больше года. Не может из ничего взяться что-то, как вы и говорили…
Руфус ударил кулаком по столу:
– И верну прямо сейчас!
Я приподняла бровь и постаралась быть предельно деликатной:
– Полагаю, вы принесли все шесть тысяч золотых в вашем кошельке на поясе, господин Венир?
Вместо должника зашевелился Густав. Он медленно поднялся со стула, осторожно придвинул его к столу, так, будто не собирался больше возвращаться, и сказал:
– Пару минут, миледи.
Вуд фыркнул и что-то произнес на горном наречии. Двери закрылись, и в кабинете поселилась тишина. Руфус сидел, сверлил меня взглядом, не скрывая триумфа. Даже кожа на его лице не блестела от влаги. Странно, потому что Густав не спешил обратно.
Джереми ухмыльнулся и перевернул часы:
– Десять минут.
– Тук-клак-тук, – будто не специально, Вуд стучал пальцами по рукояти булавы.
Мой давний должник поерзал на стуле и покосился на горца.
– Э-э, вы не могли бы… потише, э-э…
Двери распахнулись, и в кабинет внесли крупный сундук. Настолько тяжелый, что оба носильщика обливались потом и шаркали ногами, подтаскивая ношу к столу.
– Вот! – Руфус просиял и сразу позабыл про Вуда. – Я же говорил, я говорил…
Крышку сундука открыли. Я привстала с места, чтобы увидеть содержимое.
«Золото, ну надо же».
Густав стоял себе мертвенно-спокойно и держал руки за спиной, как гувернер или убийца.
– Я требую бумаги о погашении долга! – разошелся Венир. Триумф на его лице выглядел так же несуразно, как и появившийся волшебным образом сундук, полный золота.
– Разумеется. После пересчета, – улыбнулась я, стараясь не скривиться. – Джереми, позови его.
«Что за бесовщина здесь происходит?»
Послышались грузные шаги – местному клерку стоило больше шевелиться и меньше есть. Удивительно, что он умудрялся быть расторопным.
Густав – эта невзрачная статуя! – так и стоял возле сундука, пока клерк пересчитывал монеты и взвешивал их. Джереми буркнул:
– Пятнадцать минут.
Звяк, дзынь, чирк, сопение Вуда. До чего мерзкий звук.
– Две тысячи уже есть, миледи, – отчитался клерк.
Сундук казался бездонным.
Удивительное зрелище. На моих глазах абсолютно нищий и задолжавшийся аристократ превратился в богача, не прошло и дня. Будто милосердная Мать солнца спустилась с небес и вывалила из подола целое состояние.
Только чудес в Воснии не видели уже больше века, если верить летописи. Я изображала довольство и слегка сдавливала подушечки пальцев.
«Кто помог тебе, Руфус? Бандиты, которые ограбили принцессу? Несколько благородных семей, что из жалости переуступили долг? Сам Король, явивший милосердие пьющему транжире? Быть не может».
– Все на месте, – клерк ничему не удивлялся. Впрочем, он и не знал истории Руфуса Венира. Простое маленькое дело – считать, взвешивать, записывать монеты. Сложное – не сойти с ума от такой рутины.
– Бу-ма-гу! – громче повторил Венир.
Вуд глубоко вдохнул. Я почти кожей почуяла, как ему хотелось отметелить этого недоноска в дурацкой шляпе. А может, отметелить графа хотелось мне самой…
– Вы меня приятно удивили, господин Венир, – солгала я и жестом потребовала погреть сургуч для печати.
Джереми откликнулся, перевернув несчастные часы:
– Тридцать минут, время вышло.
Потянув за толстую цепочку на шее, я вытащила фамильную печать. Тонкая вязь по кругу, изображающая листья папоротника и инициалы в центре. Не всякий умелец справится с такой работой. Печать моей семьи. Небольшая вещица, за которую многие отдали жизнь. Недоумки, которые решили, что подделать оттиск куда проще и быстрее, чем разбавить золото в фальшивых монетах.
Мир полнился недоумками. Одни брали в долг, не собираясь расплачиваться, а потом скандалили и просили отсрочку. Другие лезли их выручать…
«Что же ты предложил своим новым дружкам, Руфус?» – Я молча улыбалась, подписывая бумаги.
Клерк поклонился. Шесть тысяч золотых отправились в хранилище. Бесполезные шесть тысяч. Дороги и переправа могли бы склонить жадных поланцев к содействию, принести за десять лет куда больше, чем несчастный должок Венира. Дороги – артерии цивилизации. Свободные, просторные и надежные. Клей, который соединяет и уравнивает все стороны материка. За купцами с Красных гор подтянутся и эританцы, и кочевники с барханов, и даже самые далекие племена. Топи, болота, горы, равнины, степи, пустыни южан… Какая-то дюжина лет – и все это могло бы соединиться, расцвести.
Но недоумки предпочитали строить стены и проливать кровь.
– Доброго дня, миледи, – сказал Густав, и в его глазах все так же не было ничего теплого и живого.
Мой отец – почти самый высокий человек в северной Воснии. Его богатство, богатство моей семьи, не посчитать и за два дня всеми клерками материка…
И все же иногда золото остается просто золотом. Блестящим и бесполезным.
– До встречи, господин Венир, – я пожала руку, постаравшись выказать хоть немного уважения.
Он вернется вновь, если выживет. Привычка спускать деньги на ветер не исчезает в один день, даже если за тебя поручился сам король. А значит, мы еще посидим за этим столом.
Сколько времени пройдет, прежде чем мы дожмем его? Годы, десятилетия? Придется ли иметь дело с наследниками?
Время.
Единственное, что невозможно купить в полной мере. Неподкупное, жестокое, хуже любой бессердечной твари, которой редкие смельчаки называют меня, глядя в глаза. Проклятое время! Успеет ли отец застать плоды своего труда, дела всей жизни?
Сегодня Руфус Венир отнял у нашей семьи самое главное.
– Господин?..
Вуд снова запыхтел, и на то была причина.
Руфус Венир не торопился уходить. Он явно колебался, то бросая неловкие взгляды на Густава, который ждал его у двери, то оглядываясь в мою сторону. Созрел. Сделал пять шагов до стола, подошел близко-близко – явно не желал, чтобы у дверей слышали наш разговор. Я дернула подбородком:
– Что-то еще, господин Венир?
– Я, э-э, подумал… – Он с опаской покосился на Вуда. – Ваша матушка, Дана Коул… была прекрасным человеком. Я хотел, чтобы вы знали, э-э… – Он перешел на свистящий шепот: – Ее сгубили амбиции мужа. Вашего отца.
Он чуть приподнял свой бестолковый головной убор, склонил голову и отправился в город. Дверь еще не успела закрыться, а Джереми был тут как тут.
– Миледи, мне проследить за ним? – тихо спросил он, будто заделался в гончие и больше меня не охраняет.
Я едва заметно кивнула головой и добавила:
– Забудь про этого слизняка Руфуса, мне нужен его новый друг. Так и передай старухе Льен, – я вручила Джереми золотую монету.
В Воснии все почти наладилось: и с сестрами Бринс, и с госпожой Венсель. Не выделывались и граф Донби, и тот рыжий бастард, которого приставили к Волоку. Идиллия. Если бы не недоумки вроде Руфуса Венира. Возможно, повешение было бы лучшим решением для таких, как он. По крайней мере, самым приятным.
Я встала и обошла стол кругом. Постучала костяшками пальцев по дереву. Глухой, безнадежный звук. Ошибка.
Неужели я провалилась? Могла ли я знать?..
– Вуд, – я резко обернулась и потеряла мысль.
Горец что-то жевал. Страшно представить, что он носит это что-то за пазухой целый день, а потом тащит грязными пальцами в рот. Воистину, это чудо, что мои псы прожили так долго. Я посмотрела на него как на законченного идиота.
– Что, во имя всего святого, ты?..
– Смолу, м-леди, – он ощерился, и я увидела кусочки какой-то мерзости между зубов.
Я прикрыла глаза и покачала головой. Пусть это будет моей наибольшей бедой на ближайший год.
– Выплевывай и проводи меня до голубятни. Я не могу ходить по городу со жвачным скотом.
Вуд не обижался, когда ему хорошо платили. Он дернул плечами, сплюнул нечто в ладонь, и – о, святые боги! – положил сгусток в мешочек на поясе. Перепачканный, мокрый мешочек.
«Горцы», – сказал бы отец. Будь я мала, меня бы точно стошнило. Но я уже давно не «бельчонок», а Сьюзан Коул.
Я вышла из кабинета быстрым шагом, на ходу представляя верное письмо.
«Нам немедленно нужно встретиться, отец»?
Нет, это слишком размыто. Его заботы не позволяют встречаться с семьей из-за одной просьбы.
«Сделка сорвалась. Кто-то перехватил разоренного графа»?
Хуже не придумаешь. Взять и расписаться в собственном поражении, перевести хорошую бумагу. Первыми банкирами семейство Коул стало не оттого, что причитало о собственных неудачах, сокрушалось и скорбело. Нет.
В голубятне ворковали птицы. Я улыбнулась, переступив через порог. Слова сами легли на бумагу.
«Странный человек оплатил долг Руфуса Венира. Он пожал мне руку, не назвав моего имени».
Курчавый мальчишка достал рогатку и ухмыльнулся. Затем он крепко зажмурил один глаз и высунул кончик языка, прицелившись. Полагал, что его не видно за скамьями в рядах.
К сожалению, стоя у алтаря, я видел больше, чем хотел. Я вздохнул и аккуратно перевернул отсыревшую страницу.
– И сказала Мать двойного солнца…
Хлысть! Паренек с передней скамьи подпрыгнул, ойкнул, потер затылок и обернулся. Позади него мальчишка уже припрятал рогатку, но высунул язык еще больше. Обиженный пригрозил ему кулаком.
Я сбился с мысли, но быстро нашел нужную строку:
– С этого дня я встану на страже, сберегу ваш покой. И поднимется двойное солнце, ярче которого нет ничего во всем белом свете. – Я отпил воды из кружки и прочистил горло. Каменщик запрокинул голову, опасно задремав, накренился в сторону угла. Хмурая соседка и не думала его поддержать. Я продолжил: – И исчезнут тени по обе стороны от живых.
Старушка у чаши для подаяний громко чихнула. Ее соседи отодвинулись подальше.
– Так и стало, – я заговорил громче. – И последний проклятый род, род теней и их прислужников, людей с черными сердцами, был предан светлому суду!
На лице поденщика застыло глубокое непонимание, словно он брел в отхожее место, а оказался во дворце. Впрочем, я не был уверен, что местные понимали разницу. Я терял паству: братья-кожевники бочком продвигались к выходу, отряхиваясь от хлебных крошек. Уже у двери одного из них настигла совесть, и медная монета осталась в чаше. Я стиснул зубы, и служба прервалась.
Преподобный отец Мафони всегда наставлял, когда меня терзали сомнения: «Так ли важно, есть ли всеблагая Мать, верят ли в нее, если я смогу научить местных сердечности и доброте?»
Научить, как же! Я говорил, не веря, что меня услышат. Даже лучшие слова милосердной Матери падали, как снег в грязь, растворялись в тишине, не имея силы:
– …Будьте милосердны, почтительны к ближнему. Помните о добродетели. Не таите зла в сердцах! И ни одна тень не вернется в наш мир…
У местных могло вовсе и не быть сердец. Или ушей. Двое в задних рядах отворили дверь с противным скрипом и вышли в город. Парочка со второго ряда обернулась, явно подумывая уйти. Я заговорил о главном:
– Так и настанут светлые дни для Воснии. – Я тут же поправился, вспомнив, что уже давно не веду службу в Квинте: – Настанут они и в Эритании. Для всего материка!
Прихожане не впечатлились. Где-то позади щелкали орехи. Цирюльник, еще не побелевший после ночного запоя, качал ногой, явно дожидаясь, когда можно будет попросить у кого-нибудь пару монет до завтра.
Как ни прискорбно, но больше всех монет ждал я сам.
– Да славится имя всеблагой Матери, ибо…
Служба подходила к концу. Две трети скамей уже пустовали, но оставалась самая главная – заполненная треть. Моя надежда. Мой хлеб.
– …любовь ее безгранична, и все мы – дети ее, согреты солнцем и…
Я не успел закончить.
– Спасибо, святой отец! – тут же подскочил со своего места плотник, который обдурил меня на серебряк, когда поставил скамьи. Его загребущие пальцы уже отправляли сухари в голодный плотницкий рот.
И паства превратилась в стадо – голодное, мычащее, толкающееся и очень суетное. Я смотрел, как самая бедная часть города пихается локтями и дерется за хлеб. Старался милосердно улыбаться. Хотя казалось, еще два шага вперед, дальше от алтаря, и вместо хлеба набросятся на меня, растащат по частям, растерзают темными зубами…
– Пасиба, – пискнул Хин, послюнявил палец и собрал все крошки на опустевшем блюде.
Паства столь же стремительно поредела, оставляя после себя грязный пол, шелуху, странные пятна, и… зуб?
– Через пять дней, в это же время… – без особой надежды крикнул я в спины уже сытых людей, – …будет новая служба во имя Ее!..
– Дзынь-дзынь, – одиноко стукнула в чаше сначала одна медянка, потом вторая.
Я прищурился. Кажется, кто-то стащил третий медяк, оставленный одним из братьев. Дверь громко захлопнулась от сквозняка.
– Милосерднейшая из матерей, даруй мне терпенье, – прошептал я и помазал лоб, отгоняя темные мысли.
Хин уже вовсю гремел ведром, начиная уборку. Я растолкал уснувшего прихожанина, выслушал проклятья, заверил его, что сухарей более не осталось и проводил до порога.
– Прекрасного вам дня! – попрощался я с паствой, которая невразумительно что-то хмыкала в ответ или вовсе не отвечала.
Вдохнув сырой уличный воздух, я посмотрел на главный город Эритании. Небесный Горн. До чего странное название!
Кажется, здесь даже само солнце стеснялось собственного света и тепла. Позабыло, что в полдень ему положено греть человеческое лицо и руки, вселять надежду и светлую веру. Впрочем, за полгода жизни на болотах я и сам позабыл его теплоту.
Облака не думали расходиться. Так, изредка появлялась брешь или росчерк синевы. Будто город накрыло дырявой мешковиной и нам полагалось радоваться каждому скупому лучу.
Я не понимал, как мне положено нести учение Матери двойного солнца в краю, где прямой солнечный свет за жизнь видят раз десять. Не удивительно, что небольшую часовню то и дело приходилось отмывать от харчков, шелухи, огрызков и болотной жижи.
– Немного терпения, – процедил я сквозь сжатые зубы и принялся помогать Хину.
Вперед-назад. Половая тряпка, грязнее земли, собирала благодарность эританцев, оставленную в доме милосердной Матери.
– Как думаешь, Хин, – я разогнулся и вытер лоб ладонью, – зачем они вообще приходят к нам?
За что я любил этого проныру, так это за честность. Дети, сами того не зная, всегда говорили от сердца. Мальчик смел шелуху из угла и быстро отправил ее в ведро, не поморщившись. Работал он небрежно и торопливо. Так же и болтал:
– К вам, милсдарь, приходют, пушто сухари дармовые, и запивка есть.
Вот так. Никаких чудес. Впрочем, могло ли быть иначе? К тридцати пяти годам я обзавелся плешью на макушке, болью в спине и ворохом сожалений. Конечно, появилась и часовня, хоть назвать ее моей было бы настоящим богохульством.
Дела в часовне тоже шли не очень. Я покупал сухари, чтобы получать подаяния на то, чтобы купить новые сухари и не умереть от голода в перерыве. Работа с эританцами шла из рук вон плохо. Перебравшись в Горн по настоянию святого отца Мафони, я сделался похожим на лавочника и клерка, но уж точно не на проповедника, который спасет дикарей Эритании от их невежества.
– Как думаешь, слушают ли они то, что я говорю? – я спросил Хина, и мой голос дрогнул.
Мальчик шмыгнул носом и сделал вид, что не заметил один плевок у своей пятки.
– Откуда ж мне знать, милсдарь. У них и спрашивуйти.
Я доделал работу за Хином, добавил огрызки в ведро и вытер два плевка со стены. Не стал спорить. Да и кто будет слушать священника из чужой земли, который и сам не верит в свой успех?
«Милосердная Мать солнца награждает каждого по заслугам».
Видимо, мои заслуги за половину года все еще были ничтожны.
– И все-таки зачем так много плеваться? – задавал я вопрос скорее самому себе, споласкивая тряпку в уже помутневшей воде.
Хин молча драил полы без особого усердия.
– Разве же умеренность, милосердие и благодетели столь чужды местным? – спрашивал я Мать двойного солнца, а вернее, деревянную фигурку над самым входом.
Ее бюст или лик полагалось ставить при двери. Там она следит за тенями, что прячутся за каждым из нас. Прикрывает спину. Заботится и оберегает.
Хин сегодня закончил раньше, чем обычно. И оставил много грязи.
– С вас медяк, милсдарь, – напомнил он мне.
Такая работа не стоила и четвертины медяка, но я знал, что парень сирота. И, в отличие от меня, у него не было даже приемного отца. Я отставил ведро, вытер руки о замызганную робу и выудил монету из чаши.
Если уж и требовать от паствы благодушия, то начинать стоит с себя. Я отдал мальчику больше, чем тот заслужил, и потрепал его по волосам на макушке.
– Это не обязательно, милсдарь, – отдернулся он от моей руки, – медянки достатошно.
И ушел, ссутулившись. Я тоже был таким, пока отец Мафони не проявил ко мне доброту: позволил ночевать в молельне, доедать остатки обеда и даже раз в месяц купаться в бадье после него, пока вода не остыла.
– Да пребудет с нами мудрость и свет всеблагой Матери, – я помазал лоб пальцами, поклонился и убрал метлу. – Ибо безграничны чудеса для тех, кто верует. Для тех, кто…
В спине снова закололо. Я выдохнул и разогнулся. С переездом в край сырости и стоялой воды здоровье мое только уменьшалось.
«Ежели не случаются с тобой чудеса, значит, в них нет нужды, – говорил преподобный отец Мафони. – Однажды сирота Ольгерд нуждался в помощи, и помощь к нему пришла».
Кто бы спорил. Да только как давно это было? Возможно, все дело в том, что других чудес за последние два десятка лет я и не встретил.
Ольгерд из Квинты. Священник, который говорит про чудеса, но уже давно в них не верит.
Сухари кончались. Скоро, того и гляди, придется мне угощать паству корешками, которые я примусь собирать на выселках. И – да смилостивится Мать! – пусть они не будут ядовиты!
«Своя часовенка, ну обалдеть! – восхитился младший помощник в Квинте, когда меня отправляли в Горн. – Это же какие деньжищи, какая слава!»
Вытащив из ящика очередной серебряк, который мне вверила община, я подумал, что отец Мафони бесконечно мудр. Младший помощник не продержался бы и неделю. Часовня, как и светлая вера, только требовала вложений. И я не поспевал за ее запросами.
– Это последний раз, – сказал я себе тихо-тихо. – Ведь не может так статься, что два сезона ты слушаешь о светлейшей Матери, милосердной богине, защитнице и покровительнице всех нас… а сердце твое не тронуто?
В конце концов, что предлагали местные племена, дикари из когорт? Многобожие! Пойди-ка, припомни всех по именам! Любой священник или знахарь ногу сломит. Как тут доброму человеку разобраться? Да и разве же это вера, когда все местные божки друг с другом перегрызлись еще пять веков назад? Да и что сталось с землей – сплошная хмарь и сырость, гниение! Города такие, что, где погадил – там и отхожее место. Людей меньше, чем хибар, кругом полчища кровопьющих гадов, мука сыреет, сколько ее ни завози…
Ясно же, что с такими богами, с такой верой, дела никогда не станут лучше. Вот только верно говорил настоятель: «Протяни невежде руку помощи, тот ее не примет, ибо невежество хуже слепоты».
Стало быть, теперь я не только клерк и лавочник, но еще и врачеватель: лечу незрячих.
Я вышел, оставив часовню незапертой: дом богини принимает всех нуждающихся. А еще в нем нечего красть и давно нет никакого замка.
На Горн не спустился вечерний туман, и ничто не скрывало заплеванные стены и разбухшие от сырости ставни с дверьми. Я шел вдоль улицы, почти незаметный в старой робе. Сливался с косыми стенами гнилых хибар и полотнами серого белья, которое сушили под навесами…
– Добрый день! – замахала рукой девочка у развилки.
Я распрямил плечи и улыбнулся ей. Поднял руку в приветствии.
– Здравствуйте, юная леди. Вы были сегодня на службе?..
Широко распахнув объятия и так же улыбаясь, девчушка пробежала мимо меня.
– Дядя Заир, мы вас так ждали, – продолжила она уже за моей спиной.
Кряжистый и грязный боец, явно вернувшийся из когорты к дому, склонился и заключил девочку в объятия. Оставил на платье грязные следы. Руками, которые не знали, как правильно мазать лоб, отгоняя тени и сглаз. Руками, которые убивали и несли больше горя, чем добра.
– А… что же… прошу извинить… – еле слышно пробормотал я. На меня не обратили внимания.
Счастливая семья свернула к постоялому двору на востоке, и девочка тараторила без умолку, а некий Заир одобрительно посмеивался и изредка кивал. Ольгерд из Квинты не был нужен никому, даже за мешок дармовых сухарей.
– Здоровьица! – говорила друг другу чета пекарей.
– Как ваши дела? – спрашивали на перекрестке у единственного кузнеца Горна, который больше выпивал, чем ковал.
– Все ли хорошо ладится? – переживали друг за друга проститутки, попрошайки и плуты.
Я шел мимо и здоровался, получая косые взгляды в ответ. На втором этаже ночлежки распахнулись ставни, и кто-то опорожнил ночной горшок в полушаге от меня.
«Проклятье! Неужто вы ослепли?!» – хотел закричать Ольгерд, взрослый мужчина, который отдал этому городу всю свою заботу и доброту.
– Будьте внимательны! Вдруг кто-нибудь замарается? Хорошего вам дня, миледи Роуз, – ответил Ольгерд, святой отец первой часовни Горна, и чуть приподнял головной убор, под которым таилась плешь.
Ставни захлопнулись. Другого ответа не последовало. Я какое-то время подождал у входа в дом, прислушиваясь – не чеканят ли шаг по лестнице, не скрипят ли половицы на первом этаже.
Нет. Никому не нужен Ольгерд из Квинты, даже если вылить нечистоты ему на голову и не извиниться.
Впрочем, иногда меня замечали.
– Эй, не желаете ли починить ботиночки? Лучше всех чиню, не пожалеете! – окликнул меня подмастерье.
Ближе к центру города появлялись и другие ремесленники.
– Сыграй нам энту, как ее… – голосил подвыпивший стражник, – …про бабу дородную! Больно хороша…
– Может, и сыграю, – загадочно глянул на пьяницу дудочник. Намека не поняли. Музыкант уточнил: – Как сытно поем.
Вот как следует просить подаяния! У дудочника не было заплаток на плаще, не было и дырок в осенних шароварах. Даже обувь у него не боялась лужи.
– Доброго денечка! – я снова приподнял головной убор.
Ольгерд не был нужен и здесь.
«Вероятно, мне следовало заняться не душами, а духовыми инструментами».
Когда я отдалился от музыканта, ветер принес мне обрывки сплетен:
– Энто кто был? – спрашивал подвыпивший.
– Кажется, наш бондарь, – неуверенно ответил дудочник.
– У нас завелся бондарь?..
Я ускорил шаг. Дудочник дважды в сезон захаживал выпить наливку во время службы. А пьяница однажды остался ночевать в часовне, когда над Горном изливались грозовые тучи. Какой бондарь оказался бы столь щедр? Видит само двойное солнце, Мать испытывала меня. Проверяла верность заветам.
– Здрасьти, кхех-кхе, – небрежно поздоровался кто-то.
От неожиданности я остановился. Повертел головой: пустая дорога, наглухо закрытые ставни…
Из переулка, прихрамывая, вышел несуразный человек в смердящих лохмотьях.
«Старые куртизанки, плуты, ремесленники и нищие. Вот и все, кому нужен святой отец Ольгерд, а вернее, его денежки».
Я невольно отшатнулся и тут же раскаялся. Мать двойного солнца учила милосердию, а я стал его бояться, как болезни. В моем кошеле лежал последний серебряк без единого медяка. И как подавать, когда сам вот-вот окажешься в лохмотьях?
– Э-э, доброго вам, э-э… – я поглядел на пасмурное тусклое небо.
«Дня, вечера? Проклятье, что я несу?!»
Дрожащая рука нищего потянулась ко мне, ладонь повернулась к небесам. И без яркого солнца видно, кому из нас серебро нужней…
– Ну и выбор, а? – прокряхтел попрошайка и странно улыбнулся. Те зубы, которые у него еще оставались, были коричневыми, как влажная кора. – Подать, как положено, иль выполнить долг перед общиной? Маленький человек с двумя больши-ими, кхехе, долгами…
Я потоптался в грязи:
– Ч-что, простите? Мы знакомы?
Попрошайка постоянно то ли покашливал, то ли смеялся, опираясь всем весом на здоровую ногу. Он говорил неторопливо, но сбивчиво:
– О, хе-кхе, нет, простите. Так уж сложилось, что я знаком со всеми понемногу, когда настанет миг, а со мною – незнаком никто, покуда, опять же, этот миг не случится. – Ладонь нищего вернулась к лохмотьям.
Я часто заморгал:
– Ничего не понимаю, признаться, я…
– Вы из часовни. Матерь солнц, плюющаяся паства, кхе, и сыреют сухари на столе у алтаря. А еще этот мальчик, проныра, много берет и мало делает… Похоже, вы, хе-кхе, и впрямь святой!
Попрошайка стал держаться левой рукой за подмышку, будто был ранен или испытывал страшный зуд там, под балахоном. Я промямлил, стараясь не вдыхать запах сырости и грязного тела:
– Меня зовут Ольгерд, и я не святой. Просто несу Ее свет туда, где в нем нуждаются…
– Нужда, нужда, – прокашлялся или посмеялся нищий. – И святому человеку иногда нужно чудо, не так ли?
Я посмотрел в небо. Все заволокло тучами. Тени в Эритании всегда казались мне гуще и… длиннее? Впрочем, так и должно быть в мире, где не осталось чудес, только расплата за грехи. Я стою перед больным, возможно, умирающим человеком и не могу отдать последний серебряк во спасение.
Свет солнца слишком хорош для таких, как я. Тем более свет двойного солнца…
– И вот оно, ваше чудо, – вдруг широко улыбнулся нищий. – Собственной персоной, кхе.
Я с сомнением оглядел улицу. Безлюдная, темная, узкая – так и строили рядом с болотами, едва находили надежный уголок земли, куда не приходится вбивать сваи. Мы стояли вдвоем, а вся жизнь шла в десяти домах дальше, к центру, у рынка. Возможно, сегодня меня еще и ограбят? Рука сама коснулась кошеля.
«Простите, но я крайне спешу», – стоило бы мне ответить. Но тогда я не только откажу в милостыне, но и в простой вежливости. Отец Мафони учил меня другому.
– Что за чудо, кхе-хе, спросите вы, мой будущий друг? – не отступался нищий. – Я вижу то, чего никто не видит! Грядущее, о-о-о, сколько в нем горестей и бед!
Монета грела мои пальцы. Я подумал, что отдавать целый серебряк безумцу не имеет смысла – он потеряет его через день.
– Но не для вас, – продолжил попрошайка, – мой будущий друг. Или приятель, кхе?
«Может, милостыня для нищих безумцев – крохи чужого внимания?» – Я обернулся в сторону дороги.
– Простите, но я крайне спешу, и…
– Скажите мяснику под большим деревом, что знаете, кто взял кольцо.
Ветер с юга отнес запах нечистот дальше, и я глубоко вдохнул.
– Что? Какое кольцо?..
– Младший сын расплатился им за должок в карты. Местные, знаете ли, очень любят покидать их на стол за большие деньжата, хек-х, которых ни у кого и нет…
Я снова нелепо заморгал. Нищий сделал шаг в мою сторону, и я отступил на два. Он болезненно поморщился:
– Сегодня нищие подают вам, святой отец, хе-хек… – Снова эти ужасные зубы. – Откровение – чем не дар? Знайте, что в город спустится пламя. О горе, мое горе! – Он поднял дрожащую руку к небу и тут же продолжил: – Ярче дня не видел Горн.
«Будь терпелив к сирым и убогим, будь милосердным и благодушным», – говорил отец Мафони. И я очень-очень старался.
– Пожар? – я попробовал вернуть безумца в мир разума. – Позвольте, но ведь в городе страшная сырость, и за половину года я ни разу…
– Пламя заберет три дома. Одним горе – другим праздник, мой будущий друг! Примите в часовню всех, кто останется ночевать под небом, кхе. Особенно крупного воснийца с тремя одеялами и ослом.
– Позвольте, но…
– Скажите ему, что вы из Квинты, и предложите любую помощь. Не ослу, святой отец, кхе-хе, не глядите на меня так. Запомнили?
В серых, почти помутневших глазах нищего горела такая вера, что не встречалась и у отца Мафони. Может, чтобы верить так страстно, и правда нужно немного сойти с ума.
– Скажите ему это, слово-в-слово, и вы не будете знать нужды. Мы с вами славно сдружимся, не будет дружбы крепче, видел я. – Вклиниться поперек его речи было так же сложно, как спасать эританцев от невежества. – Но всему свое время. О время! Кхе-хе. Время станет вашей вотчиной, мой грядущий друг, святой Ольгерд. И над часовенкой, хе-кхе, повесят колокол…
В горле запершило, как на улице возле коптильни.
– Вы, должно быть, шутите? – я растерялся. – Вам хоть ведомо, сколько такое стоит? Настоящий колокол?
«Тогда и часовня станет всамделишная, а где такая часовня, там и подлинные верующие, спасенные души…»
Нищий медленно кивнул, оголив зубы, не знавшие ни золота, ни простого человеческого ухода.
– Сказка какая-то, – я помотал головой. – Провидение? Быть не может. Последние чудеса ушли вместе со всеблагой Матерью…
– О-кхе-хе, поверьте, я каждый раз сам дивлюсь, – он ткнул пальцами в сторону своих бледных глаз, чуть не задев ресницы. – Но эти глаза, этот дар – никогда мне не лгали. Самая верная штучка в этой глуши. – Нищий посмеялся или покашлял.
Глушь. Какое верное слово – глушь! Забытый светом и всякой милостью край, в котором и крупный город не лучше села. Я вздохнул:
– Мои прихожане и милосердную Мать считают сказкой.
– Сказки, тени, чудеса. Кех. Все, что нужно слепцу, – принять руку помощи, не так ли, мой будущий друг? Попробуйте. Послушайте совет старого Смердяка.
«Смердяк. Ну и имя. Впрочем, как еще безумцу называть самого себя? Нет, все-таки я должен ему помочь. Сама судьба свела нас».
Один медяк – малая плата за возможность искупить мои грехи перед Матерью.
– Послушайте, – я потоптался и убрал пальцы из кошеля, – вы не могли бы обождать пару минут, я только…
– Не стоит разменивать ваш последний серебряк, мой будущий друг, ке-хе. Я буду здесь через неделю. В этом же месте. – Он снова улыбнулся и уперся ладонью в стену дома, начав поворачиваться ко мне спиной. – Тогда у вас уже будет много блестящих монеток, видел я.
Я замер, хоть и стоило бы подать ему руку, как-то помочь. Нищий не прощался, но уходил. И все говорил, говорил без остановки.
– И в один из дней над вашей часовней отгремит полдень, или как это правильно, хе-кхе. – Он оказался между хибар и захромал в темноту. – И придется вам нанять кого-нибудь потолковее, чем малыш Хин. А то и четырех Хинов…
Удаляясь, он обещал нам крепкую дружбу. И все болтал про колокол, Хина, спасение душ, прихожан. А может, это я говорил про себя, даже когда лохмотья и запах вместе с нищим пропали за старым жильем.
Заморосил противный немощный дождь. Я стоял, позабыв про рынок, Мать двойного солнца и серую промозглую осень.
– Подумать только… – прошептал я.
Ольгерд, отмеряющий время, зовущий весь город на обед и отправляющий прихожан ко сну после вечерней службы. Нужный старина Ольгерд, с которого начинается утро.
Колокол над головой и больше ни одного переполненного ночного горшка.
На рынке – небольшой площади в грязи, присыпанной дробленым камнем, – было всего десять навесов и целая толпа. Последнее приключалось каждым утром и вечером из-за узких улиц. А еще – только рынок мог считаться средоточием досуга и городских сплетен. В пяти шагах от крайнего навеса начиналась питейная, что простора не добавляло. Утром мрачные пьяницы слонялись по рынку, подворовывая и выпрашивая еду, вечером дрались и гнусно пели, а во все оставшееся время искали подработку без явного усердия.
Если бы часовня на отшибе завлекла праздный люд, всему городу сделалось бы только лучше.
Я осторожно обошел три главные лужи при входе. В одной из них лежал то ли мертвый, то ли пьяный человек. Вздохнув, я склонился над ним и похлопал по плечу. Никакого ответа. Я прижал пальцы к промокшей спине и подождал. Тепло коснулось кожи, а плечо поднялось. Жив, дышит. Бездельник, пропойца и глупец, но все еще дитя Матери двойного солнца. Я закатал рукава.
«С вами все в порядке?» – спрашивал я три месяца назад, пока не получил по лицу.
– Нужна ли вам помощь? – эта фраза позволяла мне исполнить долг священника, сохранив зубы и нос.
– Мнг-мх.
По крайней мере, он еще в сознании и сможет перебирать ногами. Я оттащил пьяного в сухое место, стараясь не замечать косых взглядов. Возможно, у бедолаги завелось много врагов. А может, в Горне осуждали всякую добродетель. Откуда бы мне знать, что думают люди, когда со мной почти не здороваются и не разговаривают? Я же не провидец. И не безумец вроде Смердяка.
«Скажите про кольцо!», «В сыром городе будет пожар!» – болота сводят людей с ума…
Я положил руку на кошель и двинулся в глубь толпы. Под крупным деревом с узловатыми нагими ветвями действительно стоял навес мясника. Скорбное место большого искушения: я часто обходил его стороной, не имея возможности расплатиться.
– Свежий хряк! Утром еще бегал и под себя ходил, – громко врал мясник. Вчера я видел, как от этой же туши отрезали передние ноги.
Похоже, голодная осень выдалась не только у священников Горна.
Я постоял какое-то время в потоке людей. Все полгода женщины выпрашивали скидки и задирали платья, дети щипали кошели прохожих, мужчины грозились и толкались. В этом городе каждый безмолвно кричал о спасении. А я не знал, как убедить слепцов принять руку помощи, обрести светлую веру.
Мясник встретил мой взгляд, протер тесак замызганной тряпкой и глянул исподлобья. Потом дернул подбородком, и я знал, что он имеет в виду: «Бери или проваливай». Только безумец мог сказать такому человеку про кольцо, сына и какие-то долги в карты.
Опустив глаза к щебню, я протиснулся к ближнему навесу и попросил два мешка старых сухарей. Дождался сдачи, не пожаловав ни одного медяка сверху.
– Вы меня разорите, святой отец, – хихикнул рябой торговец.
Что ж, по крайней мере, хоть кто-то меня помнил в этом бедном городе.
Плевки, шелуха, хлебные крошки и грязь. Если преисподняя и существует, должно быть, в ней каждый день нет никаких перемен к лучшему. Я вытер лоб и выжал тряпку в ведро для грязной воды.
Шелуха, плевки, хлебные крошки…
– Пасибо, милсдарь, – буркнул Хин, когда я снова обеднел на один медяк.
Скрипнули старые половицы. Так в старой часовне остался единственный верующий – Ольгерд из Квинты. Никому не нужный святой отец.
Я искоса глянул на чашу для подаяний и совсем поник. Последние медяки. Какой уж тут колокол? Дожить бы до светлого дня, когда вместо сухарей я буду подавать свежий хлеб.
А еще приходилось много щуриться. Скорбный лик Матери, конечно, приглядывал за тенями в часовне, но света становилось все меньше: еще летом я перешел на две вечерние свечи вместо четырех, что раньше освещали каждый угол. Теперь в главном углу, ближе к алтарю, таяла единственная свеча. Алтарь тоже пришлось сместить чуть правее, дальше от сквозняков, чтобы не гасло пламя. Да и поясница болела меньше, если держать ее в тепле…
– Я слаб и немощен, – вздохнул я, поднялся и прикрыл дверь в часовню.
Затем, под громкий скрип половиц, добрался до алтаря и помазал лоб.
– Прими мое покаяние, благая и милосерднейшая из матерей… – Я крепко зажмурился, осторожно встал на колени. Жесткие доски впились в отощавшие ноги – стелить было нечего. – Грешен я в помыслах, предаюсь праздности и суете, почти утратил свой свет…
У мешка с сухарями что-то зашуршало. Проклятые мыши! Словно бы мало нам комаров, змей, мошкары и пиявок. Вечной сырости и…
– Мой разум блуждает впотьмах, а сердце черствеет, вопреки добрым клятвам, что давал я преподобному отцу Мафони… Не имею никакого права просить у тебя, всеблагая Мать солнца, о милости, и все же…
Мыши и то чаще заявлялись на службу, чем местные. Одна из них укрылась прямо под алтарем, полагая, что там ей самое место. Наглая, пухлая и пушистая, с черными блестящими глазами. Сидела и грызла что-то забытое в углу.
– Огрызок, – сказал я, позабыв, что обращаюсь к милосердной Матери, – и как он туда… Ох!
Повернувшись лицом ко входу в часовню, я уставился на скорбный лик Матери, висящий над дверью. Так, стоя за спиной, она прогоняет тени, что прячутся за нами. Тени, тени… Шорохи в темноте… Прогонять мышей и крыс – моя обязанность.
– Пошли вон! – бессильно закричал я на мышей, зная, что не могу подняться с колен, не завершив молитву. – Вон! Проклятье…
Мешок сполз по стене, и сухари рассыпались у скамей, как чистый снег зимой у Квинты. Светлейшего города, где отец Мафони всегда рад дать напутствие…
– Прочь! – я всхлипнул. – Прочь.
Под дырявой крышей часовни было уже два скорбных лика. Я вытер глаза и шмыгнул носом. Сквозняк доставал меня теперь и здесь.
– Проклятье…
Я еще раз вытер глаза грязным рукавом и переполз подальше, спасая дряхлеющее тело.
– Прости меня, светлейшая из матерей. Ничего у меня не выходит, – сказал я и зажмурил глаза еще сильнее – скорбный лик Матери смотрел в мою сторону. Казалось, даже под закрытыми веками я все еще вижу ее укор. – Если бы ты только могла дать мне знак, небольшую подсказку…
Прошло уже тридцать пять зим, а я все еще нуждаюсь в подсказках и напутствии, словно дитя.
– Одну небольшую подсказку!
Я зажмурился. Сжал колени пальцами. Прислушался изо всех сил, даже перестал дышать. В часовне, как всегда, скрипели ставни и выл сквозняк. Где-то наверху перекликались вороны. Скрип-скрип. Щелк!
Нет, это не дверь и не ставни. Я вскочил и прижался к стене, уставился на свод. В зияющих провалах между балками густела тьма. Что-то потрескивало, скрипело в массиве дерева.
– О, богиня…
Если потолок рухнет мне на голову – разве может быть более ясный знак от Матери, что мне не стоит позорить светлую веру своей службой?
Щелк. Я попятился к дверям, делая короткие медленные шажки. Лишь бы ничего не сломалось, лишь бы…
– А-а-а! – закричали на улице.
Я еще раз покосился на балки. С потолка не сыпались пыль и щепки, а треск и щелчки…
Гр-рум!
– Снаружи! – Я хлопнул себя по лбу и выскочил на улицу.
Болото переменилось. Крыши домов накрыл не тот привычный туман, который часто гулял по Горну к вечеру, а что-то иное. Сквозь завесу мелькали силуэты горожан. Паника, ведра, запах гари…
– Пожар! Пожар! – закричали за углом.
Над восточным кварталом бесновалось пламя.
Падали брусья, трещали скобы и дерево, истошно вопили женщины, а я стоял, уронив челюсть. Стоял и смотрел, как языки пламени поднимались все выше, обнимали ночлежку и пристройку, игорный дом, второй этаж узкой курильни…
Свеча. Яркий свет во тьме, прогоняющий тени.
– Был прав, – пробормотал я и уступил дорогу мужчине с полным ведром. Вода облила мои дырявые ботинки. – Безумец, провидец, Смердяк был прав!
Я прикрыл лицо рукавом и добрался до цепочки, передававшей ведра к очагу. Дым щекотал горло, слезились глаза, а я все равно говорил.
– Был прав! – Кругом царили безумие и суета, и только я видел знак Матери за большим несчастьем. – Прав!
– Ведра, тащите ведра! – кричали дозорные, спустившись с ворот.
– На помощь!
– Подавай, шевелись! В ряд!
– Чего встал, бондарь? Помогай! – в руки мне тут же всучили полное ведро.
В пояснице кольнуло, я сделал несколько неуклюжих шагов и пристроился к бреши в цепочке горожан.
– Да, да, – рассеянно улыбнулся я и то ли плакал, то ли смеялся, – солнце дало мне знак! Мать солнца…
Все на своих местах, все яснее, чем было когда-либо. Я там, где должен быть. Отступают тени перед Ольгердом из Квинты.
Подать вперед – тяжелый железный прут в ладони тянет вниз, холод льется на робу и в ботинки. Свобода и легкость на краткий миг. Ноша в чужой ладони. Вода стремится к огню, идет по рукам. Вода – королева болот. Потянуться назад – согретая ручка пустого ведра не задерживается в моей хватке. Вода. Пламя. Светлый город.
– Сын! Вы не видели моего сына? Кто-нибудь!
– Помогите, помо…
Бочки с дождевой водой пустели. Из хибар выбегали дети, взрослые. Так случилось, что улица переполнилась, и казалось, что теперь людей-то в десятки раз больше, чем домов в Горне.
– Еще воды, еще! – крикнула женщина в ночном платье, но не помогала.
– Как?! Откуда?!
– Глядите, перекинулось! Пламя перекинулось! Вон, вон!
– Не разойдется, – успокоил их я. – Слышите? – Я передал ведро дальше, пытаясь перекричать толпу. – Только три дома, четвертый уцелеет!
Так и случилось. Вспыхнули ставни из тонких досок, но пламя не успело перебраться под крышу, не схватило угол. Женщина забежала в крайний дом, толкнула створки наружу и принялась лупить мокрой тряпкой по искрящему дереву, больше мешая другим.
Суета, крики, детский плач. Я и не заметил, как ведра кончились. Ночлежка почернела и упала на дорогу, сырая и горячая одновременно. Курильня кренилась к западу: еще целехонькая снаружи, но выгоревшая внутри, точно человек, дружный с искрицей…
– Вот срань, – ругался плотник, сбивая тлеющие ставни топором. – Подсобите, бездельники!
Пламя быстро уняли на соседнем жилище. Все, как и обещал провидец Смердяк. Я стоял и не мог унять улыбку. Улыбался и сгорал от чувства вины одновременно.
Мать двойного солнца дала мне знак! Там, где обитают тени, свет должен сиять ярче всего, чтобы показать верный путь. Дорогу к истине.
В Горне еще никогда не было такого ясного вечера.
Три сгоревших дома. Десятки бедняков без ночлега, курильни и азартных игр. Люди, которые нуждаются в помощи и обязательно ее получат. Но это случится только вечером: у их пастора еще много работы.
На скамье, возле нетронутого огнем дома, валялась брошенная кружка. Я поднял ее, вытер от грязи рукавом и зачерпнул чистую воду из ведра. Взмокший плотник вытирал лоб и тяжело дышал, вытаращив глаза на пожарище.
– Всемогущие боги, – причитал он, глубоко заблуждаясь, – нижние и те, что оставили нас…
– Мать двойного солнца не оставляет никого, брат мой.
Я протянул ему кружку, не ожидая благодарности. Молитва прервалась. Плотник громко и жадно принялся глотать воду, не расставаясь с топором, на лезвии которого чернела копоть. Утолив жажду, он снова запричитал.
– О, боги…
– Горе. Страшное горе! – поддержал я его. – Но свет всегда найдет свою дорогу к сердцу, даже в самые темные дни, не так ли?
– За что, пресвятые боги, за что…
Откровение и истина приходят к людям всегда с запозданием. Дело пастора – оставаться рядом и мягко направлять. Я не торопился. Плотник отставил топор, уселся на прохладную землю и уронил лицо в ладони. Я постоял рядом с ним. Один раз похлопал по плечу, как делал преподобный отец Мафони.
– Все наладится, – пообещал я. – Мать всегда заботится о своих детях.
Даже о самых непутевых и очень-очень дряхлых, с большой досадной плешью. Я подал плотнику руку, когда он снова поднял лицо. Все мы, косматые и лысые, большие и гордые – просто кучка потерявшихся, заблудших детей.
– Спасибо, – буркнул плотник и с сомнением покосился на меня, – э-э, не помню, как вас…
– Ольгерд, – я широко улыбнулся. – Святой отец из часовни на востоке. Вы угощались сухарями на прошлой неделе.
– А-а… – В его отчаявшихся глазах не проступило узнавания. – Коли понадобится вам помощь, вы уж…
Я просиял и положил ему руку на плечо.
– Отчего бы и нет? Ведь все мы дети милосердной Матери и рады помочь друг другу! – Я обернулся в сторону рынка. – Скажите, вы, случаем, не знаете, где живет наш мясник? Я должен был кое-что ему передать.
– Ты в край рехнулся.
Рут шел по дороге и сотрясал воздух. Прохожие сторонились нас, и я не мог их винить. Мой приятель имел скверную привычку жестикулировать с таким рвением, что со стороны это могло бы походить на драку с невидимым врагом.
– Все уже решено, – я пожал плечами.
– Но не через две же, во имя всякой матушки, недели от встречи! Кто так сватается?!
Я прижал ладонь к груди и напомнил:
– Лэйн Тахари, первый мечник Крига, влипший в долги, и…
– Нет-нет-нет, погоди. Я ничего не всекаю, приятель. Как так вышло, что самая влиятельная вдова Оксола разнюхала все про тебя и первой подошла свататься? Тут дело нечисто. Это и ребенку ясно, дружище.
Похоже, Рут позабыл, что в Воснии ничего не шло как следует. Здесь грязное дело – естественное положение вещей. Я издевался:
– У цирюльника ты говорил, что пожилые вдовы будут от меня в восторге.
– Это я поддерживал! – вспылил Рут. – Будь ты хоть трижды первым красавцем сраной Воснии, это не играет никакой роли! За фаворитов не выходят, мой наивный друг. – Две девицы, завидев нас издалека, развернулись и скорым шагом отправились прочь. Рут их не замечал. – Миленькое дело! Ты что же, на острове не видел браков знати?
– Тогда не пойму, зачем мы здесь. К чему потратили последнее золото. И зачем я, черт дери, брился перед банкетом.
Хуже ворчливой старухи – мой единственный друг. Два года я слушаю его упреки.
Рут опрокинул в себя флягу, но не повеселел.
– Как у тебя все просто! Ни одно семечко не прорастает за час. Поначалу ты обхаживаешь, поливаешь свою вдовушку сезон-два. Потом уж как сложится.
С остальными вдовами Воснии у меня и вовсе ничего не складывалось. Признаться, я не старался, а еще совершенно о том не жалел. Мы прошли мимо часовни, и я будто невзначай спросил:
– Мудрый совет. Напомни, сколько жен у тебя на счету, приятель?
Рут насупился и пихнул горожанку плечом, не извинившись. Пропустил вопрос мимо ушей, настаивал на своем:
– Бах-трах – и под венец! Это как стать сраным рыцарем, едва получив капральский плащ!
Я шел по улице, улыбаясь. Пожилая вдова оказалась вовсе не старой и не страшной, понимала меня с полуслова. Сразу перешла к делу, уважая наше время.
«Жанетта Малор. Одна из самых влиятельных женщин Воснии».
Один крохотный ритуал, небольшая клятва – и больше не будет нужды никого резать, убивать и запугивать, влезать в долги. Дьявол! О такой сделке я и не смел мечтать, когда зашел на банкет.
Рут не унимался:
– Дерьмово это все кончится, запомни мои слова.
– Что же… – Я осторожно перешагнул через глубокую лужу: не стоит пачкать новую обувь. – Целую неделю мы копались в грязном белье местной знати. Без особого успеха, впрочем. Если ты так трясешься, у нас есть еще несколько дней, чтобы все выяснить.
Рут покачал головой и принялся грызть большой палец, будто сватовство грозило ему, а не мне. Неожиданно теплое осеннее солнце вышло из-за туч. Я прикрыл глаза и позволил себе радоваться тому, что имею.
– Без особого успеха – это ты верно сказал. – Рут продолжал портить мне настроение. – Уж не втрескался ли ты, во имя всякой матушки, в эту мегеру?
Я рассмеялся, вспомнив длинные тощие пальцы и вытянутое хмурое лицо. Мы свернули к торговой площади, и я заговорил тише:
– Признай, мы оба влюблены в ее состояние. И, раз уж так вышло, что я в долгах, а ты спустил последнее серебро…
– Но-но, – возмутился Рут и снова чуть не ударил прохожего, рубанув ладонью воздух, – пока ты бездельничал, я тут одну работенку разнюхал, платят славно. Сможем протянуть еще сезон, пока ты…
– Нет.
– Да погоди, дослушай сперва…
– Никаких работенок, Рут, – огрызнулся я. – Я за тобой в петлю не полезу.
Контрабанда, кражи, бестолковые драки. Не ради этого я вернулся в Оксол.
– … да и хватит с меня мертвых друзей.
Мы помолчали. Рут жестом предложил мне флягу, я покачал головой. Торговцы галдели, привлекая внимание к барахлу, носильщики пытались протиснуться, толкаясь ящиками и бочками. За спинами толпы я не мог рассмотреть ни одной приличной лавки с солониной. А приятель никогда не мог молчать слишком долго.
– И все-таки, как считаешь, чего ей от тебя надо?
Я дернул плечами. Наименьшая из моих проблем.
– Может, и впрямь приглянулся. Или ей нужны наследники. – Я вспомнил Сьюзан. – Или породистый цепной пес.
Если слишком долго думать о будущем, можно сойти с ума. Восния отучила меня от надежд и дальних планов. В любой миг может заявиться какой-нибудь господин Кромвель или головорезы Бато, друзья пустят стрелу тебе в спину, а женщина, с которой спишь, захочет твоей смерти. От случая не спасет ни одна стратегия. Не зря мудрый старик Финиам писал об этом в своей книге…
– В худшем случае я просто побуду шлюхой для старой вдовы.
– Всяко лучше, чем мерзнуть в грязи и рисковать шкурой, – тихо сказал Рут.
Я кивнул, присматриваясь к торговым рядам:
– Твоя правда.
Моя гордость уже не пострадает. Ее растоптали и закопали еще в Криге.
– Ладно, поживем – увидим, – смилостивился приятель, осушив флягу. – Надо бы к выпивке взять мяса с хлебом. Главное – не связываться с тем кучерявым недоноском, пускай сам жует свою конину за серебряк… эй, ты чего?
Я замер. Свадьба, графиня Малор, упреки Рута и чертова солонина разом потеряли всякую важность. Сердце бешено забилось о ребра, и на мгновение я позабыл, как дышать. Толпа разошлась, будто вода, разрезанная скалой.
В нашу сторону двигался огромный человек с блестящей лысой головой и неестественно широкими плечами. Время почти не потрепало его. Ледяной рыбий взгляд лениво скользил по лавочникам, их товарам. Искал выгоду.
«Нет, только не здесь. Только не сегодня!»
Взгляд не зацепился за нас. Едва огромная голова повернулась в сторону, я схватил Рута за плечо и затащил его за угол.
– Эй, что…
Меня колотила позорная дрожь. Уткнувшись лопатками в стену, я глубоко дышал и пытался думать.
«Два года. Прошло два чертовых года!»
Этому ублюдку мало моего коня, моей свободы и денег, моей жизни. Ему надо забрать абсолютно все! Я резко выдохнул и убрал ладонь с рукояти меча.
«Нет, прошло всего два года, а я понадеялся, что в Оксоле меня не найдут. Что я небольшой, совершенно ненужный человек».
– Да что стряслось? – Рут заговорил шепотом и осторожно высунулся к площади. Я рывком затащил его обратно.
Дети, игравшие в подворотне, разбежались.
– Дружище, послушай, так не…
Я резко ответил:
– Этот ублюдок нашел меня. Он здесь, в Оксоле! Я только что…
Крупная фигура мелькнула в проеме, и я вжался в стену еще больше.
«Не заметил? Не узнал? Сделал вид, что не узнал?»
Рут начал злиться:
– Да кто, во имя всех матушек?!
Я скривился и произнес одно слово. Проклятое имя, точно несмываемое пятно на одежде.
– Вард.
Все веселье приятеля как рукой сняло. Кажется, он даже протрезвел.
III. Их было трое
Нет слов печальнее: из крохотных, до смерти надоедливых дел, увы, и состоит большая часть всей жизни. Шуршало перо, царапая бумагу. Два крючка, черное на сером – дата выплаты, круглая цифра долга, один обреченный человек. К счастью, все скучнейшие дела не вечны. Едва слышно скрипнули петли, и буквы высохли быстрее: верхушку пера тронул легкий ветерок.
На пороге объявился Джереми, чуть не задев косяк плечом. Потоптавшись, он поклонился: макушка его могла бы опуститься ниже моей, только если бы пес встал на колени.
– Миледи, коли вам будет угодно, – робко начал он, – я только что от старухи Льен…
Большего говорить и не требовалось. Я вытерла перо, воткнула его в подставку и поднялась с места. Бумаги подождут. Началась интересная часть моего дня.
Джереми все так же стоял у выхода – впрочем, с небольшим отличием: придерживал мой плащ.
– Идем через двор, – сказала я, и крупные его ладони сдвинули засов, перекрывая доступ к кабинету из зала.
Тень горца бесшумно проследовала за нами – он не менял верхней одежды до первого снега. Так и щеголял в стеганке, словно в жилах у него плескалась раскаленная медь вместо человеческой крови. Этот пес не доживет до седины: Волок делался холоднее каждую неделю, забирая щедрую дань – стариков, больных детей и чрезмерно уверенных в себе простаков. Уже к обеду возле наших дверей шаталась толпа попрошаек: занять на дрова, вымолить поденную работу, надавить на жалость и воззвать к совести…
Отдай каждому из них хотя бы горстку монет, к утру они снова выстроятся здесь, еще более замерзшие и голодные, чем вчера. Жалость – точно яд, портит всех: и того, кто подает, и того, кто принимает.
Мы вышли через двор, не привлекая внимания. До ночлежки старухи Льен нам предстояло пройти не более пяти сотен шагов.
Город готовился к зиме: лица горожан становились угрюмее, и все реже я видела человеческую кожу. Люди превращались в шумные, дурно пахнущие мешки. На улицах снашивали нестираные стеганки, изъеденные молью плащи, в редких случаях – высокие сапоги, истрепавшиеся в голени и на носках. А что могло быть хуже, чем перештопанные рубахи из колючей шерсти? Только проклятые платья.
Я шла и осторожно прятала голову в плечи, стараясь, чтобы колкая шерсть воротника не касалась лица.
– Что, Густав? – коротко спросила я, когда мы свернули на улицу Податей.
Джереми потупил взгляд.
– Знаю не больше вашего, миледи.
Возле ночлежки Льен, как всегда, веселились дети. Сироты и отпрыски бедняков – все прочие сторонились этого небольшого поворота с удобными лавочками и покосившимся забором. И сторонились не зря.
Я посмотрела на второй этаж: там, под самым чердаком, поблескивал небольшой огонек лампады. Старуха любила вышивать даже по вечерам. Солнце как раз начало прятаться за крыши домов, разделенное надвое первой башней Восходов.
– Миледи, – позвал меня Джереми и толкнул дверь ночлежки.
Дети притихли и попрятались. Тут же, в коридоре, объявился сторож, оглядел нас и склонил голову.
– Старуха у себя? – зачем-то уточнил мой пес, выгибая грудь колесом, хоть ему и мешал доспех.
– Д-да, господа, вот толечко недавно поднималася…
Скрип дурной лестницы всегда выводил меня из себя. Сколько бы золота ни было, какой бы властью ты ни обладал, а все равно – шерсть платья колет через двойной подклад, передвигаться по городу все еще безопаснее по грязи, не привлекая внимания скакунами и каретой, а лестницы отвратительно скрипят во всех домах, кроме твоего.
– Кхм-кхм… – Джереми прочистил горло и постучал в самую прочную и новую дверь из всех. – Миледи прибыла!
От касания створка начала раскрываться в комнату.
«Добро пожаловать!» – обычно встречал нас приторный старушечий голос, и следом приходилось отказываться от вина и сладкого.
Но дверь распахнулась, ударилась о пыльный гобелен на стене, и не было никакого сладкого, выпивки, приветствий.
– Святые мученики… – выдохнул Джереми, раскинул руки, и я не сразу увидела, от чего он меня закрывал.
Старуха Льен прилегла в своей спальне, не добравшись до кровати с балдахином. Ночная ее сорочка окрасилась темными пятнами – угольные чернила, багряная кровь. Они же пропитали лист с донесением, на котором не осталось ни одной буквы – сплошная клякса размером с сам листок. Чуть дальше, у прикроватного сундука, рассыпались финики и узелок сушеной хурмы – та приманка, которой Льен собирала беспризорных детей, чтобы приручить, а затем приставить к полезному делу.
– Похоже, нашла, – задумчиво сказал Вуд, что-то гоняя под губой языком.
«Еще одна смерть. И почему в Воснии все всегда кончается кровью?»
Первым я пустила пса. Перешагнув порог, Джереми снова заслонил меня своим телом. Он достал оружие и только всем мешался, встав у прохода, как сонный мерин, и вглядывался в темные углы. Затем, убедившись, что в комнате нет никого, кроме покойной старухи, подошел к окну. Не иначе как помочь убийце – будь тот недалеко, на соседней крыше, – сделать два дела в один день.
Вуд вздохнул: кровь пролилась без него.
Я приподняла подол и шагнула в центр небольшой комнаты, стараясь не вступить в грязь. Огромная кровать, на которую Льен спустила целое состояние, занимала собой половину всего пространства. Джереми вдруг хлопнул себя по лбу, извинился и тут же заглянул под ложе, подняв клуб пыли, толкнув тело и размазав следы крови по полу.
– Никого! Но мы найдем этого ублюдка, миледи! – разогнулся он, зацепив наплечником балдахин. – Ох…
Я жестом приказала ему уняться и сесть на постель. Сама осторожно подошла к листку, на котором не осталось ни одного белого пятнышка, коснулась его носком сапога. Ничего здесь уже не спасти.
– Осмотри, – я кивнула Вуду, который бездельничал и что-то жевал.
Старуха Льен была еще теплой – кровь не успела застыть, блестела, напоминая крашеный алый атлас на развалах кочевников.
Я еще раз осмотрела комнату и покачала головой. Представить себе Густава в этой тесноте едва удавалось. Джереми не пытался никого убивать, но уже чуть не перевернул всю мебель.
– Ударили в горло один раз. Спереди. – Вуд пару раз чавкнул и не изменился в лице, когда перевернул тело старой знакомой.
Я вскинула бровь:
– Полагаешь, старуха повернулась к убийце, не успев позвать на помощь? Или, может, не ожидала удара?
– Ее убили здесь, – Вуд пожал плечами и дернул головой в сторону двери. На пороге не осталось брызг или следов. – Без драки.
На пятерне Льен осталось много крови, хоть та и была повернута ладонью к потолку, когда мы ее нашли. Джереми тоже это заметил:
– Зажимала горло, сталбыть? – голос его дрогнул. – Умерла тихо, одна, истекши кровью…
Горец не слушал его. Ощупал затылок старухи, осмотрел кожу в проборах седых прядей.
– Драки не было, – повторил он.
Вздор. Старуха знала почти всех в этом городе. Знала достаточно, чтобы не подпускать никого слишком близко.
– Может, миледи, эти подлецы ее придушили и уж затем приволокли сюда, пустив кровь? – старался умничать Джереми и все никак не мог найти удобное положение сидя.
– Нет.
Даже мне было видно, что шея старухи сохранна, без отметин. Если не считать уродливого прокола, похожего на укус огромного шмеля.
Вуд, не брезгуя, приподнял тело старухи, точно перышко, и проверил позвонки на шее.
– Целы, – утвердил он.
– Ох! – Джереми снова засуетился. Зашарил руками по кровати под собой, охнул еще раз, подскочил. Задрал покрывало и вытащил небольшой кинжал. Уставился на него, нагнав на себя суровый вид. – Ножик! Поглядите, как странно лежал, миледи.
– Стилет, – буркнул Вуд.
Такой часто хранили под подушкой или возле ложа. Особенно с тех пор, как Восходы пришли разорять местные земли, а в конце и вовсе повесили свой флаг над каждыми воротами. Но у старухи Льен были свои причины держать сталь ближе, задолго до второго похода. И, как видно, это ее не спасло.
Одним жестом Вуд попросил у Джереми оружие. Поймал на лету, перевернул за рукоять, поднес к свету – на лезвии уже засыхали следы крови, подтертые тканью. Затем Вуд наклонился к телу и оттянул край пореза на шее. Причмокнув, он хрипло заметил:
– Ударили этим.
Погибнуть от собственного стилета – какая дурная шутка! И пьяный не поверит.
– Или похожим ножом. – Я раздраженно повела плечами: шерсть платья колола меня не хуже клинков. – Кто-то явно решил посмеяться над нами.
– Миледи не в настроении шутить, – кивнул Джереми, хрустнув кулаками. За сегодня он уже раздавил несколько фиников, пнул мертвую старуху, порвал балдахин и останавливаться на содеянном не собирался.
Вуд нахмурился больше обыкновенного и стал прикладывать безжизненную руку Льен к ее ране. Я устала стоять в тесной комнате с двумя псами и сделала пять шагов до коридора. Бросила через плечо:
– Думаете, Густав еще в городе?
Бряцнул доспех – Джереми пожал плечами. А Вуд и не мог знать ответа: не отходил от меня ни на шаг за последние полтора дня. Он втянул воздух носом, на корточках обошел комнату, на удивление, ничего не задев. Наполовину залез под кровать, возле которой бестолково топтался Джереми, и вытащил деревянную плошку. А затем, утерев нос рукавом от пыли, принялся собирать финики с пола.
– Не вздумай их есть! В них часто водятся черви, – бросила я ему через плечо.
Только самонадеянный дурак, вроде Густава, мог так обойтись с моей работницей.
– Убили, ну надо же, – проблеял Джереми, сразу сделавшись меньше ростом.
И, главное, я никак не могла взять в толк – зачем? Залечь на дно, выбраться из города в ночи – легче легкого. Даже нищий аристократ может провернуть такое с бандитами в Криге. Детишки Льен, как и сама старуха, не могли бы удержать Густава в стенах. Зачем привлекать внимание, проливать кровь? Неужели Густав или те, кто стоит за ним, столь безнадежно глупы?
– Нелепица, – произнесла я тихо для самой себя.
За день старуха Льен могла встретиться с десятком горожан, собирая сплетни. С чего я взяла, что именно Густав нанес ей визит последним?
Есть в жизни вещи куда хуже скуки. Непонимание. Дана Коул.
Голова пошла кругом. Железистый запах крови и сырых досок. Бестолковое убийство и без того на ладан дышащей старушки. Убийство жены банкира, доброй, но несмышленой женщины.
Убийство. На следующий день после того, как я отправила надзор за Густавом.
– Миледи, как думаете – вас пытаются запугать? – Джереми отвлек меня от мыслей, оказавшись рядом.
Я стояла посреди старого коридора ночлежки, платье кололо плечи, и мне все совершенно не нравилось.
Скрипнули половицы – горец встал между нами и подметил так безразлично, словно говорил о пустяке:
– Их было трое.
В его руках оставалась плошка, почти доверху заполненная финиками. Часть угощения пропиталась чернилами и кровью.
– Кого? – устало спросила я.
– Детей.
Я еще раз посмотрела на края плошки. Если добавить туда пару фиников… Старуха Льен не была щедра: одно угощение за раз, чтобы не снижать его цену. Все сходится. Иногда горец пугал меня не только своей дикостью, но и смекалкой в самом грязном деле, которое только доступно человеку. Впрочем, платила я ему именно за второе.
– И они были здесь до Густава, – сообразил Джереми. – Должно быть, он выследил их, миледи!
– Нам немедленно нужно их найти, – я быстро указала на лестницу.
Джереми помялся и поднял на меня взгляд побитой собаки:
– А что с покойной?
В ответ я молча развернулась и заставила проклятые ступени быстро-быстро заскрипеть. Сторож ждал нас внизу, скучающим взглядом обыскивая углы под потолком. Я спросила:
– Кто был в гостях за последние часы?
Он медленно поднялся со скамьи. Стареющий бездельник, которого содержала Льен.
– Детишки ейные, – он потупил взгляд, – да сама с горшком спускалась к полудню…
– Врешь, гад паршивый, – пригрозился Джереми, придвинувшись к сторожу, но я успокоила его.
Этот неуч из черни, знай он о том, что Льен не прилегла спать, уже скрылся бы из виду. Нет, сторож ничего не знал. Вуд вытянул что-то из зубов и сказал:
– Хорошо подумай.
– А што, собесна, ваша милость, стряслось?
– Старуха Льен мертва. – Я чуть вздернула подбородок, дав ему время осмыслить произошедшее. – Тебе бы лучше вспомнить, кто с ней виделся с тех пор, как она поднялась к себе.
Мысль пронзила его не хуже остроги. Сторож затрясся, плюхнулся на ящики у входа и прикрыл ладонью рот. Глаза его какое-то время таращились в стену, а плечи часто поднимались. Первыми словами, что породил его бестолковый рот, были слова молитвы, и те неверные.
– Пресвятое солнце и две матери…
Сторож причитал и трясся. Ни пользы, ни ума.
– Еще подумай, – повторил Вуд уже серьезнее, а стоял – ближе.
Губы сторожа задрожали.
– Говорю же, ваши светлости! Никого не было, окромя той троицы, Бума, иль как его, ну, белобрысого. Смелой такой, все ходил к нам, вот таким его еще помню, – рука сторожа помахала где-то на уровне бедра. – Пресвятые небеса и мученики, как же так сталось!..
Мы снова потеряли его на несколько минут. Я не скорбела: когда заводишь слишком много псов, жизни не хватит, чтобы по всем тосковать.
– Отец, – Джереми вообразил из себя святого герольда, – соберитесь.
Я направила бестолковое бормотание в нужное русло:
– Куда подевалась троица? Где их теперь искать?
Сторож поднял на меня испуганно-печальные глаза, которые уже блестели от влаги. Уверена: скорбел он не о судьбе почившей Льен, а о собственной шкуре. Участь его незавидна – почти старик, неспособный даже уследить за жизнью своей нанимательницы, он не найдет работы до самого лета. А если и переживет зиму, тяжелый труд в полях докончит дело.
– Где? – Вуд уже почти дышал ему в лицо.
– Обычно, как водится, вижу их тута, – сторож заговорил быстрее. – Лопоухий один, средний в росте. Младший с веснушками, вы издали найдете. Старший с ними… как бы объяснить… резвый такой, с характером… Но ежели не здеся, то играют они у основания, там, где строють.
Джереми с интересом поглядел на меня, и я уточнила:
– Стела Третьему Восходу? За поворотом у постоялого двора?
Сторож кивнул, и я развернулась к выходу. Джереми тут же поспешил придержать дверь, нелепо сутуля плечи в узком коридоре. Замешкавшись, я быстрым движением извлекла серебряную монету и положила ее на ящик. Только после этого бывший сторож старухи Льен заплакал.
Стела, чуть повернутая в сторону уходящего солнца, была обставлена лестницами каменщиков, точно скала, оплетенная виноградной лозой.
– Тук-тук-стук, – отзывались молотки, терзающие гранит. Им вторила ругань творцов. Подобравшись совсем близко, я невольно подумала, что одна неточность – и любого из них раздавит насмерть.
Но те продолжали истесывать камень, покрывая его письменами и неровным рисунком. Бесстрашные, глупые псы. У основания обозначили дату сдачи Волока. Чуть выше наметили герб Годари. Глядя на стелу, я прикидывала, сколь долго она продержится в городе. И если и простоит, то через сколько лет имя и герб Годари будут стыдливо затерты, а на их месте появится новый лорд.
– Военная слава, – усмехнулась я.
Только банк будет верно стоять при любой стеле и любом ставленнике. Без нужды марать руки и менять флаги.
– Вон они, – сразу же подметил жертву Вуд.
Я обернулась и увидела троицу в переулке. Дети явно спорили. Веснушчатый, лопоухий и самый горластый – выходит, сторож не солгал. Тот, что помладше, украдкой поглядывал на ряд прилавков у резиденции. От одной из них ветер принес аромат печеного хлеба.
– Стойте и не привлекайте внимания, – приказала я псам.
Лавочник отдал хлеб с наценкой, присмотревшись к моему платью. Я могла бы приказать Вуду сломать ему ноги, но такие развлечения наскучили мне еще в Криге. Потому я просто протянула серебряную монету и тряхнула рукой, будто случайно: монетка выпала и закатилась под ноги. Тот жадно бросился за ней и задел край прилавка.
– Ох, простите, – улыбнулась я и взяла корзину. – Сдачу оставьте себе.
Он недобро глянул на меня, будто мигом все осознал: сколь дешева его жизнь и что он никогда не сможет себе позволить настоящей вольности, а самый верх его ловкости и удачи – поднять тайком цену на пару медяков.
– Миледи? – разнервничался Джереми, будто в корзине сидели ядовитые змеи.
– Теперь идем, – сказала я.
Троица к тому времени уже разрешила спор и затеяла неясную дворовую игру: разложила короткие щепки в грязи и что-то громко считала. Я кивнула Вуду – тот обошел дом с левой стороны. Джереми, громко бряцая доспехом, отправился следом за мной. Перекрыв выход со двора на улицу, я постаралась мягко улыбнуться.
Мальчишки подняли на меня глаза. Тот, что постарше, сразу узнал нас:
– Мил-леди Ковул… что вы тут…
С другой стороны двора появился Вуд:
– Мальчики, добрый вечер! – Солнце скоро вовсе исчезнет за крышами, надо бы поторопиться. – Вы не против немного поговорить?
О, я всегда была плоха с детьми. Беспризорники отступили на один шаг от своих разбросанных щепок. Старший обернулся в сторону Вуда и нервно сглотнул.
– О… о чем? – сипло спросил он.
Я заметила интерес к корзине и пропустила Джереми чуть вперед.
– О чем вы говорили с бабушкой Льен? – вкрадчиво спросил он, и крупный доспех сделал свое дело.
Беспризорник снова пугливо посмотрел на Вуда, хоть тот меньше всего интересовался детьми. Мальчишка проблеял что-то невнятное:
– Мы, э-э, с бабушкой… вчера…
– Сегодня и вчера, – я постаралась быть мягкой.
Теперь вся троица молчала. Веснушчатый, самый младший из них, искал взглядом пути к отступлению. Отступить получилось бы только вверх по отвесной стене.
Я склонилась над младшим и слегка поморщилась от запаха.
– Вы с бабушкой Льен?..
– Мне нельзя, – через какое-то время сознался он.
– Почему?
Мальчик шмыгнул носом:
– Бабушка будет сердиться.
Значит, дети не застали ее смерти.
Я деланно улыбнулась, обошла Джереми и придвинула к детям корзину со свежим хлебом, от которого еще исходил пар.
– Вы, должно быть, голодны?
Издевательский, в сущности, вопрос. С такими впалыми щеками мальчишке надо есть по две корзины в день, чтобы немного похорошеть. Беспризорники мои соображения разделяли: хлеб принялись щипать со всех сторон, жадно срывая корочку, засовывая грязные пальцы в мякиш, стараясь ухватить кусок побольше. Чудо, что не подрались.
Стоило бы придержать хлеб до того, как я узнаю все, что нужно. Почему-то я медлила.
Мой недруг не просто спровадил старушку на тот свет раньше срока. Он обрек десятки ее названных детей на медленную голодную смерть. Говорят, Волок еще никогда не был так беден: дети войны, их увечные родители, драки за ночлег и пищу…
Но ничего хорошего не выходит из жалости. Я подняла корзину так, что младший почти повис на ней.
– Мне очень жаль, – спокойно сказала я и посмотрела на Джереми. Тот не сразу сообразил:
– Э-э, вашей бабушки больше нет.
Старший чуть не подавился. Пока он кашлял и в неверии смотрел на нас, я уточнила:
– Кто-то проследил за вами и пробрался незамеченным в ее комнату. Когда мы поднялись, было уже поздно.
Два беспризорника – веснушчатый и лопоухий – вовсе перестали жевать и облизывать пальцы. Каждому требовалось время, чтобы понять смысл моих слов. И они получили его предостаточно: хлеб успел остыть.
– Помогите мне найти его, и будете каждый день обедать бесплатно, – пообещала я.
В глазах старшего беспризорника не появились слезы – уличные дети быстро отвыкали от плаксивости, поскольку от нее не было никакого проку. Он испугался – и одновременно обрадовался. Радостный испуг – редкое зрелище. Чаще я видела второе.
– Скажи мне, за кем вы ходили сегодня и вчера. Что нашли и что видели.
Веснушчатый мальчишка прикрыл глаза рукой, будто в них что-то попало. Его сосед тряхнул головой, и большие уши порозовели на морозе.
– Большой человек без волос, с длиннющими… от-такими руками, – заговорил он. – Сонное у него лицо, весь день так шатался…
Точно Густав. Мальчик продолжил:
– Обычно все в мыльню ходят…
– И в тот вонючий дом, – поморщился старший.
– А он никуда не заглядывал целый день. Так и ходил как дурак.
– Совсем дурак, миледи, – покивал второй.
Веснушчатый молчал, убрал руку от лица и очень медленно ел хлеб, будто из надобности, а не от голода.
– К вечеру мы устали и замерзли, – лопоухий опустил голову, – поменялись дважды.
Скорее всего Густав заметил детей. Но не слишком ли накладно – потратить целый день из-за пары мальчишек? Может, он так отвлекал их внимание? Но от чего?
– Уже стемнело, и лишь тогда большой человек отправился спать…
– Где? – с нетерпением спросила я.
– Там, – в сомнении махнул рукой мальчик, – на углу, возле Короба.
– Вонючий дом, – пробормотал веснушчатый, облизывая пальцы после муки.
– А на утро забыл мешочек…
– Крохотный, – всхлипнул веснушчатый и тут же притих, утерев нос рукавом.
– Мы его до поворота на площадь проводили, Ди взял мешочек и понес бабуле…
– И эти два дурака, миледи, его проворонили!
Те и впрямь галдели как дураки, перебивая друг друга.
– Да он как под землю пропал!
– Провалился, – поправил старший.
Я постучала ладонью по корзине, пытаясь их унять. Они спорили, пока Вуд не прочистил горло. И наступила недолгая тишина. Веснушчатый промямлил:
– Поискав еще, мы вернулись к бабуле и все рассказали.
Глядя на беспризорников, я вспомнила, отчего не люблю детей. В наши времена сложно положиться даже на своих псов, что уж говорить о мелких прожорливых, совершенно вздорных зверьках! И как старуха Льен с ними управлялась? Впервые за день я почувствовала утрату – и тут же выбросила ее из головы.
– Что было в том мешке?
Дети переглянулись и один потупил взгляд:
– Монеты, миледи.
– Много монет, – мечтательно вздохнул веснушчатый.
– И больше ничего?
– Только монеты. Разные. Не все – наши, – уточнил самый взрослый из троицы.
– На краях у золотой не было этой штучки… эм… полосок, миледи…
– Без гурта, – подсказала я.
– И без лица! На одной было дерево, у других то звери, то рыба…
Какая дикость! Такие обычно ходят по рукам в Эритании, среди племен. Может, здесь наследили кочевники юга? Выходит, Густава покупали чужаки? Нет, сразу несколько чужаков? Покупали явно небедного человека…
Очередная нелепица. Если бы дикари с болот или иные соседи решили сунуться в наши дела, отец бы непременно мне о том рассказал.
Дети начали оправдываться, младший прятал руки.
– Мы взяли только три! Обычные, с королем, тут все их носят. Много их было, – сказал лопоухий.
– Остальное отдали бабушке.
Я подняла бровь. Вуд все еще жует свою смолу – или боги знают что еще, – а дети Льен не посмели украсть весь мешок с серебром и золотом. Я распрямилась, и, должно быть, это выглядело устрашающе – беспризорники попятились. Выходит, только строгость дает хорошую выправку. Я спросила:
– Что-нибудь еще?
Младший шмыгнул носом и выпалил:
– Он пел песенку, вот так: тим-ти-рим-тарам-ра…
– Да нет же, – исправил его лопоухий, – пел он вот так…
Вуд хмыкнул. Я остановила этот вздор:
– Довольно. Кроме песенки?
Проглотили языки: на обувь себе смотрят, один затылок чешет, второй трясется, а больше – ничего. Я подняла глаза к небу. И зачем люди возятся с детьми? Сущее наказание – эти дети. Свои ли, чужие…
– Мы вернемся, – наши с Вудом взгляды встретились. – А до тех пор…
– Хлеб, миледи, – тут же обнаглел младший беспризорник. – Вы обещали хлебушек!
Должно быть, у него в роду завелись жадные и бестолковые лавочники.
– Все в этом мире имеет цену, – Джереми шагнул вперед, перегородив путь и всякий обзор.
– И вы, милсдарь? – поддел его, судя по голосу, старший.
Джереми примолк, вместо него я услышала хриплый голос Вуда:
– И мы.
Обернувшись – не следит ли кто за нами, – я громко сказала:
– Вам нужен хлеб. А мне – большой лысый человек с длинными руками. Таков уговор.
Дети, точно мыши, выглядывали из-за спины моего пса. Молча, с затаенной неприязнью и одновременно любопытством. Волок ничем не отличался от Крига или Оксола, Квинты и Левицы: все желали есть, никто не желал платить. Я чуть улыбнулась:
– Меня всегда можно найти в самом красивом доме Волока…
– В пекарне? – мечтательно сказал веснушчатый.
– В банке, малой, – прохрипел Вуд.
«В банке. Если Густав не доберется туда раньше вас, юные нахлебники».
Об этом я, конечно, не обмолвилась. Так мы и разошлись.
Город темнел с каждым шагом. В переулках, точно грязь, разливалась тьма. Я стала держаться ближе к псам. Вдруг прямо сейчас Густав следует за нами, выжидая тот самый миг, как окажется он рядом и одним быстрым точным ударом проколет яремную вену…
Я набрала воздуха в легкие и шумно выдохнула.
Непонимание убивает. Я совершенно не понимала людей, которые всякое дело превращали в резню.
– Итак. Что мы имеем? – произнесла я вслух, чтобы успокоиться. – Некий ловкач пробрался по стене, открыл окно, одним ударом положил старушку Льен – весьма осторожную, строптивую и хитрую женщину. И проделал это все при уходящем свете дня, на глазах у уличной детворы и одного сторожа. Проделал незадолго до нашего визита…
– Ее же собственным стилетом, миледи.
– … и успел положить его под покрывало, покуда старуха умирала на полу, не издав ни звука?
Грязь хрустела под сапогами Джереми.
– Брешут, – коротко заметил Вуд, что-то пожевывая.
Настал тот безрадостный день, когда я согласилась с собственным псом.
Через несколько дней отец приедет проведать нас, а у меня нет ни Густава, ни его подельников, ни старухи Льен. Только голые слова, не имеющие никакого веса. Пустой беличий свист.
IV. Провидец
Сулман, розовощекий купец из Поланки, чей воснийский до такой степени смешался с эританским, что его не понимали ни в Воснии, ни на болотах, чаще всего изъяснялся жестами. Я не понимал в нем двух вещей: как он вел дела при таких затруднениях и для чего назвал своего осла Мансулом (впрочем, в последнем я тоже не был уверен, так как сам был из Воснии). При всем бедственном положении Сулман проявлял стойкость духа: упорно трудился, не впадая в уныние, а еще способствовал вероучению всеблагой Матери, как мог.
– Доброго утром! – расплывчато желал он всем прихожанам, не забывая и обо мне.
На ночь скамьи становились кроватями, а при свете дня их марали вместо столов. Чаша с подаяниями никогда не пустела: мясник каждый день приходил со своими сыновьями, и те оставляли серебро, опасливо поглядывая на отца.
При всем великолепии и успехе моей миссии в Горне появилась новое затруднение.
– Ради всего святого, скажите, куда запропастились мои поножи? – второй день возле часовни околачивались родственники, зятья, дядья и жены тех, кто прослышал об Ольгерде всезрячем – или одной Матери известно каком. – Видите ли, я унаследовал их от отца, а тот – от своего деда…
В городе пропадало все: любимые бусы, доверительное письмо от герцога о наделе, золотые слитки, дети, кошки, серебряный зуб…
Одна история звучала сомнительнее другой. Хуже всего было то, что Сулман, по недомыслию или из трудностей перевода, поощрял оплату прорицания. Прогнать его я не мог, а отказать прихожанам – тем более. Уже который день я вдумчиво хмурился, учил молитвам пресвятой Матери, которая давала напутствие лишь самым верным из последователей. И, признаться, скорее всего, просто лгал.
– Поймите, преподобный, я не с пустыми руками пришел. О, нет, поглядите, – в чашу падало серебро, а порою и золото, отчего мое сердце трепыхалось из той порочной слабости, от которой я отрекался много лет назад. – Сделано! Я – весь внимание, святой отец…
В ответ я, наспех наученный горьким опытом, цитировал писания:
– Семь дней откажитесь от выпивки, брат мой. Ежеутренне обращайтесь к всеблагой Матери за искуплением. – Должно быть, от наплыва обращений любое божество прокляло бы меня до самой смерти. – Приходите, как очиститесь, и тем же утром снизойдет на вас озарение…
Как иным образом отсрочить день расплаты, я не ведал. Да простит меня Мать солнца, лучшего способа обратить горожан к свету я пока не нашел.
– Повторяйте за мной, – уже уверенно говорил я и мазал лоб пальцами. – Милосерднейшая из матерей, услышь меня…
Учились горожане крайне плохо, но разве мог я их укорять? Только через два неполных года истины светлой веры и чистые фразы молитвенника утвердились в моей памяти. Стоит ли спешить? Если так пойдут дела, уже через год я обращу первых послушников и смогу выбирать выходной день для прогулок, уединения…
С месяц назад мне казалось, что только скупые подаяния и отсутствие прихожан – моя единственная беда. И вот как оно все обернулось.
– Повторяйте за мной, – сказал я жене кузнеца, поторопившись с жестом. За окном разыгрался день. Седьмой день с тех пор, как повстречались мы со Смердяком. Провидцем.
Я искал его каждое утро. Искал безуспешно.
«Здесь же, через неделю», – обещался провидец. Выходит, если я не найду его сегодня, то…
– Святой отец, куда же вы? – в неподдельной заботе спросил меня подмастерье плотника, который проявлял наибольшее усердие в молитвах и даже зазывал прохожих у рынка перед службой. На его верхней губе только появилась темная поросль, а он уже казался мудрее седых мужей Эритании.
Я улыбнулся и чуть помахал ладонью, чтобы успокоить юношу. Куда уж я денусь из обители пресвятой Матери?
– Вы же вернетесь к службе? – Вот так и должны гореть глаза истинно верующих, и не столь важно, сколько молитв эти верующие могут произнести. Главное – готовность являться на службы и вести добродетельную жизнь, помогая ближним.
Придержав дверь, хоть сквозняки уже почти не тревожили дом Матери, я громко сказал:
– В тот день, когда Ольгерд опоздает к началу служения, считайте его погибшим!
Плотные, будто сотканные из грязной шерсти тучи, накрыли Небесный Горн. Город, который я непременно сделаю лучше и светлее. Мою вотчину, по прямому наказу самой Матери и общины из Квинты. Приложив руку к сердцу, я прошептал:
– Я не подведу тебя, милосерднейшая из матерей. Жизнью клянусь, всей своей жизнью…
Хоть моя жизнь и значила не больше и не меньше, чем жизнь любого из ее детей. И все же как страстно я желал отличиться! Заслужить ее милость, оправдать ее покровительство и наставления!
– Доброго утреца, отец Ольгерд! – подмигнула мне куртизанка, которой негде было заночевать после пожара.
– Постыдитесь, Изалия, – покачал я головой. – Солнце все видит!
– Дак нету его, солнца-то, – виновато буркнула она, прикрыв побелевшее от холода бедро. – Второй уж день.
Но я не настаивал, не желая спугнуть юную душу. Всяк придет к Матери, когда пробьет час. Мое дело небольшое: следовать Ее воле, найти Смердяка и день за днем приумножать общину в Горне.
В нерешительности остановившись на перекрестке двух размытых дорог, я повертел головой. Зрение подводило.
– Куда же я в тот день…
Вопрос этот не находил ответа. Одинаковые покосившиеся хибары и подгнившие скамьи, бельевые веревки с заледеневшим тряпьем, да пара песьих будок. И где я свернул тогда, неполную неделю назад? Не опоздал ли?
Я ускорил шаг и на всякий случай произнес молитву. Вспомнил про запах Провидца и повел носом. Словом, предпринял все меры: обратился к прохудившейся памяти, положился на свое слабеющее зрение, напряг дряхлые ноги.
– Не здесь? – спросил я одними губами, забредая в очередной переулок.
– Баф-ф, – отпугнул меня пес, лениво высунув седую морду из конуры.
– Извините, – я коснулся головного убора и поспешил прочь: при разговоре со Смердяком я не слышал лая.
Вернувшись к перекрестку, я свернул направо. Ошибки быть не может, ведь тогда я направлялся прямиком к рынку, а именно этот путь и вел наверх, к холму.
– Потерялись, святой отец? – спросила Изалия, бесстыдно улыбаясь.
Я спрятал руки под плащом, который мне подарил Сулман, и приврал:
– Нет, я так, э-э, прогуливаюсь.
Отчасти это была правда. Хоть я и понятия не имел, почему вместо встречи со Смердяком наворачиваю круги по Горну.
Прошагав до рынка и поздоровавшись еще трижды, я поспешил назад. Колени заныли от тяжести.
– Святой отец, вы не замерзли? – обеспокоилась Изалия, хоть переживать бы ей стоило за свою обнаженную голень.
– Н-нет, э-э. Буду ждать вас на службе через, э-э…
Час, два, половину? Я потерял счет времени! Изалия покачала головой:
– Ох, никак не смогу быть, святой отец, – томно простонала она и захлопала подкрашенными ресницами, – сами понимаете, девушке тоже нужно зарабатывать на хлеб.
Посетителей у нее, к слову, не наблюдалось. Как не наблюдалось и Смердяка.
Заплутав промеж двух дорог, ведущих от часовни к рынку, я прочитал про себя еще одну молитву. Возможно, именно это и помогло.
Еще через сотню шагов я почти наткнулся на прогнившие ставни и узкий стык между домов, где в прошлый раз затерялся Смердяк и его несносный запах.
– Фух, – выдохнул я и огляделся. Помялся с ноги на ногу, принюхался: ветер дул в спину. – Доброго дня?
Провидца нигде не было. Я обошел хибары со всех обозримых сторон. Остановился и растер ноющие колени. В левом теперь что-то похрустывало, как всегда бывало к зиме.
– Пресвятая Мать, смилуйся, – процедил я сквозь зубы. Зажмурился, постоял так и снова распахнул глаза. Если уж Смердяк мне привиделся, быть может, мне стоит еще чуточку подождать?
Как назло, в Горне не было колокола. Право слово, и как все эти годы местные племена и когорты отмеряли часы? Проживая почти без солнца, в вечном тумане и сырости…
– Смилуйся над всеми нами, – попросил я и за эританцев.
Я простоял возле двух хибар, в которых исчез Смердяк семь дней тому назад, покашливая и посмеиваясь. А затем вновь слонялся по улице с юга на север, опасаясь, что мог перепутать место, в котором мы повстречались. Даже принюхивался, пытаясь уловить запах грязных лохмотьев. Но, увы, улица смердела только сыростью.
Трижды я решил, что сам потерял разум и не было никакого Смердяка, знамения, пророчества. Но потяжелевший кошель и полная часовня прихожан не могли бы образоваться у безумца, не так ли?
Я метался вдоль подворотен, выскакивая на дорогу, заглядывая в проемы меж хибар…
– Чего вы тут забыли? Пойдите прочь, – пригрозилась эританка, развешивавшая белье.
Я не придумал ничего лучше, кроме как честно спросить:
– Вы не видели нищего?
– Полный город нищих, – гаркнула она. – И ты проваливай к своим дружкам!
Пришлось ждать с другой стороны улицы. Казалось, что туман вот-вот объявится в городе, а за ним и вечер, и буду я мерзнуть до самой темноты, распугивая будущих прихожан, и опоздаю на службу…
Я дохнул на руки и потер их. Стало едва теплее.
Грязного человека нигде не было. Будто он провалился под землю или вовсе не существовал. Удивительно, как в таком небольшом городишке может спрятаться такой зловонный безумец. Провидец, настоящее чудо. Почти как в былые времена, больше века тому назад.
Темнело. Горн промерзал и расплывался длинными тенями.
– Нет никаких чудес, – пробормотал я, растирая ладони. – А если и есть, то уж те явно не могут выглядеть как оборванцы и смердеть хуже мертвеца.
Я вздохнул и отправился к часовне. Подходило время вечерней службы. Первой за полгода, о которой попросили сами прихожане. Подумать только, как много власти у городских мясников и приезжего купца из Поланки.
Куртизанка Изалия куда-то запропастилась, и я не надеялся встретить ее в доме Матери. Пес перестал брехать, и даже женщины уже давно развесили свое белье. Город снова опустел. Возле часовни, у самого порога, на лестнице, стоял человек в длинном одеянии и странно растирал левое плечо, будто пытался почесать подмышку…
Я чуть не подпрыгнул от счастья и почти взлетел по ступеням, не замечая боли в коленях.
– Вы! – выкрикнул я. – Вы живой! Настоящий! Вы существуете…
Он закашлялся или посмеялся.
– Я искал вас, – позабыв про холод и уставшие ноги, ноющую спину, я стоял, не решаясь войти за порог собственной часовни. – Ждал…
Смердяк протянул ладонь, и гримаса на его лице напоминала улыбку. Я дрожащей рукой потянулся к кошелю, выудил оттуда две серебряные монеты. Потом достал все четыре и ссыпал их на грязную пятерню, поверх сухой растрескавшейся кожи…
– Вы ждали не там, кхе-хе, святой отец Ольгерд, мой будущий друг. – Он кивнул в сторону развилки, чуть подавшись вправо.
– О богиня!.. – я хлопнул себя по лбу. – Клянусь, я был там дважды, все думал, все вспоминал…
Хотелось плакать от счастья. Я не безумен. Я получил знак Матери, все сделал верно, подал нищему. Провидцу. Нищему?.. Кто из нас был беднее все это время? Я придвинулся ближе, задержав дыхание, и тихо-тихо спросил:
– Я не ожидал, что разом… так много… десятки их! Что мне сказать людям? Что я должен…
Пальцы сами ухватились за грязный рукав Смердяка. Я стоял как потерянное дитя, искал помощи, верного слова. Глаза нищего вблизи казались почти слепыми, но странная вера, странный внутренний свет согревали. Смердяк не отдернул руку, не отшатнулся от меня. Только сказал так же тихо – будто знал, как я боюсь, что нас услышат, – что святые отцы должны все знать и не просить совета где-либо, кроме своего божества.
– Скажите им, что зима будет очень долгой, хе-кхе, – прохрипел он. Я резко вдохнул, и голова закружилась.
– Да? – я терпел запах и изо всех сил старался не отпрянуть. Разжал пальцы на рукаве. – Но ведь последние годы, сказывают, было иначе… вы… точно?
Смердяк прищурился, и я снова увидел коричневые зубы.
– А уж старый Смердяк думал, что убедил вас. Что пригодился. – Я не успел вставить и слова. – Как вам угодно, святой, кхе-хе, отец. Ваша паства ждет. Служба, верно?
Я спохватился. Ринулся к двери и придержал ее для Смердяка. Тот схватился за подмышку и покачал головой.
– Нет, нет, кхе. Боюсь, мой запах смутит ваших гостей. Милосердие богов не распространяется на их прихожан, не так ли?
И он снова был прав. Я потоптался на пороге, извинился и кивнул. Впервые за половину года в моей часовне не оставалось свободных мест. Вернее, пустовало лишь одно – место у алтаря. Место святого отца. Нужного священника Ольгерда из Квинты.
Я прошел вдоль рядов, расправил плечи.
– Доброго дня, – тянулись ко мне руки, и я пожимал их. И улыбался, и здоровался, и наслаждался светом двадцати свечей.
– Святой отец Ольгерд!
– Спасибо, спасибо!
– Спасибо, спасибо вам, господин, – причитала женщина, оставшаяся без крова.
– Не стоит благодарности, – ответил я шепотом. В три шага достиг алтаря, развернулся, встретил взглядом лик Матери у входа. Прочистил горло и обратился к прихожанам. – Милость ее не знает границ! Все мы здесь, и стар и млад, – дети. Любимые чада Матери двойного солнца! – я вскинул руки и медленно помазал лоб. Жест тут же повторил купец из Поланки, и вся часовня зашевелилась. Один жест, одна вера.
Где-то там, за порогом обители, на промозглых улицах стоял Смердяк. Настоящее чудо. Знак Матери. Мое заслуженное чудо.
Сегодня я весь день торопился, но служба прошла безупречно. Слова находились будто сами собой. В чашу для подаяний сыпались медяки. А в самом конце Сулман протянул мне золотую монету, явно опасаясь, что ее украдут.
– Да пребудет Ее милоста с намис… – шепнул он и чуть поклонился.
После того как прихожане засыпали меня вопросами о том, будет ли мир между когортами Устья, Выси и Заводья, я невольно поглядел на дверь обители. Смердяк так и не зашел в часовню.
– Святой отец, что же вы молчите?
– Сеять иль затопит?
– Мои поножи…
Я набрал воздуха в грудь, и казалось, вся часовня притихла – ни половицы не скрипнуло.
– Зима будет долгой, – нахмурился я, придав веса словам. Чужим словам.
Рты паствы блаженно приоткрылись. Зашептались тетушки у чаши с подаяниями. Вопросов стало только больше.
– Значится, позжее сеять?
– Померзнем все…
– Кум мой в топи ушел, сгинул ли, будьте добры? – начал было плотник и чуть не толкнул женщину, что стояла передо мной.
Вопросы, жадные глаза, вопросы, вопросы…
– Зима будет холодной! – сказал я громче. – Таково слово милосердной Матери, – я быстро сверился с ее ликом над дверью. – А наш удел – истолковать его и принять меры…
Кажется, никто ничего не хотел решать. Сосед женщины, которую толкнули, сжал кулаки и повернулся к плотнику. Задние ряды толкались, пытаясь протиснуться вперед, к алтарю. Я тихонько стукнул по новому ограждению. Но паства уже занялась делом поинтереснее – вопросы превратились в оскорбления, споры и прочую нетерпеливую грубость.
– Вас здесь не было, мы от начала службы стоим!
– Приходите пораньше, к самому утру, мы здеся ночуем, дабы вам было известно…
– Прошу вас, – взмолился я, – мы в обители Ее…
– Что ты сказал, недоносок? – вовсю ругался плотник с соседом.
Кто-то упал, схватив скатерть. Следом рассыпались и монеты из чаши. Сулман стал кричать и водить в воздухе ладонями:
– Буде вам, буде!
Шум и гам не стихали, лица озлоблялись с каждым мигом, крупный мужчина закатал рукава и сплюнул на пол… Дверь отворилась, и в часовню кто-то зашел. Началась давка.
– Святые боги! – воскликнули в задних рядах.
Дверь отворилась вновь, явно придавив кого-то перед ней. Послышался хрип. Прихожане что-то неразборчиво забормотали, и толкаться принялись даже у выхода. Я услышал кашель, недовольные стоны и просьбы посторониться.
– Служба окончена! – сказал я громче, и тут же первые ряды у выхода заспешили наружу, позабыв про все вопросы, ради которых они так долго старались протиснуться вперед.
И тут я увидел причину. Та кашляла и чесала плечо, неспешно хромая в глубь толпы. Нищий провидец собрал на себя все внимание в часовне. Его обходили стороной, зажимая носы, отворачиваясь, но чаще отшатывались в сторону, точно от бешеного пса. Плотник задумал было врезать нищему, но покосился на лик Матери и вместо того обошелся грубым словом.
Оскорбления и презрение не беспокоили Смердяка. Он так же улыбался, пробираясь к алтарю, и, точно камень, разрезал нестройные ряды прихожан. Отделяя жен от мужей, родителей от их отпрысков, сплетниц и дружных пьяниц друг от друга.
Про драку и разногласия все позабыли. Даже Хин помазал лоб и прошмыгнул на улицу, не притворив за собой двери. Признаться, и у меня от запаха заслезились глаза. Нищий провидец дохромал до первой ступени. Встал на одно колено, точно рыцарь перед лордами, и произнес молитву на одном из эританских наречий, в которой я признал только благодарность и обращение к божеству.
– Э-э, добро пожаловать, – начал я, задержав дыхание.
Последний прихожанин – Сулман – оставил меня один на один с нищим. Смердяк прокряхтел, вновь поднялся, держась за подмышку. Сделал несколько шагов в сторону и помог собрать разбежавшиеся по полу монеты обратно в чашу.
– Вам следует быть строже, хе-кхе, мой друг, – пробормотал Смердяк, и глаза его белели, точно слепые.
Я стоял возле алтаря, не зная, что сказать. Прихожане ждали от меня руководства, прямых ответов, чудес. И в один миг были готовы броситься в драку с ближним вопреки учению и моим словам. Как, во имя всего святого, мне полагалось с этим управиться?
– Кех, хех, – закашлялся Смердяк, и мне стало его невыносимо жаль.
Жестом я предложил ему присесть на скамью и торопливо подал наливку из остатков. Смердяк жадно припал к кубку и тут же осушил его, перепачкав подбородок и лохмотья на груди.
– Спасибо вам… э-э… – совсем растерялся я, не зная, за что именно благодарю.
За то, что не способен управиться с собственной паствой? За то, что подвожу милосердную Мать, а нищие исправляют мою оплошность?
– Не тревожьтесь, святой отец, хе-кхе. Видел я, отступят тени, – нищий утер губы замызганным рукавом, – и яркий свет, хе, зальет болота, топи…
Я молчал, сжимая пальцы, будто в мольбе.
– … и вы, мой друг, будете впереди всех-кх. Продолжите дело Ее…
Сердце пропустило удар. Смердяк улыбнулся, показав коричневый ряд зубов, и отставил кубок: его рука мелко дрожала.
– И отметит вас, кхе, преподобная Ренна, искоренительница чудес, карающая длань. Мать двойного, слепящего солнца…
Я поднял брови:
– Ч-что? Не понимаю, что вы такое говорите…
– И мы с вами станем ее герольдами, мой будущий – или нынешний? – друг, ке-кхе. Сделаем мир светлее, а?
Судорога на его лице могла бы походить на подмигивание. Моя голова шла кругом.
– Мы с вами непременно завершим ее дело, ке-хе, видел я, – сказал нищий провидец, и я виновато улыбнулся. – Дело Матери двойного солнца, так?
«И в самый темный час вернется она, и взойдет двойное солнце, прогоняя тени до конца времен», – писали в одной из книг в хранилище Мафони.
Я кивнул, задержав дыхание:
– Таков мой долг.
Когда Смердяк ушел, я рухнул на новенькую скамью, которую предоставил общине поланский купец.
– Ренна? – я почесал затылок, отдышавшись. – Кто такая Ренна?..
Я покосился на скорбный лик Матери. В нем не было ни подсказок, ни ответов.
V. Тихая, спокойная жизнь
Мне не следовало быть здесь. Слишком ясное солнце, слишком погожий день. Много гуляк, праздных господ, сплетниц, приставучих детей и их беспокойных нянек. Глаза, любопытные и зоркие, безнаказанно оглядывали улицы, заулки, подворотни и даже самые темные углы Оксола. О, нет. Уж кому-кому, а мне точно не следовало здесь находиться.
– Отойди, – в испуге сказал юнец, прижавшись к стене, и прихватил своего брата или друга за рукав, утянув в сторону. – Слышишь? Сюда, ко мне…
Я осторожно обошел их с правой стороны, даже не коснувшись. Не было причин так широко раскрывать глаза и вжиматься в стену – я не знал их имен, а здесь еще не прослышали о моем. Просто три человека повстречались среди близко построенных друг к другу домов. Просто двое были сильно моложе и меньше ростом. Просто один из них прогуливался по городу, где ему точно не следовало показываться при свете дня.
Нет, мне вовсе не стоило появляться здесь. И все же…
Не потому ли я покинул родную деревню? Не с того ли началась моя взрослая жизнь? Я презирал чужие порядки. Какая забава в том, чтобы всю жизнь плясать под чужую дудку, скажите? О, я обходил все правила, о которых только слышал. В особенности – правила видных людей. Жизнь моя началась как игра. Множество игр. Шалости с бросанием камней перед усадьбой графа Ротфри, затем – игры с чужими медяками, чужими жизнями на задних дворах, ловля купцов в подпитии и роковая ставка на жеребца, после которой я уяснил навсегда: не так уж я и велик для Оксола…
С неба обрушились крупные редкие капли дождя. Я вступил в лужу и раздавил свое отражение. И как так выходит, что старые уроки забываются, и уж нет тебе никакого дела до того, какая придет расплата?
Нет, мне не стоило быть здесь, и все же я шел по улицам, наслаждался скупыми лучами солнца, уступал дорогу женщинам и детям. Правила, правила… от себя не укроешься до конца своих дней. Я пресытился всеми запретами. Прятаться на отшибе, в глуши, где с утра до ночи гнешь спину, пытаясь раздобыть дровишки и пару ломтей хлеба? Я был самонадеян, полагая, что в свои годы легко управлюсь с такой долей.
– Пошли прочь! Вон! – щелкнул хлыстом извозчик, и крепкая двойка скакунов протащила карету по размытой дороге, распугав зевак и дворовых псов.
Грязь облила мои сапоги и правую штанину, но я лишь улыбнулся и неспешно двинулся следом, выбирая островки земли посуше. Лорды погоняют извозчиков, извозчики гонят люд с дороги, а простой люд пинает собак и домашний скот. Таковы порядки.
Всякому городу нужен свой порядок. И всякому порядку нужны его смотрители. Рука, оставшись без пальца, уже не может считаться здоровой рукой, вам ли не знать? Я слишком стар, чтобы устраивать свои порядки, а в душе слишком юн, чтобы подчиняться чужим. Покинув Криг и свой пост смотрителя, я нанес увечья не только городу, но и самому себе.
Глупо, скажете вы? В глуши я понял, что тоскую по городу, иль, быть может, сам город зовет меня. Как уж тут отличить, когда каждый волосок помнит дуновение портового ветра, отличает сквозняк, гулявший по улице Привозов, от легкого ветерка родом с площади. Или буйного, неодолимого порыва, что каждый сезон переворачивал корзины, задирал юбки, срывал гнилую солому и дощечки с навесов рынка?
Нет, мне уж не было места в глуши. Каждому суждено истесаться, сколь крепок бы ни был он от рождения. Жизнь, города, крохотные улицы, по которым мы ходим каждое утро или под вечер, – буйные воды, стачивающие нас. И выходит, что не так уж ты и волен к пятому десятку лет. И все естество стремится к знакомым протокам, поворотам, устьям. Подходит лишь к десятку-другому проторенных дорог. А во всех прочих местах стоишь как кость поперек горла, ни туда, ни сюда.
Обнаружив себя в глуши без дела, я понял: пусть уж найдет меня сама смерть, Чеканщик со своими побратимами пусть судят меня как им в голову взбредет, со всей звериной жестокостью. Но я отдал свой долг с лихвой. И коль уж осталось мне не столь долго и в груди постоянно хрипит, я не проведу остаток своих дней в тени, как плешивая крыса.
«Что горше всего на закате лет, мой друг?» – спрашивал Симон и тянул гнилостный дым из своей трубки. Я не был ему ни другом, ни братом – и потому молчал. Ему ли не знать ответа? Горечь. Полнейшее и всестороннее знание о том, чего более ты изменить не в силах. И какой толк об этом говорить?
Должно быть, Симон надеялся стать поэтом, каким-нибудь придворным рифмачом. Но мы вместе вытянули плохую карту. Возле смердящих пристаней Крига.
Я вновь уступил дорогу.
– Вы слыхали? – тараторила горожанка со своими подругами. – Мегера-то нашла себе дворнягу!
– Да ну.
– Старый кобель ее издох…
– Уж пять лет как, – перебили ее тут же.
– А щенков не оставил!
Дамы прошли мимо. Я не подслушивал, наслаждаясь прогулкой. Ценил каждый оставленный мне час. У рынка мне не следовало быть ни при каких обстоятельствах, и все же я отправился именно туда.
– Потайте на хлеб, кто сколько мошет… – У входа нищий пытался шепелявить и протягивал свою руку так, словно намеревался ее продать.
Завидев меня, он отвернулся, и пятерня его обвисла. Через десяток шагов я вновь услышал, как он голосит и взывает: еще жалостнее, чем прежде. Зря. Голосить ему стоило бы чуть позже. Через неделю настанет славное время: дни пиршества, графских щедрот. В празднества на улицах промышляют самые пригожие шлюхи, а лавочники выставляют самый роскошный товар, и даже в питейных омывают руки в первой половине дня. В корчме у площади Годари подают фаршированную рыбу на углях, солоноватую и костлявую. Чтобы управиться с такой, требуется половина часа. А если растянуть ее с горьковатой наливкой…
Я окинул взглядом развалы. И в ноздри забился яркий манящий запах.
– Три по две, – одноглазый лавочник указывал на связку сушеных рыб. – Шесть по пять!
Стоило ли ждать празднества? С рынка я вышел, пряча трех окуней под плащом.
Оксол не обещал мне избавления, и все же я был здесь. Шел и едва улыбался. Чьи бы порядки ни правили в городе, эти улицы не могли мне приесться. Каждая напоминала те узенькие дороги в предместьях, где я в последний раз виделся с сестрой перед тем, как крупно задолжать и вымолить пощаду за часовней.
Бессилие. Усталость. Вот что хуже всего, мой покойный не друг и не побратим Симон. В один день проснувшись, вдруг выясняешь, что ноги потяжелели, в спине что-то хрустит и не дышится так легко, как прежде. Воспоминаний больше, чем свежих дум, и каждое новое лицо кажется уже где-то виденным, подспудно знакомым. А к вечеру мечты и вовсе мельчают: хочется долго лежать, изредка переворачиваясь под теплой шерстью покрывала, слушать треск поленьев в печи. И кажется, что стоило больше дружить и меньше драться. И отдавать чуть больше, пока имел.
– Святые угодники! – отшатнулась от меня крестьянка и помазала лоб, когда мы разминулись.
Возможно, меня начали узнавать. А может, вместе с наплывом ветеранов Второго Восхода я утратил приметность: крупные гвардейцы наводнили Оксол в последний сезон. Крупные и неповоротливые, привыкшие драться, дай то пресвятая Матерь, раз в году, они важно рассекали улицы. Каждый из них, столкнувшись в подворотне с парочкой моих умельцев, потерял бы не только весь важный вид, но и жизнь, если бы начал упрямиться. Но в последний год им везло: я пресытился боем.
Мои мечты не столь велики. Я хочу встречать рассвет в своей теплой постели, трижды в день сытно есть, гулять по улицам, не пряча лица. И больше не знать долгов. Много ли я прошу?
Бывали времена, когда я брал больше, чем следовало. И никого ни о чем не просил.
– И я расплатился за них сполна, – пробормотал я, подтянув пояс.
Улицы Оксола начали заполняться поденщиками – а значит, закончилось и без того короткое время для моей прогулки. Что же, снова обратно, в тени и углы, точно голодной и молодой крысе. И снова потребуется потолковать с юнцами Даррела, проучить лавочника и его приятеля из Восходов, которые решили, что порядки на каждом углу города должны быть свои.
Порядки, подумать только! Никто из местных не умел вести дела даже в своем жилище: забывали запереть двери, оставляли открытыми ставни, бросали жен с детьми, хранили золото рядом с ночным горшком. Порядка не было ни в головах, ни в деле. Самому солнцу видно, что столь бестолковые люди обирают себя сами каждый божий день.
А мы с Даррелом учим их, расставляем по местам. Забираем малое, покуда жизнь не отняла у них совершенно все. Прибыльное выходит дело – правила вопреки правилам. Единственное дело, которое дается мне лучше прочих. Дело, от которого давно болит голова и нет сна.
Покойный не друг и не брат мой Симон рассмеялся бы, услышав, что я больше не желаю никого учить и наводить порядки.
Я потерял резиденцию из вида и оказался на почти безлюдной улице. Позади надрывалась дочь пекаря:
– Горячее, свежее! Всего за серебряк! Похлебка с потрохами!
Мои потроха сжались, но вовсе не от голода: я прислушался, не замедляя шаг. Один-два. Три. Пауза. Четвертый – не мой. Я свернул через два дома, отправился поближе к заулку, где стоят ночлежки Даррела. Один-два. Третий – чужой.
– Похлебка! – отдалялся детский голосок.
И все-таки в этот раз за мной действительно шли. Нет, это был не Чеканщик и не один из его людей. Первого я бы не успел приметить, не получив перед тем смертельный удар. А его люди не стали бы преследовать меня, долго петляя по улицам города. Все кончилось бы вмиг: один короткий приказ, брошенный в спину на улице. Или крупный отряд в стенах моего дома. Может, ночной визит. Нет таких мест, где Чеканщик не достал бы меня, и нет такого закона, который бы его остановил.
– Вард?
Тем более люди его не стали бы окликать меня по имени, которое я оставил в Криге. Я неторопливо обернулся. Вся улица проглядывалась юнцами Даррела, и зеваки уж давно не совались сюда без спросу: должно быть, за мной шел один из его старых знакомых.
Мой преследователь стоял поодаль, возле арки, увешанной мокрыми перьями по случаю грядущего празднества. Его плащ с правой стороны чуть приподнимался кончиком длинных ножен. Выкрашенная шерсть была подмочена усилившимся к полудню дождем.
– Вы, должно быть, обознались? – деликатно и тихо спросил я, вынуждая незнакомца подобраться ближе.
Он двинулся навстречу неторопливо. Что-то в манере его движений показалось мне знакомым. Плавные и осторожные шаги, но, пусть упадет на меня небо, я не осмелился бы назвать этого человека трусом: он зашел в переулок Даррела, будто не раз выходил отсюда живым.
Я прищурил глаза, и все сошлось.
Так и есть. Молодой господин Тахари, заморский мечник, по глупости удравший из родного дома. Весь ухоженный и разодетый, точно породистый жеребец какого-нибудь величества. В Криге я запомнил его беспомощным, по-щенячьи пугливым. Хорошим мальчиком из богатой семьи, которому вбили в голову, что из покорности выходит толк. Обманутым, постоянно глядевшим себе под ноги, в вечном полупоклоне…
Сейчас в его прямом взгляде не было ни страха, ни угрозы.
– К несчастью, у меня долгая память, – его воснийский стал почти неотличим от говора местных. – Ошибки тут быть не может.
Я слыхал, что он сгинул в землях Бато. Слыхал, что проигрался в карты, или был убит на поединке чести. Но вот он, цел. Почему-то эта новость меня обрадовала. Должно быть, так случается, когда долгие годы делаешь общее дело, пусть и поневоле.
Любопытно, кому из нас двоих меньше нравилась та работенка? Я принадлежал своей работе безраздельно, от того мига, как разлеплял поутру глаза, но и имел все блага, которые мог иметь человек моего сословия в Криге. Тахари прислуживал Симону на поединках, словно поденщик, и обладал немыслимой свободой. Но и жил беднее, чем мог бы жить любой другой дворянин в нашем деле.
Остался бы он еще на год-два в Криге, под крылом у Симона, стал бы ходить в приближенных. Может, мне пришлось бы подкараулить его в переулке и оставить там навсегда, чтобы сохранить свое место. Все-таки это огромная удача, что он ушел в тот год. И, похоже, жизнь ему улыбнулась шире, чем мне: дорого одет, далек от болезни и увечья, вернулся живым из-под флага. Расхаживает средь бела дня, не озираясь по сторонам. Ночует в славном месте, не страдая от блох и вшей. Счастливчик, любимец судьбы.
Мне захотелось разбить его голову о камень на дороге, хоть в этом не было никакой нужды.
– А вот моя память, признаться, уже не так хороша, – я прищурился. – Вы?..
Он неотрывно смотрел мне в глаза, сделал еще несколько плавных шагов и чуть наклонил голову к плечу:
– Лэйн Тахари. Криг. Улица Милль.
Я сдержал ухмылку. Улица Милль. Славное, прибыльное местечко: там мы раздевали захожих купцов, набравших лишнего в корчме. Резали слишком охочих гвардейцев, что мешали Бойду и нашей с ним сделке. И, конечно, проучили самого Тахари. Ему досталось меньше, чем мне, – мальчишка смог убраться из переулка на своих двоих. И, возможно, даже не обделался.
– Ах, верно! – Я сделал вид, что только вспомнил нашу историю. – Давние времена. Помнится, вы повздорили с господином Симоном…
На его лице ничего не изменилось. Впрочем, как и в голосе:
– Тогда, в переулке, ты сказал мне, что тоже отведал грязи. Это правда?
Он говорил словно лорд, перед которым обязаны отчитаться. Я поборол искушение шагнуть ближе и провести его лицом по щебню. Просто кивнул.
– И твоего коня тоже прирезали за золото, которое ты не брал?
До чего наивный, почти детский вопрос. Вот только Тахари уже не казался мне ребенком, каким он был там, в доме Симона, когда пришел, пряча следы побоев под плащом. Я дернул плечами и сказал:
– У меня никогда не было собственного коня, молодой господин.
Хотя уже и нет никакой нужды так его называть, и Симон не скажет ни слова, с тех пор как я сломал ему шею той весной.
Тахари отвел глаза: так не поступают, когда готовятся к схватке.
– И то верно. Только десятки чужих, как я помню.
Я еще раз окинул его взглядом: от начищенных сапог до расшитого отворота плаща на груди. Пришел один, без охраны и друзей, к тому же угодил в наш квартал. По незнанию или с умыслом? Я без резких движений поправил пояс и сказал:
– Все мы стараемся дотянуться выше. Кто уж как умеет, молодой господин, – я улыбнулся и кивнул на меч, спрятанный под его плащом. – Но довольно о былом. Зачем вы здесь?
Тахари поймал мой взгляд в сторону верхних этажей ночлежки, нависших над нами по правую руку. Говорили, что соображает сын Дальнего Излома крайне долго. Так мог говорить лишь тот, кто не видел его на манеже. И столь презрительно о промедлении говорят лишь те, кто не понимает цену ошибки, совершенной второпях.
В конце концов, именно я дал первые уроки терпения молодому мечнику. Тахари выучился на славу: он говорил спокойно и, казалось, взвешивал каждое слово.
– Увидел знакомое лицо. Решил поздороваться.
В Криге этот щенок совершенно не умел лгать. Улица непривычно притихла: не скрипели ставни, которые забывал прикрывать Ван, не кидали кости на бочку за углом, где принимали новичков. А может, мой слух стал слабеть, как слабели руки, спина и когда-то крепкие ноги.
– Помнится, вы не очень-то любили мою компанию в Криге, – я улыбнулся, не отводя взгляда от собеседника.
– Не будем о былом. Случается и так, что люди меняются. В лучшую сторону или худшую – не мне судить. – Нет, до чего удивительно хорош его воснийский! – Может, и вы изменились?
Обычно на меня смотрели с отвращением, страхом, потаенной болью и, конечно же, ненавистью. Такой, от которой сразу понимаешь, чего ждать от встречи. На лице Тахари была лишь усталость и извечная собранность человека, приученного ходить с мечом с самой молодости. Возможно, я так же глядел перед собой, выполняя неприятную работу. Желание содрать щебнем кожу с его лица совершенно пропало.
Под моим подмокшим плащом портилась сушеная рыба. В желудке неприятно потянуло.
– Это все, что вы хотели от меня, молодой господин?
Никакой злости и обиды на бледном лице. Там, в Криге, он и не замечал, как тут же тянулся рукой ближе к клинку, стоило мне окликнуть его или появиться рядом. Должно быть, люди и впрямь способны измениться.
– У меня простые мечты, Вард, – сказал он, чуть повернув голову в сторону людной улицы. – Спокойно просыпаться в своем доме, в теплой постели…
Я ухмыльнулся, зная, что ухмылка останется незамеченной. Тахари продолжил, так и не опустив взгляд к сапогам, так и не сделав ни шага ближе:
– …знать, что завтрашний день будет спокоен. Будет скучнее, чем вся моя прежняя жизнь.
Его рука потянулась к вороту рубахи, пальцы сомкнулись на ткани и потерли ее, будто счищая прилипшую грязь.
– И за эту небольшую мечту, – он снова посмотрел на меня и мягко улыбнулся, – я перебью вас всех до последнего.
Ставни распахнулись, с силой ударившись о глиняную стену. Из черного проема показалась арбалетная дуга.
– Именем господина Годари, я приказываю…
Слова гвардейца оборвались нечеловеческим воем. Ему вторил кто-то еще, правда, глуше и отчаяннее. Дальше я не смог разобрать ни слова: весь переулок затрещал, зазвенел, а хор голосов и вопли смешались в один сплошной шум, от которого я почти тут же оглох.
Вард отступил, укрывшись за мной, и керчетта, уже выскочившая из ножен, рассекла воздух. От человека с мертвенно-рыбьими глазами пахнуло подмоченной рыбой. Арбалетный болт треснул, столкнувшись с дорогой. Безлюдный и примолкший до того переулок сделался хуже базарной площади. Из-за угла ночлежки выбежала троица с Лавелем во главе, он тоже выкрикнул что-то нелепо-наивное:
– Я вам приказываю…
Что хотел приказать Лавель, самый юный командир в гвардии Оксола, я не разобрал. Валун удирал быстрее, чем породистый скакун, которому прижгли зад. Я бросился следом.
– А ну, стой! – крикнули с верхних этажей ночлежки. Друг ли, враг – какое мне дело?
– Лэйн! – кажется, то был голос Рута. Он отразился от стен и заглох.
Ночлежки пропали из вида – я уже выскочил из арки, через которую заходил в переулок. Вард знал эти улицы лучше меня. Был крупнее, опытнее и точно умел убивать людей самым поганым способом из всех известных. Но я бежал следом, мечтая лишь об одном – снять его голову с плеч.
Видит небо, я должен был сделать это еще три года назад.
– За мной! – крикнул я, даже не глянув, будет ли подмога.
Огромная спина отдалялась с той же резвостью, которую я не раз наблюдал в чертовом Криге. Спина человека, который вытирал о меня ноги, уверенного, что я был рожден для поводка и грязной службы. Нет, спина не человека, а скотины, которая ни во что не ставила жизнь других.
Тяжелое дыхание Варда отражалось от стен. Не такой уж он и валун: камни не устают. Я бежал следом, обнажив клинок. Бежал по петляющим улицам, и каждый шаг давался легко. Там, на проселочных дорогах, по колено в грязи, с поклажей, я ходил целыми днями. Стоптал все ноги в кровь. Голодал, подмывался в ледяных реках, пил воду, от которой разило тиной и грязью. Ладони мои загрубели от лопаты, кожа пропиталась чужой кровью, а от запаха кишок мои потроха уже не сводит. Моя рука не дрогнет, когда я распотрошу Варда на глазах у женщин и детей.
«Кто из нас теперь валун, дряхлая мразь?»
– Пфу! – пыхтел Вард, хватаясь руками за углы домов, пытаясь укрыться за ними.
Я дышал ровно и нагонял его на половинку шага через каждые десять.
– Стойте! Посто… – кричали нам вслед, и я не узнавал голосов.
Бах! Я врезался в гвардейца за поворотом. Тот отливал, полагая, что укрылся от взгляда прохожих. Я грубо толкнул его в сторону, и, судя по воплю, он что-то себе защемил. Ни слова извинений гвардеец не дождался – Вард уже нырнул меж двух широких домов.
– Немедленно оста…
Пустые приказы, испуганные возгласы девиц, любопытные дети, каменные дома и срубы – все это хлам.
Грязный отброс Крига и я – вот что имело значение. Ни одного лишнего слова – ублюдок бежал изо всех сил, догадываясь, что просить о пощаде не имеет смысла. Бежал, понимая: если кого и держишь на коротком поводке, рано или поздно тебе вцепятся в горло.
Один раз он замешкался, подумав метнуться влево, но вместо того кинулся вправо. Так я выиграл еще пять шагов.
«Еще десять – и я воткну керчетту в твою поганую спину!»
– Да стойте же! – задыхаясь, кричал кто-то позади.
Вард бежал и не просил о помощи. Должно быть, командир гвардии, объявившийся в их квартале, поумерил пыл бандита. Его дружок Бойд остался в Криге, как и вся их продажная свора. Потому ему оставалось лишь одно. Он уводил меня к предместьям.
И я не собирался ему подыгрывать:
– Вор! – крикнул я, и жители Оксола, пусть и не все, пусть и с неохотой, но принялись мне помогать.
Первого смельчака Вард впечатал в стену, словно разъяренный вол. Молодой восниец остался лежать на земле, подвывая, и я переступил через него. Двух подмастерьев Вард спугнул ножом, блеснувшим в его руке. Те разбежались в стороны, пропустив нас. Я выиграл лишь два шага.
Вард изредка оборачивался, чтобы оценить расстояние. Какая-то смелая женщина попыталась уцепиться за край его плаща. Вард развернулся и отправил ее, визжащую, прямо на мой клинок.
– А-а!
Лезвие керчетты почти распороло платье. Я уклонился и отпихнул девицу в сторону, не остановившись, чтобы помочь. Потерял три шага.
– Кто вор? – недоуменно переспрашивали друг друга крестьяне.
– Энтот али тот? – замешкалось дурачье на перекрестке.
Будто бы воры гонятся за своей жертвой, громко заявляя о том на всю улицу!
Весь мир против. Бестолковые воснийцы. Мне ли привыкать?
– Держи вора! – крикнул я на выдохе, уже ни на что не рассчитывая.
Вард бежал все медленнее. И во взгляде его через плечо все больше виднелся не страх, а готовность к смертельному бою. Я наверстал почти пять шагов.
«Теперь и я заставлю тебя сплясать, подонок».
Я плясал в Криге, точно цепной пес, увечный зверь на манеже: побеждал и проигрывал, когда прикажут. Пил, заискивал, вымаливал потом и кровью заработанные, заслуженные серебряки.
Вся Восния – чертов цирк. Загаженный переулок за мыльней? Жилой квартал с ночлежками и курильней? Дорога перед борделем? Где спляшешь ты, Вард?
Снова зарядил поганый дождь.
– Стой! – крикнул Рут. Или мне так казалось.
Весь мир уменьшился до спины Варда во взмокшем сером плаще. Она мелькала впереди, пытаясь укрыться от взгляда за углами домов, за телами прохожих. Грязь жадно чавкала под сапогами, но я не боялся растянуться и упасть. Я бежал, не опуская керчетту, готовый в любой миг пропороть любого, кто попробует защитить ублюдка, сломавшего мне жизнь.
Саманья говорил, что мечи не спасают в узких переулках, против превосходящей численности врага и там, где нет преимуществ. Я ворвался в подворотни Оксола, желая лишь одного: пустить кровь этой скотине, чего бы мне это ни стоило.
За мной тоже шла погоня:
– Да стойте же, ради всего…
Вард бежал напролом, сбивая прохожих, ломая ящики и разбрасывая все, что стояло на пути, словно раненый бык. Чуял, что не уйдет живым. Хватался за жизнь.
«Ты не уйдешь, мразь» – думал я, петляя между брошенными корзинами.
– Пфу! – фыркнул он и свернул в переулок.
Там могли быть его друзья. Обстрел с верхних этажей, бешеные псы и дьявол знает какая еще напасть. Но я свернул следом, не помедлив.
Пока жив Вард – мне самому не жить.
– Стхо… йте! – хрипело за спиной, все дальше и дальше.
За первым углом Варда не было. Я заскочил за второй и тут же увернулся, прижавшись к стене, – Вард бросил камень мне в голову. Он мог выгадать пару мгновений, чтобы всадить в меня кинжал, но не воспользовался случаем и снова побежал прочь.
– Ты не спрячешься, мразь! – крикнул я, позабыв про дыхание.
Сердце бухало в ушах, ноги горели от усталости. Ерунда. Там, в землях Волока, я шел вперед, когда в глазах темнело, а во рту почти не было слюны – так редко получалось утолить жажду. И каждая капля во фляге дарила еще сотню шагов.
После дождя на улицах Оксола влаги было с лихвой.
– Ты за все… мне ответишь, – прорычал я, поскользнувшись в грязи. Нога провалилась в лужу по самую щиколотку.
– Ф-фух, – странно выдыхал Вард.
И поскользнулся дважды, и хватался рукой за стену – мы оба угодили почти по колено в мягкую глину, текшую с городского холма к низинам. Не лужа – целое болото.
Мой враг молча хрипел, будто давно не бегал. Хрипел так, словно приготовился отдавать богам душу до встречи со мной. Это злило еще больше.
– Мы одни, – прорычал я и ухватился левой за стену, стараясь, с одной стороны, догнать мерзавца, с другой – не растянуться в грязи. – Трусливая ты шавка!
Здоровенный, ростом выше всех, кого я когда-либо знал, Вард будто задыхался, отступая по стене. Он шагнул на твердую землю – резиденция высилась за домом, у которого он оказался, – и встал в тени, громко вбирая воздух. Лысая склоненная голова блестела от влаги. Его широкие плечи поднимались и опускались.
Я пошел быстрее, вновь поскользнувшись. Плащ, намокший, отяжелевший от грязи, тянул назад. Семь шагов.
Вард распрямился и будто по-отечески улыбнулся, поведя безоружной левой рукой:
– Я умираю, молодой… х-х… господин…
Четыре шага. Я занес керчетту для удара.
– …вам нельзя меня убивать, если хотите остаться… х-х…
Клинок нацелился в светло-голубой глаз. Узкое пространство оставило мне лишь колющие удары. Вард чуть поднял ладонь.
– …живы…
Ублюдок собрался остановить меня словом. Сколько раз я сам просил оставить меня в покое? Слова! Я чуть не рассмеялся, делая выпад. Глаза Варда широко распахнулись. Острие не дошло даже до горла и впилось в подставленную ладонь. Вард зарычал и сжал клинок, сделав шаг навстречу. Еще одна пядь, и ублюдок смог ухватить бы меня за запястье своими погаными длинными руками. Я отступил в грязь, чудом не поскользнувшись, и распорол ему пальцы обратным движением.
– Гра!
Мой плащ скользнул по стене и зацепился за торчащую щепь.
«Дьявол!»
Я потерял равновесие и чуть не упал на задницу. Плащ порвался, потянул меня вниз. Вард не довершил дело – бросился прочь, все с тем же странным хрипом.
– А ну, стой! – крик прозвучал почти жалостно: кто же остановится в переулке, ожидая человека с мечом?
Снова разрыв в пятнадцать шагов. Я кое-как выбрался из грязи. Мокрые портки, сырые сапоги, вымазанные обшлаги. Все испорчено.
– Тварь!.. – прорычал я, откинув приставучий плащ назад.
Первая кровь – кровь Варда! – притягательно блестела на моем клинке, звала, оставленная на стенах, окропившая сухие участки земли за домами. Запах сушеной рыбы, железа и соли.
– Они вернутся за вами, – обещал он, а бежал все еще слишком резво, – вернутся, кх-х…
«Молодой господин» – добавлял он в иных обстоятельствах, а сейчас закашлялся. И оставлял багровые следы.
Чавк-чавк. Отвратительно хлюпала моя обувь, а часть грязи все-таки просочилась под швы. Узкий проулок сменился широким двором за мыльней. Вскрикнули девицы у дверных створок. Музыканты у входа закончили играть, и визгливый звук флейты оборвался последним. Вард терял кровь и шатался, больше не оборачиваясь, и что-то говорил мне про тех, кто обязательно придет мстить.
– Одумайтесь, – то ли просил, то ли угрожал он.
Я хотел одного: еще больше его крови на своем клинке, стенах Оксола, в грязи проулков и на своих сапогах.
– Пресвятая богиня! – кричали люди на балконах и закрывали ставни.
Другие бежали прочь, убираясь с дороги.
– Убивают!
– Грабят! Стража, стра…
– Святые боги, что деется! На помощь!
Я скалился, глубоко дышал и шаг за шагом сокращал дистанцию.
– Стойте же, мать вашу! – все еще кричали нам в спину. И чьи-то сапоги тоже мерно чавкали, попадая в ритм скорых шагов.
Мыльня сменилась игорным домом, затем – курильней. Слуха коснулись полуденные утехи в борделе – и стихли за новым поворотом. Над арками изредка висели фигурки милосердной Матери солнц. Бестолковые идолы, которые еще никому не помогли в этом краю.
– Что вы себе позволяете? – начал гвардеец, ошалело посмотрев на меня, и поднял руку. Я не отвечал.
Пять шагов. Еще немного. Вард слабел. Багровое пятно ширилось по всему рукаву, перепачкало темный штопаный плащ, и брызги помельче красовались, как кожная сыпь, вдоль штанов. Таким я и нагнал его за двором кузни, сам уже похрипывая от усталости, ярости или одним богам ведомо чего. Вернулся сладковатый запах курильни, горелой ткани, мыла – мы сделали еще один круг?
– Стой!.. – прорычал я.
Три шага. Вард повернулся, и я только успел заметить, как распахнулись ледяные рыбьи глаза при виде керчетты, летящей навстречу. Чирк! Лезвие разрезало его щеку, обнажив бело-розовую кость. Я не успел сообразить, почему острие не попало в глазницу. Не успел и отшатнуться. А потом крепкий удар оттолкнул меня, почти свалив с ног. Я быстро отступил назад и споткнулся.
Больше всего я мечтал сократить расстояние до Варда – и тут же поплатился за это. Человек-валун бил, крепко стоя на земле. На левой его руке был намотан плащ, точно тряпичный бордовый баклер.
Первый удар пришелся вскользь, в плечо, и не зацепил мою одежду. Но вторая – казалось, обескровленная – пятерня увела мой клинок в сторону, и я не смог прорезать намотанный на нее плащ. Дзынь! Керчетта жалобно вскрикнула, столкнувшись с каменной стеной, брызнули искры. А я отступал, обтирая дома, цепляя заборы одеждой.
Мы завертелись, как бестолковые псы в драчке – рычали, пытались ухватить друг друга, подранить и были слишком далеко друг от друга, и клинок мой тщетно искал цель – слишком короткий для схватки с верзилой, чьи руки в любой миг, пусть и получив порез или укол, тут же обхватят меня и довершат дело, и слишком длинный – ибо размахивать мечом в узких стенах становилось все сложней.
– Хр-р… – хрипел Вард, и не то кровь, не то слюна текла по его подбородку.
В небольшом переулке ублюдок казался еще больше – заслонял солнце, перекрывал выход к кузне, и притом все время избегал клинка. Вард готовил удар, и холод в потрохах заставлял меня жаться к стенам. Увечное лицо показывалось из-за бордового тряпья, и я подавался вперед, мечтая снять с него кожу.
– Хр-х…
Вард резко раскрылся, подготовив правую руку для захвата, и я замер, так и не сделав выпад. Попятился, коснувшись лопатками стены.
– Выходит, вы не готовы… х-х… еще умереть? – оскалился Вард. И глаза его казались безумными: лоскут кожи свисал со щеки и подзапекшаяся кровь смывалась новой, свежей, обляпывая оставшиеся зубы и рисуя темные ручьи до самой шеи.
Он хрипел, точно бешеный пес, и я отступил еще на два шага влево.
– Уходите прочь, – рявкнул он, лязгнув зубами. – Вам-х-х… стоит встретить добрую… старость!
Позади послышались шаги, и в этот миг все сложилось. Я выйду из этого переулка один, или мне не увидеть следующего дня. Вард, этот бешеный ублюдок, никогда не даст мне жизни. Он пересек четверть Воснии, не отстал от меня и за два года, забирая все, до чего смог дотянуться. И он заберет мою жизнь и свободу, если я не оставлю его на этой земле.
– И я встречу ее, – выплюнул я, навернув круг в переулке.
Вард ушел в глухую оборону. Неловко переставлял ноги, а явно потяжелевшая рука все медленнее отводила удары. Я наступал, зная: я заставлю его упасть на колени, ползать на брюхе, извиваться на спине. И познакомлю его кишки с грязью Оксола.
– Гх… – силился он что-то сказать, и я подловил его.
Керчетта срезала лоскут кожи у его левого бедра. Вард не кричал, только скалился, скалился, бешеный пес с дохлыми рыбьими глазами…
– Если вам так… х-х… не нравилось с нами, милорд, – брехал он, скалясь все безумнее, – почему же…
Загребущая его рука выскочила слева и чуть не вцепилась в мое плечо, я распахнул глаза и отступил к стене, тут же отбежав правее. Вард повернул туловище в мою сторону:
– …вы не ушли раньше?
Хрип. Выпад. Шорох изрезанного промокшего плаща.
– Три года, х-ха?
Я пропустил удар, и Вард толкнул меня в стену. В глазах сплясали звезды. На языке появился привкус железа.
Пять шагов, соседняя стена.
– Пять лет, – выдохнул я и снова ударил, отклонившись в сторону.
«Пять лет я ждал, чтобы зажать тебя в подворотне и услышать твой последний вдох».
Силуэт Варда расплылся, а потом отдалился – тот снова пытался удрать. Шагнув вперед, я скривился от боли.
– Не уйдешь, – прошипел я, ободрав плечо о забор.
Огромная спина исчезла за поворотом, оставив на глиняной стене мокрый след. Я услышал, что валун решил дождаться меня за углом. И я принял приглашение, замахнувшись клинком.
Удар шел сверху – в голову. Керчетта перехватила его, уколола пальцы, пустила кровь.
– Больше ты ничего не заберешь у меня, тварь! – рявкнул я и подрезал сухожилия на его запястье.
Валун даже не вскрикнул, будто перестал быть человеком из плоти и крови, будто забыл про страх, боль. Будто решил, что переживет меня и выберется сухим из воды.
Я увернулся от нового замаха и столкнулся со стеной.
«Дьявол!»
Промедление, шаг влево. Плащ цепляется за стену. Вард заслоняет телом солнце и пинает меня в ногу. Небольшой нож – мой верный помощник на улицах Крига, почти незаметный убийца рыцарей, упавших на землю под стенами замка, – оказывается в правой. Удар, который должен был убить меня, – напарывается на острие, выбивает нож из рук.
– Гх!.. – наконец-то вскрикивает чертов Вард и делает шаг назад.
Меч подрезает ему ногу, идет выше, но не дотягивается до паха. Я поднимаюсь рывком, наступаю на правую, и в глазах темнеет от боли. А потом что-то с хрустом ломается, и я бьюсь затылком о стену, все еще слепым сползаю по ней, отмахиваюсь мечом по памяти, на уровне чужого сердца. Цепляю что-то и падаю в грязь.
«Я сдохну, но заберу тебя с собой!» – рука с опозданием прикрывает шею.
Варду хватило бы одного удара. Вместо этого я услышал ряд торопливых, прихрамывающих шагов по грязи. Я поднялся через боль, рывком. Мир прояснился. Вард убирался прочь, не оглядываясь.
Я шагнул – и чуть не обнялся со стеной.
– Сир, э-э, – мне протянули руку. Гвардеец. Не Лавель.
Как долго они бежали следом? От друзей никакого толку.
– За ним, – прорычал я, – живо!
Почему-то в глазах гвардейца застыл страх. Мне ничего не ответили.
– За ним…
Переулок шатался – шаг влево. Еще шаг – вправо. Дома кончились, ширилась привозная площадь у восточной стены. Незнакомые лица, испуганные, удивленные, рябые. Все – не те. И только одна нужная спина. Вард двигался, хромая, заваливаясь то влево, то вправо. Оставляя отпечатки кровавых пальцев на прохожих. Те что-то кричали, то ли мне, то ли нам вслед. На большом здании, подпиравшем небо, за которым снова скрылся чертов Вард, висели украшения из мокрых, приставших друг к другу перьев.
Я задыхался на бегу, расталкивал детей, женщин, зевак. Уперся ладонью в угол, подставившись под удар.
– На помощь! – кричал кто-то позади.
Вард не оборачивался. Оставлял кровавый след, волочил ногу, хватался за стены, пытаясь удрать. Весь разодетый в новые портки, теплую обувь, шерстяной плащ без заплат. Рядился в обновки на краденые деньги, полученные ценой моей гордости, нескольких лет моей паршивой жизни в Криге.
Я покрашу его обновки в прекрасный бордовый цвет.
– Стой, Вард, – прохрипел я, нагоняя его. Боль отступила. – Забыл, как мы были дружны?
Шаг за шагом я настигал его. Дома кренились влево, вправо, раскачиваясь с каждым шагом. Запахи пропали, на языке собирались железо и соль.
– Куда же ты? – Слова звучали иначе. Что-то в них было неправильное, чужое.
Валун удирал, хоть у него подгибались колени. Убирался прочь, точно слизняк, оставляя мерзкие капли крови. Я шел по его следу, почему-то медленнее, чем мог бы. Громко дышал и дважды споткнулся. Замахнулся мечом, когда спина Варда стала ближе.
– Я похороню тебя, мразь! – крикнул я и сделал выпад.
Клинок пошел вперед, но не проткнул и без того изрезанный плащ. Я сделал еще пару шагов, рассекая воздух. Вард уклонился, припав к земле. Меня качнуло влево. Вытянув руку к стене, чтобы не упасть, я скривился от боли в колене. Дома вновь сдвинулись вправо, а затем подскочили вверх. Я упал на Варда, и что-то больно ткнуло мне в живот.
Нож? Я кашлянул, не успев испугаться. Поднялся на четвереньки, отполз, оттолкнувшись от Варда. Ощупал свое брюхо – цело, не порезано.
– Гх-лг…
Ублюдок не поднимался. Из огромной его груди торчал арбалетный болт. Я уставился на выход из переулка: там стоял удивленный гвардеец, придерживая самострел. Мимо него пробежали Рут и еще несколько человек, которые то расплывались, то снова обретали знакомые черты.
Я медленно распрямился, отдышался, пока багрово-серое пятно под ногами не превратилось снова в моего врага. Вард никуда не спешил. Так и лежал на брусчатке. Что-то бормотал, сжавшись. Скреб пальцами по груди и хрипел.
– Молодх… ой господин…
Керчетта не блестела, изгваздавшись в крови и уличной грязи. Жижа капала с острия, пальцы намокли, казалось, рукоять, вот-вот выскочит и клинок упадет на землю…
– Мне ж-халь… – прохрипел Вард, а может, мне показалось.
Я всадил клинок ему в ногу, пригвоздив к земле.
Вард не закричал, лишь глухо взвыл и оскалился, показав розовые зубы. Я уперся ладонью в рукоять и пихнул ублюдка стопой в плечо, пытаясь повернуть затылком к дороге. Не получилось. Гребаная безразмерная туша, поганый валун…
– Тебе жаль?! Жаль? – я пошатнулся, а потом вновь ударил его пяткой. – Меня?! – Я хотел рассмеяться, но не смог. – На кой хер мне твои сожаления?!
Я пнул его еще раз и прошипел:
– Жаль ему, дьявол… сучий ты потрох, ты…
– Лэйн, – окликнули меня со спины.
– Заткнись, на хер, – огрызнулся я и ударил Варда еще раз. – Из-за тебя, подонок, я стал…
Кем? Последней мразью, под стать Варду, или хуже? Грязью под ногами? Убийцей и лжецом, беднейшим аристократом, воснийской шлюхой для богатых вдов?
Я наступил сапогом ему на лицо. Почему-то в первый раз промахнулся, и испачкал распоротую щеку, задрав лоскут чужой кожи. Поднял ногу еще раз, пошатнулся и ткнул мыском сапога в опухшую от побоев морду.
– Что же ты молчишь, мразь? – выдохнул я.
Почему-то слова звучали не совсем точно. Не так. Согласные, гласные, все плыло…
– Тебе не больно, гребаный камень?
Никакого ответа. Варду стоило бы пырнуть меня ножом, извернуться и вцепиться хоть зубами, хоть здоровой ладонью…
– Эй!
Кто-то схватил меня за предплечье и потащил в сторону. Я выдернул руку из хватки и обернулся:
– Да что еще, твою мать?!
Это оказался Рут. Он поднял ладони, отцепившись от меня, и быстро произнес:
– Он мертв, приятель. Мертв! Он тебя не слышит.
Я замер, сделал несколько вдохов – воздуха почему-то не хватало. Затем посмотрел себе под ноги. Вард пусто уставился в замызганный угол мастерской. Рыбьи глаза. Я дрожащей рукой коснулся своего лица. Влага, тепло. Вся ладонь осталась покрыта свежей кровью. Я понял, что дышу ртом. Голова закружилась. Кожу на лице стянула подсыхающая грязь.
– А-а, дьявол… – я запрокинул голову.
– Вам бы к лекарю, сир…
Кто это сказал? Я покачнулся, боль нахлынула резко: голову и туловище словно зажали в тиски.
– Дьявол… – прогнусавил я и попытался вытащить керчетту из ноги Варда.
Рут хлопнул меня по плечу, осторожно толкнул в сторону:
– Я разберусь. Оставь. Проваливай, пока идти можешь. – Он свистнул и попросил кого-то. – Проводи-ка. Там, через два поворота, за углом.
Я шагнул в сторону городской стены. Остановился. Туда ли мне? Куда…
Сначала передавали монеты – что-то звенело за моей спиной. Затем кто-то очень быстро нагнал меня. Я обернулся. Никого, лишь темный фасад глиняного дома.
– Сир?
Я коснулся лба рукой. Под пальцами, казалось, болел даже сам череп. Я двинулся влево – и снова не в ту сторону. Почему-то передо мной снова оказался Рут.
– Ну он тебя и отделал, – приятель не улыбался.
– Сюда, сир, – неуверенно окликнул меня гвардеец и предложил помощь.
Этого еще не хватало. Отмахнувшись, я направился в сторону голосов и к очертаниям башни. После десяти шагов по незнакомой улице я понял, что не могу идти прямо, словно набрался дешевой сливянки. Только даже от самого паршивого пойла в Криге не бывало столь дурно. Я сплюнул горько-соленую слюну под ноги.
– Осторожнее, мать твою, – огрызнулся кто-то.
Гвардеец отпихнул его в сторону.
– Обопритесь-ка, сир, – мне подставили плечо. – Вам надо.
Я помотал головой, но все равно уперся рукой в чужое плечо. Идти стало чуть легче. Прохожие тыкали пальцем, справлялись о здоровье, шутили или обходили стороной. А потом превращались в пятна. Дорога казалась бесконечной. Ноги тяжелели.
– Он точно мертв? – спросил я.
Кровь стянула кожу на горле. Я почесал его – и только больше испачкал руку. Вспомнил, что надо задрать голову: тупая ноющая боль становилась хуже.
– Да, сир. Ужасно мертв, – ответил гвардеец и придерживал меня, когда мы свернули с людной дороги. – Паршивый конец, скажу я вам…
Улыбнуться не получилось. Я убил Варда. Убил. Оставил там, в подворотне, в грязи, как он меня когда-то. Только я – жив, а он – лежит мертвее некуда.
Дома темнели. Солнце садилось? Или…
– Вот мы и пришли, – сказал гвардеец, а я никак не мог вспомнить, видел ли это лицо ранее. И нужно ли его помнить…
Гвардеец раскрыл дверь без стука. Пнул ногой, и мы без спросу ввалились в небольшой дом. Я не посмотрел на вывеску. Лекарь, бордель, курильня или питейная?
Боги, как мне было все равно.
В тесной комнате сидел всего один седой мужчина. Перед ним пустовала тарелка с грязными краями.
– Неужто не видно – я обедаю, – начал возмущаться он. Затем вскочил со своего места и схватил ложку так, будто мог ее метнуть, точно ножик. Потом распахнул глаза и медленно отложил ее в сторону, оглядев меня с ног до головы. – Ах, сир, прошу извинений. Вижу. Вижу. Усаживай, чего встал! – это уже было сказано гвардейцу.
Я рухнул на стул или ящик и тут же прикрыл рот рукой. Отдышался. Кожа на пальцах казалась белее кости. Меня согнуло, и я сплюнул желчь, кровь, бог знает что еще… В углу, за столом, широкая тень собралась, словно укутав чье-то тело плащом. Я уже видел это. Где, когда?
– О, дьявол… – прохрипел я, и меня снова согнуло.
– Кто же вас так, милорд, – фальшиво переживал лекарь.
Когда я распрямился, зрение снова вернулось. По правую руку стояло ростовое зеркало. Солнечный блик, игравший в левом верхнем углу, резал глаза. Мою голову повернули в сторону, и я взвыл.
– Ну-ну, обождите…
Зеркало отражало пыльную крохотную комнату и двух человек. Один, что постарше, отошел в сторону, и я увидел третьего. Уставившись на свое отражение, я то ли закашлялся, то ли посмеялся. Вытер глаз, заслезившийся от боли.
Рассеченная бровь, разбитый нос, губы – все в крови и ссадинах, будто моим лицом подметали щебень.
– У меня свадьба, – я задрал голову, стараясь забыть образ в зеркале, – знаете? Послезавтра…
Нет, все-таки это было смешно. Я посмеялся, прикоснулся к разбитым губам и взвыл. А затем снова согнулся от смеха. Боли. Смеха?..
– По голове хорошенько дали, да? – засуетился лекарь. Зазвенели монеты. Кажется, одну гвардеец припрятал себе. – Оно и видно. Ничего, ничего, – бормотал он и проходил то слева, то справа. Суетился. Сполоснул руки, судя по звуку. – Сейчас все исправим.
Что-то снова зазвенело. Графин? Железо? К моему лицу поднесли кружку.
– Выпейте. Все-все.
О запахе пойла я мог лишь догадываться, но вкус точно был мерзейшим. Возможно, таким пойлом угощали куртизанки, чтобы обчистить карманы до дна. От первых глотков голова закружилась еще больше.
– До дна, вот так. Ага, – издевался лекарь.
Я не морщился лишь по одной причине – от каждого движения становилось больнее.
– Обождем, торопиться тут не надо. – Лекарь все продолжал что-то говорить. Я не слушал.
«Все кончено», – думал я, разглядывая потолок. Жанетта Малор не станет иметь никаких дел с уродом. Сколько шрамов останется? Буду ли я теперь как оторва Руш? Даже перед смертью Вард отнял у меня последнее – остатки хоть какой-то красоты…
– Кусайте, – мне протянули деревяшку, обмотанную в обрывок застиранной ткани.
– О, дьявол… – только и успел прогнусавить я. На вкус тряпка была даже хуже пойла.
«Казалось, только дела мои пошли на лад – и все снова загублено, потеряно».
– Придержите-ка… вот тут. Так надо! Не плачьте, господин. Станет как было. Как новенький будете!
А потом теплые руки легли мне на лицо, пальцы обхватили нос, что-то хрустнуло и все остальное стало совершенно не важно.
VI. Судьба каждого пса
Ветеран, хирург, могильщик.
Удивительно, сколь многое может уместиться в одном человеке. Гант, отслуживший три года под флагом второго Восхода, пресытился капральским плащом и взялся за лопату. Должно быть, и мертвецы вконец утомили его. Так, по словам Джереми, Гант взялся за врачевание.
Если кому и понадобился бы в Волоке человек, в равной степени разбиравшийся в том, как убивать, как лечить и что делать с телами, следовало искать Ганта.
Так я и оказалась здесь, в холодном подвале с запахом жженых трав и дешевого масла.
– Миледи…
Судя по осанке и цвету кожи, Ганту бы самому не помешало поврачеваться.
Он запустил меня в отдельную комнату. По пути оглянулся по сторонам так, словно боялся, что нас услышат. Затем поманил меня к углу, в котором явно когда-то держали ведро с потрохами. И уже там так долго мялся и бледнел, словно трусил, что и я его услышу.
– Видите ли, миледи. Так выходит, что госпожа Льен ударила саму себя.
Побелевшая старуха лежала на невысоком столе, прикрытая тонкой простыней. Ее мнение было бы бесценно, прозвучи оно сейчас в подвале. Полагаю, она бы рассмеялась над такой дерзостью. Но старуха уже день как была мертвее некуда.
– Собственным же стилетом, – покивал сам себе Гант, ничего не стесняясь. Впрочем, разве стеснение ведомо могильщикам? Ветеранам, врачевателям…
В гулком помещении мой смех прозвучал как хриплый лай.
– Я платила за то, чтобы мне нашли убийцу. – Я хотела присесть, но поморщилась – все поверхности были заняты грязными инструментами или покойниками.
Гант приосанился, его тусклые, глубоко запавшие глаза смотрели с вызовом.
– И я поклялся, что не скажу ни слова лжи!
Я отвернулась в поисках стульев. Запачканное лицо могильщика тут же вновь возникло передо мной:
– …что расскажу вам все, что ведомо мне самому! – упорствовал он. Он подбежал к старухе и сдернул простыню с подбородка, опустил ниже, оголив черный прокол на шее. – Глядите!
Быть может, я не была хороша в колотых ранах, убийствах и прочих увечьях, но кое в чем я разбиралась отменно. Когда мне лгали.
– Слабый укол, – Гант вытащил стилет и приложил его к окоченевшему горлу. – Не зашел и на треть клинка!
Я бросила короткий взгляд на старуху и поморщилась. Потолки в подвалах куда милее того, что обычно прячут могильщики под простынями. По старым балкам ползла жирная муха. Ползла прямо в паутину.
– А вот… – голос Ганта переместился правее. Я опустила взгляд: хирург уже оголил дородного воснийца, почти примерзшего к столу. – Горшечник с Малой улицы, повздорил с кожевниками, у них давняя вражда, коли вам угодно знать. – Я подошла ближе и сделала вид, что полежавшие мертвецы для меня дело столь же привычное, как и ссуды. Гант, по счастью, ничего не замечал. Его глаза горели: – Это, миледи, удары взрослого мужчины. Если быть точным, принадлежат брату покойного, его на неделе будут вешать до службы, в третьем часу. Хорошо ли видно? Тут, я готов побожиться, били походным ножом с чуть затупленной кромкой…
Откуда-то в руке могильщика появился клинок. Осторожно, словно он кормил дикого медведя с ложки, Гант опустил щербатый нож в разверстую рану. Таких ран на подмерзшем теле можно было насчитать целую дюжину.
– Заметьте, как отличаются удары, нанесенные спереди, лицом к лицу! – азарт в глазах могильщика пугал не меньше, чем помутневшая радужка покойного. – Все удары, как видите, примерно одной глубины. – Нож повторил свое преступление, трижды погрузившись в черные полости. На четвертый – не дошел до рукояти. – Только не здесь, миледи: косточка.
Сине-серая кожа с желтыми пятнами, местами будто прожженная углем. В голове плескался туман. Выныривая из него, я еле ухватывала слова Ганта.
– Бакалейщик Бенут, – простыня оголила затвердевшее тело, – заколот у церкви милосерднейшей из матерей…
Я прикрыла нос ладонью.
– Два удара в селезенку и один – в печень, если быть точным.
На мой взгляд, все порезы и уколы выглядели неотличимо друг от друга.
– С ненавистью, миледи, – Гант погрузил тонкие щипцы в рану и положил большой палец у края. Затем извлек клинок наружу и поднес его ко мне так близко, что я перестала дышать. – Колотые раны – главная причина гибели в Волоке.
Я перевела взгляд на дальних мертвецов, уложенных на одном столе. Гант привлек мое внимание:
– Это близнецы, миледи. Не наш с вами случай. Мороз.
Сам он уже в волнении ходил возле старухи.
– Мы видели глубокие раны, нанесенные сильной рукой. – Он полуприкрыл глаза, точно смаковал посмертие. – Но здесь иная картина. Не столь глубоко, без должной точности, словно били вслепую. И, я бы сказал, с безразличием. – Гант без сочувствия обернулся к тому, что осталось от старухи Льен. – При таком порезе, миледи, осмелюсь заявить…
Тем не менее он колебался. Поймал мой взгляд и будто считал то, как мало во мне осталось терпения. Я неспешно приближалась к могильщику, стараясь не коснуться ничего, что лежало на столах.
– …осмелюсь, э-э… При таком порезе еще оставалось время. Кровь можно было остановить при помощи тряпицы. Замедлить ее ход.
Я вскинула бровь и обошла тело старухи.
– Позвать на помощь, если вам угодно. – Гант сдернул часть простыни, обнажив белые старушечьи руки. – Если бы вашу подопечную не удерживали. Или бы она уже была мертва, что исключено, насколько я могу судить…
Старуха была еще теплой, когда мы поднялись.
– Знаете ли, старушечье тело сохраняет любые отпечатки, слабая кожа, хрупкая кость…
Простыня слетела с щиколоток Льен, крючковатые пальцы Ганта указали на отметины у стоп.
– Как видно, пока ее погружали в телегу, миледи, эти следы остались.
Горец сказал, что Льен не сопротивлялась. Что ж, хоть в чем-то два пса смогли договориться, не встречая друг друга.
Все остальное, впрочем, не вызывало ни малейшего доверия.
– А ведь я смеялась, когда мне сказали, что в спальню средь бела дня проник убийца и ушел незамеченным. Могу похвалить тебя. – Я изучила его взглядом: этот дурень просиял. – Легкая победа: такое объяснение никуда не годится. Это худшее, что мне довелось услышать!
Он поднял руки и попробовал возразить, но я повысила голос:
– Существует десяток способов свести счеты с жизнью. Без боли и лишнего шума! Корень заморки, отвар Бунье, петля, наконец! Ты хочешь сказать, – я сделала шаг в сторону, и Гант попятился, – что человек в здравом уме способен порезать себе горло и простоять в комнате, не проронив ни звука, пока жизнь не покинет его?!
Нет, такой взгляд мало кому понравится: уверенный, прямой, будто бы честный.
– Я хочу сказать только одно, миледи, – набрался он храбрости, – что удар был нанесен усилиями покойной, да сохранят боги ее душу…
Мы кругом обошли старуху Льен – единственную преграду между мной и могильщиком.
– А остальное мне неведомо! – осторожничал он, укрываясь за другой стороной стола.
Мне захотелось показать, с какой силой разгневанная женщина может всадить тупой походный нож в человека. К тому же он лежал совсем неподалеку – на углу. Пальцы нащупали рукоять.
С дальнего угла послышались шаги с отзвуком металла.
– Я же сказала не беспокоить нас!
Бряц-бряц. Потерянный и виноватый, возле тела бакалейщика появился Джереми.
– Миледи, – склонил голову пес, – господин Коул просил передать вам, что…
Так скоро? Сегодня? Через час?..
Что-то теплое и давно забытое всколыхнулось в груди. Я бросила нож в сторону могильщика и уже направилась к лестнице.
– Подумай еще. Подумай как следует, – бросил Вуд врачевателю, придержав дверь сапогом.
Место нашей встречи обходили стороной.
Не меньше двадцати псов окружили палисадник в Волоке. Поланцы, воснийцы, два южанина… Когда мне было шесть, я не могла уединиться в саду даже по малой нужде: десятки глаз неотрывно следили, куда я бреду, дышу ли я и не пора ли обедать. Стояли псы у арки с розами, сидели на ступенях к дому, глазели с балконов и из-за ставней. Наверняка какой-нибудь стрелок еще сидел на самой крыше и нянчил арбалет.
Столько вооруженных мужчин всегда пугали нежных барышень из высоких домов Крига. Я часто думала: не по той ли причине меня сторонились? И не потому ли у меня так и не появилось подруг? Вооруженные мужчины стали моей тенью, дышали в спину. Стая цепных псов. К страху привыкаешь, когда он каждый день тащится за тобой по пятам. А может, я куда лучше обращалась с псами, чем с людьми. Знала их повадки.
Простая наука: брось каждому из них пару монет, и он кинется на своего соседа, будь они трижды друзьями.
– Едут, – хрипло подметил поланец с копьем.
Я увидела карету, обляпанную дорожной грязью, с подмерзлой соломой в колесах. Экипаж остановил двойку скакунов, и меня могло бы обрызгать бурым снегом, но я все равно подошла слишком близко, точно привороженная. Дубовый остов, дверца с резьбой, знакомый запах. Дверь открыли снаружи, и на порожке появился укрепленный сапог. Неловко нащупал опору. Затем рядом появился второй, и из темного проема высунулся… дряхлеющий старик. Цепь на моей шее показалась тяжелее.
«Отец», – вертелось у меня на языке, но я не смогла произнести это слово.
Нет сомнений, что это был именно он: глава семейства Коул.
Дорога измочалила его. Сеть морщин пролегла возле светлых глаз, и казалось, они вот-вот потускнеют. Дорогой дело не обошлось. Время изувечило сухие кисти рук, которые не знали тяжелого труда. Эти когда-то крепкие руки поднимали меня вверх, к самому потолку. Там я думала, как вот-вот смогу пройти по воздуху, прошагать вокруг опорных балок, намотать на палец ту надоедливую паутину в верхнем углу. И верхний угол казался тогда нижним, а весь мир – маленьким и понятным.
Теперь руки отца мелко дрожали, и он мог выронить ложку, не то что удержать мой вес.
– Сьюзи!
Вымученная улыбка появилась на его лице. Он потянулся ко мне, чтобы обнять, но неловко пошатнулся, зацепившись за что-то больной ногой. Я подставила ему руку и крепко обхватила второй, приняв часть веса на себя.
– Ах, что же ты, бельчонок, – он махнул ладонью, покачнувшись. – Я еще не так стар…
– Вы плохо выглядите, – я крепче сжала его предплечье, – что говорит Мельцер? – На меня поднялись усталые глаза с красными прожилками возле уголков. – О, должно быть, он только и делает, что говорит! Никакого толку от этого пустобреха. За что вы ему платите, отец?
Он то ли закряхтел, то ли вздохнул от досады. Мой локоть держал его, точно крючок – ослабшую рыбу. Смотреть на его упрямство и ложную молодцеватость было почти невыносимо. Мы двинулись по широкой тропинке вглубь палисадника.
– Боюсь, против старости нет снадобья, – будто виновато пошутил отец и снова вытер лоб свободной рукой. – Как бы мне ни хотелось поколотить Мельцера, стоит признать: свое дело он знает. И не имеет привычки лгать, что в наши времена стоит дороже золота…
Мы шли вдоль осеннего сада, приминая ногами погибшие листья. Шурх-шарх – подволакивал ногу отец. С того дня, как напали на него у резиденции, ноющая боль не уходила: казалось, под шрамом продолжает ветвиться железо, выворачивая стопу к своей соседке, рождая страшное, однобокое косолапие. От этого тоже не было снадобья, только пустая брехня Мельцера и столь же нелепые его утешения.
Шурх-шарх. Отцу полагалось гулять, а я была его палачом в этот день. Надсмотрщиком, почти дознавателем. Сеть морщинок на его лице стала глубже – после дороги каждый шаг отдавался болью.
Сколько раз мы еще сможем выйти вот так, погулять в чужом саду, на разоренных землях?
– Вы мало гуляете.
– Время, бельчонок. Время. – Задумчиво сказал он, часто вдыхая носом. – Дела не решаются сами собой, пока я наслаждаюсь видами яблонь или цветущей вишни.
Я поискала взглядом фруктовые деревья. Осень раздевала леса. Когда в последний раз я видела, как они цветут? И чем цветы яблони отличны от вишневых, грушевых? Все ли фруктовые деревья красивы по весне? Казалось, это совсем иная жизнь, иные заботы. Теперь это не имело значения. Я собираю иные плоды: все, чем плодоносят разорившиеся графы, проигравшиеся сержанты, алчные рыцари Восходов. Знаю, как расцветают они, едва получив нужную сумму или выпросив ссуду, еще не представляя, что придется отдать и как скоро наступит другой сезон, пора возврата, пора увядания. И не останется у них ничего, кроме вялых опадающих листьев.
Я вспомнила Венира и крепче прижала руку отца. Украдкой взглянула на его плечо. Когда я доросла до него, я не знала, что к замужеству уже обгоню отца в росте на половину ладони. Сейчас, сгорбленный, он был ниже меня сразу на две.
– Как он выглядел, Сьюзи?
Я вздрогнула. Сморгнула набежавшие слезы так, чтобы отец их не заметил.
– Тот человек, – настаивал отец.
Багряные листья разлились по дороге грязными бурыми пятнами, подобно луже у тела старухи Льен. Я повела плечами и завела вторую руку под теплую шерсть плаща.
– Большой безволосый разбойник с длинными руками, а глаза – как у мертвеца.
Я запнулась. Показалось на миг, что отец вздрогнул. А может, тому виной старая рана?
– Представился Густавом, но я не поверила. Вы знакомы? – чуть склонив голову набок, я неотрывно следила за каждой тенью на его лице.
Отец не смотрел мне в глаза и не был рассеян.
– Что? О, нет, нет, – он нелепо отмахнулся и покачал головой. – Нет. Спрашивал ли он… о чем-либо?
Я стиснула зубы.
– Только пожал мне руку и оплатил долг графа. – Я решила добавить: – Густав носил перчатки, я не разглядела ме…
– Пожал руку, – эхом повторил отец. – И что граф?
– Убрался транжирить деньги дальше. Если те у него остались. – Я подняла плечи, чтобы согреться.
– И ты ничего не сделала по этому поводу?..
Отец посмотрел мне в глаза с такой строгостью, что стало холоднее.
– Я отправила старуху Льен по следу Густава.
Желваки заиграли на его сухом лице. Я начала оправдания:
– И…
– И она мертва, как я слышал. – Я отвела глаза. – Сколько раз мы говорили – осторожно, без спешки, шаг за шагом…
Без спешки! Скоро мой отец не сможет ходить без посторонней помощи.
– Время против нас. Вы знаете, Волок едва оправился после войны. Всем нужны деньги, но мало кто готов их возвращать. Венир был единственным, кто…
– Сьюзи. Сьюзи, – отвлек он меня. – Черт с ним, с Волоком. Что было – то было. Венир от нас не уйдет. Я хотел поговорить о другом. Ты нужна в Криге.
Я почти взвыла от досады. И почему рядом с родней так сложно держать лицо?
– Разве моих братьев мало? Разве же не вы говорили мне, что новые возможности там, где нет порядка? – Я обернулась и вдруг поняла. – Постойте. Вы… вы боитесь его! Человека с длинными руками. Густава. Вы знакомы! И не отпирайтесь, ни в коей мере! – Я повысила голос: – Мне не десять! Выкладывайте. Сейчас же все выкладывайте, или…
Ноша стала тяжелее.
– Ох-х… – закряхтел папа и упал на одно колено.
Я не успела удержать его. Наклонилась, беспомощно встала рядом, и руки задрожали. Отец держался за сердце и жмурился, хрипло дыша.
– Вам плохо?..
Конечно, ему плохо, безмозглая ты белка!
– …Мельцер, – я обернулась в сторону кареты. – Я тотчас позову его…
– Нет, – отец с силой вцепился в мою руку. – Останься. Уф-ф. Скоро… скоро все пройдет.
От моей злости не осталось и следа. Отец не выглядел хуже: он давно был плох. Но сердце? Если это и был трюк, грязный трюк, – как же в нем упрекнуть старого человека?
И почему мы столь бессильны перед теми, кого любим?
Мне стоило спросить про маму. Про страх перед лысым человеком, которого потеряли беспризорники. Про связь со смертью Льен. Но я стояла и не могла проронить ни слова, пока отец не раскрыл глаза вновь.
– Вам лучше, папа? – мой голос выдал меня.
– Ох… Уф… Потихонечку.
Он сам взял меня за руку. Сам попросил помощи, чтобы подняться. И сам опирался, когда мы продолжили прогулку.
Мы шли, и больше отец ни о чем не спрашивал, погрузившись в раздумья. Он нашел все ответы. Сквозь тонкий шлейф хвойного масла пробивался стойкий запах старости, дряхлости, увядания. С каждым годом я ждала наших встреч все больше, и притом боялась их. Неопрятность в одежде, затуманенный взгляд, который раньше был вдумчиво-острым. Я смотрела на отца, этого грозного человека, и все меньше узнавала его. Сколько еще времени ему подарит судьба? Сколько времени осталось у меня?
Его голос прозвучал столь неожиданно, что я дрогнула:
– Неделю назад хоронили Уилла.
Он умел переводить тему, как никто другой. Я сделала вид, что удивилась.
– Да?..
Отец вздохнул:
– Я понимаю, этот брак… Но, Сьюзи, его семья!
Семья? Наши партнеры, не более того. Их наследники получили доступ ко всем благам «Арифлии и Коул». Им не на что жаловаться.
– Ты могла хотя бы отправить ответ…
– Я, должно быть, пропустила письмо о его гибели. – Развернув послание, улыбалась целый день, оставшись вдовой.
Мы некоторое время шли в молчании, и сердце отца не беспокоило.
– Черт бы с ним, с Уиллом, – так же легко согласился он. – Мы найдем тебе достойного мужа.
Я распахнула глаза, и те заслезились сами собой от холода:
– Папа, как же можно! Я в трауре…
Мы остановились, уставившись друг на друга. Я шмыгнула носом. Отец рассмеялся первым, и я подхватила его веселье. На мгновение показалось, что все теперь будет как прежде. И нет никакого времени, нет Густава, нет ничего, что могло бы…
– Вернись к семье, – отец аккуратно пригладил ткань моей перчатки. – Малышка Сильвия плохо спит…
Но никакие слова и улыбки не изменят того, что произошло.
– Я всегда со своей семьей, – я сжала его руку крепко-крепко и боковым зрением приметила, как он поморщился. – В те дни, когда гуляю с вами в саду. В те дни, когда не разгибаю спины, сидя за бумагами в кабинете. Когда слежу за ссудами, продолжаю наш род и высылаю золото гувернерам, нянюшкам и стряпухам. Когда дважды в году посещаю могилу матери и думаю, сколь скоро мы все окажемся закопаны рядом, пока эти мерзавцы…
– Сьюзи, – выдохнул он, – мы не сможем ее вернуть, и если торопиться…
– Знаете, папа, – я сказала громче, – я часто думаю, как она там. Брошенная в ледяном гробу, под землей, среди корней поланских яблонь, на самом теплом холме Крига.
– Прошу тебя…
– Будь она жива, о чем бы думалось ей, когда убийцы ходят на свободе, грозят ее роду, а любящий муж предлагает забыться. О, должно быть, ей было бы очень горько, – я смотрела мимо отца, прямым взглядом вдоль тропы. – Но откуда же нам знать правду, когда она так давно мертва?
– Сьюзи…
– Да и положено ли мне волноваться о Дане Коул, ведь мертвецы не считаются частью нашего рода…
– Сьюзан!
Он крикнул так громко, что я разжала хватку. Отец с видимым усилием обогнал меня, преградил путь, потянулся руками к моей голове. Я позволила ему дотянуться, чуть наклонившись вперед. Он пригладил большими пальцами мои щеки.
– Прошу, услышь меня, моя девочка. – Под его носом скопилась влага. – Я не готов потерять еще и тебя.
Я склонила голову еще ниже, не в силах встретиться взглядом.
– Дай мне слово, что не наделаешь глупостей. Доверься мне. – Он высоко поднял брови, и его лицо сделалось чуть моложе. – Нам больше ничего не грозит. Ну? Иди ко мне.
Он широко развел руки, и я резко обняла его. Оттого что боялась, что он может упасть без опоры. Оттого как сильно скучала последние полгода. Оттого что хотела скрыть слезы, в этот раз – настоящие.
– Да, отец.
Жалость – точно яд. Уничтожит нас двоих.
Когда отца посадили в карету и отправили по главной улице Привозов, я подозвала Вуда. Мы стояли и провожали экипаж взглядом. Крохотный коробок из дуба уменьшился, потемнел и скрылся за домами гильдий. Охранники отца разбрелись кто куда – пить, гулять, веселиться. Вот и все, что волнует псов. Я тихо спросила:
– Скажи-ка, в Красных горах еще верят в чудеса?
Горец провел языком за щекой, в остальном на его лице не дрогнул ни один мускул. Может, горцы не мерзнут, потому что они уже отмороженные.
– Как и везде, – он дернул плечами.
– Если подумать, какова вероятность того, что Льен убила саму себя?
Вуд дернул плечами вновь:
– Не видал еще такого, м-леди.
– А если бы произошло что-то крайне необычное? Допустим, некое чудо?
Горец посмотрел мне в глаза. Должно быть, подумал, что я рехнулась.
– Не видал такого, – упрямо ответил он.
Если уж отмороженный горец сомневается в чудесах, с чего бы я должна в них верить? Пусть десять могильщиков соберутся передо мной и все заявят, что Льен покончила с собой. Или вовсе – что старуха жива. И что небо ночью – красно-зеленое, а не черное.
– Верно. Разговоры о чудесах – это ширма лжи, – скривилась я и подняла плечи выше, чтобы согреть шею. – Куда охотнее я поверю, что кому-то выгодно морочить мне голову.
Признаться, даже последний остолоп надеялся обхитрить семейство Коул. Не на серебряк, так хоть на медянку. Я посмотрела на Вуда. Тот молчаливо ждал, словно пустой кувшин, пока его не наполнят чем-нибудь полезным. Не найдут ему применение.
– Собери всех, как условились. К вечеру у нас будет много работы.
– Всех?
Я кивнула на тот случай, если горец оглох.
– А когда соберешь, проверь, есть ли на ком-либо символы, метки, странные шрамы…
– Мне платят не за это.
– О, боги, – поморщилась я. – Я заплачу вдвойне за все старания, а может, и втройне, если ты наконец поторопишься и перестанешь мозолить мне глаза!
Вуд недолго думал. И никогда не обижался, если речь шла о деньгах. Неумело поклонившись, он с воодушевлением отправился вверх по улице. Туда, где его не ждали лжецы, решившие потягаться с семейством Коул.
Тусклый огонек плясал, отбрасывая длинные тени. Изломанные, тревожные, они бесновались под потолком и у самых ног, переплетались в ложной страсти. Ветер не проникал так глубоко под землю и потому не мог загасить огни. Но и теплым это место не назовешь.
В подвалах часто хранят мертвецов. Живым следовало бы об этом помнить.
– Меня зовут Сьюзан Коул, – не было нужды говорить громче: меня прекрасно расслышали.
Шестеро пленников вздрогнули. Принялись щуриться в полутьме, жевать кляпы и греметь цепями. Я обошла несущую балку, вышла на свет.
– Вы меня знаете, не так ли?
Клерк со стариком замычали.
– Или думаете, что знаете. – Я прошла вдоль ряда, глядя под ноги, чтобы не вляпаться… во что-либо. Полутьма и длинные тени. В подвалах всегда не хватало тепла и света.
Позади меня заскрипели колеса: Вуд занялся делом.
– Думаете, что я – избалованная сука, за которую все делают слуги?
Я повернулась к узникам. Клерк шумно сглотнул.
– Или, может, что я нежная и чуткая слезливая девица?
Глаза старика округлились, он судорожно принялся кивать головой. Я вскинула бровь, и согласие превратилось в отрицание: туда-сюда, подбородок от левого плеча к правому. Гант замычал. Я продолжила идти вдоль колонны узников, теперь в обратную сторону.
– Думаете, что можно солгать мне, взяв мои деньги?
Грузный клерк, который обязался докладываться о каждой монете, что проходила через мой банк. Старик, охранявший старуху Льен. Выдумщик Гант и беспризорники. Шесть оттенков лжи и предательства. Все – в одном месте.
На оголенных телах не было меток. Старые шрамы, уродливые гнездовья волос, вислые и впалые животы, спины в мелких прыщах или родинках. Ни одного символа Матери солнц. Я прошла вдоль ряда последний раз, присмотревшись к запястьям. И выдохнула. Вуд не солгал.
– Прежде чем вы начнете говорить о чести, верности, словом, лгать еще больше, чтобы выкрутиться… я вам кое-что расскажу. О том, почему вы здесь.
Пленники переглянулись. Младший противно всхлипывал. Джереми стоял за их спинами и тоже мало что понимал.
– Шесть человек поведали мне историю. Многие из вас видят друг друга впервые. – Я кивнула в сторону Ганта. – Быть может, вы пересекались на улицах Волока, кто знает? Так или иначе, слушайте.
Я потерла ладони, убирая пыль с перчаток и прогревая пальцы. Подтянула меховую накидку повыше – мех защекотал мочки ушей и подбородок. Напротив меня, закованный в цепи, стоял старший из беспризорников. Уже не такой смелый. Я заговорила:
– Взрослый мужчина, заметный издалека, как под землю провалился, оставив после себя кошель с монетами разного происхождения. Его не поймали у ворот, не нашли в городе и не видели в корчме. Провалился под землю, верно?
Взгляд перешел на Ганта, по его лбу побежала струйка влаги.
– Старуха Льен, женщина, прожившая много лет и любившая жизнь больше всех вас, вместе взятых, прикончила саму себя ударом кортика…
– Стилета, – поправил Вуд.
– Помолчи. Затем старуха легла на пол в собственной спальне и тихо истекла кровью.
Гант что-то промычал, я сделала шаг вправо, поравнялась со сторожем.
– Старик, нанятый для единственного дела – беречь нанимательницу, – ничего не услышал и не увидел, кроме юных визитеров.
Сторож Льен даже не поднял глаза: обреченный и пустой взгляд. Я занялась клерком, вернувшись на пять шагов назад.
– Огромный сундук на шесть тысяч золотых появился в Волоке, точно снег летом. Появился в городе, разоренном двухлетней войной. Ровно в тот миг, когда понадобился человеку, который растерял всех друзей и богатства.
Я шагнула вправо, к пустому месту на стене. Там не хватало самого Руфуса Венира. Теперь и все деньги банка не позволят мне приковать его в углу и задать десяток вопросов, от которых он не сможет отбрехаться.
Гант что-то промычал. Мой палец поднялся вверх.
– Старуха-самоубийца, исчезающий человек, деньги кочевников и эританцев и все богатства Волока в одном сундуке…
– Ну и история, миледи! – напряженно улыбнулся Джереми, который явно слишком долго держался, чтобы смолчать.
– Чувствуете? – Я потрогала кончик носа перчаткой. – Смердит ложью. Предательством. Чудесами.
В подвале слышался скулеж, урчание в желудке со стороны беспризорников, чавканье Вуда. Струился липкий гнусный запах пота, усиливающийся с каждой минутой. Собачий страх. Обрывки рубахи Ганта и клерка промокли от шеи и подмышек до брюха. В подвале стояла прохлада.
– Кто-то из вас уверен, что знает меня. Так скажите, чем славится семейство Коул? – Я вздернула подбородок.
«Повешениями», – сказали бы в Криге.
«Неслыханным богатством», – ответили бы разоренные графы.
«Властью, банками в городах Воснии, количеством наемников среди охраны и доносчиком в королевской спальне», – судачили бы в толпе.
«Врагами», – заметили бы сами наемники.
Узники, впрочем, ничего не могли сказать. Только мычали в кляпы.
– Мой отец говорил, что разум – главное в человеке. Поступай по уму, и все будут в достатке – я даю кучеру деньги, он отвозит меня в соседний город. Крестьянин платит господину – и живет на своем отрезке, зная, что его охраняют. Стремление к взаимной выгоде, процветанию – в нашей крови, – все слова пролетали мимо псов. Я вздохнула. – Коул – это надежная сделка. Удобный и ясный договор. Со всяким долгом можно расплатиться… тем или иным способом. Или искупить вину, – я приподняла бровь. – Потому я спрашиваю вас в последний раз. Очистите совесть. Вуд!
Горец подвинул языком что-то за щекой, обошел узников и неторопливо подкатил небольшой стол в центр комнаты. Так, чтобы всем было видно, что там.
Из центра столешницы поднимался пар.
– Иногда разумных людей путают с добряками.
Я осмотрела узников, заглядывая каждому в глаза. Ни одна из собачьих жизней не стоила больше, чем жизнь матери или отца. Чем моя жизнь.
– Последний шанс, – повторила я. – Кто скажет правду, будет выпущен на свободу.
Стоило начинать с детей. Поступи так, и про тебя скажут: «Такой человек не знает жалости». Я посмотрела на веснушчатого, скрестила руки на груди, отвернулась и прошла к старику.
– Я слушаю. Очень внимательно.
Джереми стащил кляп ниже, повозившись. Первым делом старик отдышался: похоже, у него был заложен нос.
– Миледи, да благословят вас боги, клянуся всеми небами и землей, што не слыхал и не видал ничего, окромя того, что уж было сказано…
Я отступила на шаг назад:
– Неправильный ответ.
Вуд подкатил конструкцию к старику. Зачерпнул большим ковшом воду.
– Миледи, послухайте, какой толк мне брехать, коли…
Кипящая вода полилась на его макушку, и старик закричал, сотрясаясь всем телом. Жмурил глаза, тряс розовеющей головой, а струи воды стекали по его шее, плечам, груди.
Джереми ловко заткнул его пожеванным кляпом, и вопли сменились визгливым мычанием.
Я посмотрела на узников. На лицах забрезжили первые лучи осознания. Больше, конечно, там виднелся ужас. Те часто шли рука об руку.
– У нас еще много дров и воды, – заметила я. – Но мое терпение не безгранично.
Следующим шел Гант. Мы встретились взглядом, и его глаза мне совершенно не понравились. Кляп вышел с влажным звуком, Гант откашлялся, и длинная нить слюны протянулась от его губ к полу.
– Я готов… кхе… поклясться своей жизнью, что старуха убила себя сама. Хотите – убивайте сразу, но я не солгал вам.
Нет, мне совершенно не нравился этот взгляд. Два шага назад, скрип колес, зачерпывание воды. Шипение, вой, мычание. Псы совершенно не ценят свою жизнь. Пожалуй, это одна из причин, почему она никогда не станет стоить больше.
Я сместилась левее. Глаза клерка покраснели и так подались вперед, что казалось, вот-вот нам придется подбирать их с пола.
– Миледи, – прохрипел он, едва Джереми вытащил тряпку, – я получил письмо недавним утром. Про деньги! Да, да, – он затряс подбородком, – шесть тысяч. Но я не могу, мне не дозволено…
Я отошла на два шага назад.
– Пощады, миледи! Я поклялся, что…
Вода попала ему в рот, и он хрипел и визжал, а грузные щеки подпрыгивали и мотались из стороны в сторону, покрываясь уродливыми волдырями.
– Что ж, это уже что-то, – я потерла предплечья.
– Еще подумай, – прохрипел Вуд, возвращая половник на место.
Котел двинулся дальше.
Дети. Сколько труда выносить даже одного из них. Сколько мучительной боли, впустую потраченного времени, какой ущерб здоровью. Сколько унижения! Я выносила двоих ради будущего семьи. Ради будущего семьи я закопаю хоть сотню.
Я заметила, как у Джереми дрогнули руки, когда он вытаскивал кляп.
Тележка еще не подвинулась в его сторону, а младший беспризорник уже всхлипывал и подвывал.
Старший смотрел будто мимо меня и спотыкался на каждом слове:
– М-мне неведомо. Не знаю я, чего вам нужно. Чего нужно, скажите, я скажу. Чего хотите услышать, скажу. Все сделаю!
– Так не пойдет, – я покачала головой. Заметила, что Джереми отвернулся. Вуд чавкал и переминался с ноги на ногу, словно ему не терпелось добраться до уборной. Или облить человека кипятком. Может, все одновременно. – Расскажи мне все, о чем умолчали. Признайся, в чем солгал.
С детьми вечная морока. Как им ни говори, слышат через раз.
– Мы десять золотых взяли, десять! – поджал он губы. – Простите! Все верну, только пустите…
Я кивком головы отправила Вуда к младшему. Со скрипом телега отправилась в дальний ряд. Глаза старшего округлились:
– Сейчас же верну! Спрятали под навесом, у левого столба, там прикопано, миледи… Нет!
Будто бы эта мелочевка способна меня взволновать. Черпак опустился в воду.
– К бабушке заходили люди из банка! Мне велели молчать, – почти завизжал старший.
Я придержала Вуда за рукав.
– Как выглядел?
У мальчишки забегали глаза.
– Большой, но невысокий… в мантии! Темно-серой, как грязный камень, миледи! Почти без волос.
– Это клерк, которого я отправила к старухе Льен, – я отпустила руку Вуда. – Ты лжешь, мелкий паршивец!
– Не было никого! Ничего больше не было! – взвыл мальчишка.
Кипяток облил младшего, не делая скидок: рука Вуда не дрогнула. Что ж, именно за это я и платила. Мальчишка выдумывал, даже когда сам покрылся волдырями.
– Сначала они лгут, а потом называют тебя палачом, – тихо заметила я. Джереми повозился с кляпом.
– Еще подумай, – так же невозмутимо сказал Вуд.
От второго толку было не больше – он ревел и захлебывался в соплях. Я стиснула зубы и вернулась к старику. Тот дышал поверхностно и не открывал глаза, будто заснул.
Никто из поганых псов не догадывался, что стоит на кону. Что Дана Коул погибла, хоть никогда никого не поливала кипятком. А стоило бы. Жалость убивает.
– Что скажешь? – без особой надежды спросила я.
Старик разлепил глаза, в которых не было ненависти или злобы, только страшная усталость.
– М-миледя, уж простите, что был недогляд, не со зла я, клянусь я всею жизнею, но уж нечего мне вам больше…
– Ладно, – невозмутимо сказала я. Кивнула Вуду. – Топи.
Крик оглушил еще до того, как дряхлая кожа коснулась воды. Короткий всплеск, булькающее мычание, и голова старика наполовину погрузилась в котел. Руки Вуда стали шире из-за заметного усилия. Его невозмутимое лицо побагровело от жара и борьбы.
Старик дернулся, выгнулся в спине, разбрызгал воду. Горец успел отвернуться, и кипяток не попал ему на лицо. Стальная хватка, которой Вуд вцепился в чужое тело, походила на работу гончей с зайцем. Еще один всплеск, последние крупные пузыри воздуха вышли на поверхность, и закружились всплывшие волосы с пеной. Старик притих мгновением позже. По стенкам котла стекала вода, и капли разбивались на углях с громких шипением. Пленников осталось пятеро. Даже проклятые дети наконец-то притихли.
Вуд с досадой отряхнул руки, вытащил тело. Клерк взвыл, когда брызги коснулись его щиколотки, и взвизгнул во второй раз, когда мертвый сосед безвольно повис рядом. Вуд откатил конструкцию в сторону. Подул на волдыри на руке, так и не выругавшись. Может, когда ему платили, он не чувствовал даже боли.
Я не смотрела на обваренное лицо старика.
– Что же, времени у меня не так много. Я надеюсь успеть к ужину. – Я неспешно прошагала вдоль колонны, выправляя голос: – Гант, уж ты-то готов меня порадовать?
Он заговорил очень быстро, и в этот раз не закашлялся:
– Вы правы, что старушки не режут самих себя. Таким уж способом – точно! Но раны не могут лгать.
На мгновение я поверила. Я представила отца, плачущего в подвале, и десятки тел, которые он приказал сжечь и скормить животным, прежде чем отчаялся и оставил поиски. Представила убийцу, который не делает разницы между детьми, стариками, женами и матерями. Убийцу, которого не нашла одна из самых богатых семей Воснии.
– Чудеса, – отвернулась я.
– Вы пришли ко мне впервые! – с вызовом говорил Гант. – Я не знал вас, а вы не знали меня. И не я предложил вам свою услугу. Так назовите мне хоть одну причину для лжи!
– Люди лгут безо всякой причины.
– Так позвольте мне доказать свою правоту! Ответить по чести! – Я не успела ничего спросить, Гант тараторил на удивление разборчиво. – Я знаю, вы ищете убийцу старухи. Так дайте помочь! Нет никого, кто лучше меня определит причину смерти…
Я не знала, что злит меня больше всего: то, с каким вызовом он смотрел, его глубоко запавшие глаза или сам факт, что таких умельцев на всю Воснию – пересчитать по пальцам одной руки. А может, то, что у него, похоже, и впрямь не было причины лгать.
– Правоту? Честность? Раз уж ты прямой и честный человек, Гант, – я встала напротив него, сложив руки на груди, – скажи. Что такой честный и искренний человек забыл на войне?
Он растерялся, часто заморгал, пропустил вдох. Открыл рот и не сказал ни слова. Закрыл его.
– Ты же ветеран, Гант. По крайней мере, был им. Или это тоже ложь?
Клерк всхлипнул, Вуд чавкал, Джереми размял плечо, загремев железом. Гант смотрел мимо меня, когда заговорил вновь:
– Мою сестру нашли в разорванной одежде. – Он сморгнул. – Мы опоздали. На ее шее осталось девять темных следов.
Клерк прекратил всхлипывать. Голос Ганта звучал в тишине:
– Ему, должно быть, отрезало указательный палец на правой – так я подумал тогда. Я пошел под флаг и нашел его… их… через два года.
– Твоя сестра. Как ее звали?
И, помедли он хотя бы секунду или если бы у него забегали глаза, как у очередного выдумщика, я бы немедля приказала окунуть его в кипяток. Но Гант хрипло ответил:
– Анила. Ей было всего десять. Я… я должен был, верно?
– Миледи? – Джереми удивленно косился на меня.
Мы и впрямь потратили много времени.
– Я должен был, – сказал Гант, прежде чем подавился кляпом.
Вуд плавно отставил половник и поковырялся в ухе. Я прошла вдоль живых. Остановилась у мертвеца, почуяла запах бульона и тут же вернулась обратно.
– Чудеса, ну надо же! – Я хлопнула в ладоши и с силой улыбнулась: – Я готова поверить в одно чудо. Если кто-нибудь из вас выберется сегодня наружу живым.
Кадык на шее клерка дернулся. Он замычал и забился, привлекая внимание. Я кивнула, и Джереми вытащил кляп.
– Оксол, – резко выдохнул клерк, раздувая щеки. – Оксол, миледи!
Я сделала шаг вперед.
– …золото, одним платежом, – его губы кривились, – пришло из Оксола несколько дней тому назад! Не напрямую… поймите, с печатью, такие дела обычно… Важные! Очень важные дела…
Ногти впились в мягкую часть ладони. Я завела руки за спину. Важные дела? Отец не стал бы мне лгать. По крайней мере, в этом. По крайней мере, так нагло.
Не стал бы?
– Это серьезные слова, – я прищурилась. – Уж не хочешь ли ты выбраться отсюда любой ценой? Поверь, твоя смерть будет долгой, если…
– Бумаги! Я все покажу, миледи. Бумаги…
Он постыдно зарыдал, повиснув на привязи. К вою присоединился младший. Я покачала головой.
Пес, который ценит свою жизнь. С таким хотя бы можно работать.
– Что ж, проверим бумаги. Вуд, развяжи его и… проследи, чтобы не сбежал. – Впрочем, с таким телом убежать клерку суждено разве что от мертвой старухи. – Мы прямо сейчас и отправимся за бумагами, верно?
Клерк отчаянно закивал, морщась от слез. Зазвенели цепи. Я повернулась к Ганту. Он буравил меня прямым неприятным взглядом. Могильщик, ветеран, врачеватель. Возможно, честный человек.
– Ты сказал, что готов помочь. – Я встала напротив и дождалась, пока Джереми вытащит кляп. – Как?
– Я знаю, кхм… как отыскать убийцу, которого никто не видел, – он сверлил меня взглядом, почти не моргая. Старался не кашлять. – По самому крохотному и незаметному следу, который он оставил. Но… с одним условием.
Я прищурилась:
– Ты еще смеешь…
– Вам придется довериться мне. Без этого, боюсь, никто не сможет вам помочь.
И замолчал. И дальше буравил взглядом. Из угла пахнуло мочой.
– По самому крохотному следу? – я склонила голову набок. Слева от меня, досаждая своим нытьем и всхлипами, болталась троица бестолковых детей.
Утопающий не выбирает травинку, которая вернет его на берег. Я помедлила, отшагнула в сторону от смрада.
– Что же, Гант. Попробуй. У меня есть для тебя кое-кто, кого следовало бы отыскать. И следов он оставил предостаточно. – Я хлопнула ладонями. – Джереми, позови их.
Псы не заставили себя ждать. Троица спустилась по скрипящим ступеням подвала.
– Звали, миледя?
– Бросьте его в темницу с хорошим надзором. – Когда узника начали освобождать, я подошла ближе и еще раз осмотрела его с ног до головы. Никаких меток. Славно. – Я вернусь за тобой, Гант. И лучше бы тебе держать свое слово.
Он зажмурил глаза в качестве ответа и снова открыл их. Глаза-сверла. Его протащили по полу на коленях, и только на лестнице он смог шевелить ногами, закованными в кандалы.
– Э-э, миледи, а что делать с… – Джереми, как теленок, покосился на оставшихся узников.
«Сьюзан Коул не держит своих обещаний», – заговорят беспризорники Волока.
«Сьюзан Коул не такая уж и страшная сука», – начнут судачить исполнители, наемники, купцы.
«Сьюзан Коул ищет тех, кто заплатил за графа», – узнают наши враги.
Сказано было слишком многое.
– Я выпустила двоих. Остальным пусть поможет чудо.
По лестнице спускались псы, которым я поручила прибраться после.
– Всем?.. – Джереми покосился в сторону беспризорников, так и не двинувшись с места.
– Всем, – бросила я с верхней ступени. – В конце концов, раз уж они так верят в чудеса, им нечего бояться, верно?
Джереми промолчал. Остался там, в полутьме с псами, когда за мной прикрыли дверь.
В архиве растопили печь. Клерк очень резво шарил на полках, поднимал клубы пыли, суетился и раздувал ноздри. Судя по запаху, вероятно, в подвале обмочился именно он.
– Где же, где же ты… – беспорядочно срывалось с его губ.
Бедолагу согревал только плащ и тонкая рубаха с портками не в его размер. Джереми стоял очень близко, явно готовый к тому, что на полках в моем банке вместо бумаг притаили кинжал. Впрочем, я и сама уже не знала, что прячут прямо у меня перед носом.
– Вот! – воскликнул клерк, развернулся и потряс измятым свитком. – Вскрыто, миледи, от того дня, как я вам и докладывал…
