Третья волна
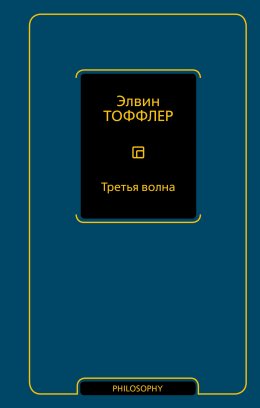
Зачем мы пришли – смеяться иль плакать?
Мы умираем? Или скоро родимся?
Карлос Фуэнтес «Терра Ностра»
Серия «Philosophy – Неоклассика»
Alvin Toffler
THE THIRD WAVE
Перевод с английского С. Рюмина
Компьютерный дизайн В. Воронина
Печатается с разрешения Curtis Brown Ltd. and Synopsis Literary Agency.
© Alvin Toffler, 1980
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Введение
Сейчас, когда террористы разыгрывают смертельные игры с заложниками, валюты шатает от слухов о третьей мировой войне, когда пылают посольства и во многих странах шнуруют берцы бойцы штурмовых отрядов, мы в ужасе взираем на заголовки. Цены на золото, этот чувствительный барометр страха, побивают все рекорды. Банки трясет. Бушует безудержная инфляция. А правительства по всему миру впадают в ступор или кретинизм.
Перед лицом этих событий целый хор Кассандр сотрясает воздух воплями о неминуемой гибели. Пресловутый «человек с улицы» объявляет, что мир сошел с ума, эксперты твердят, что налицо все признаки катастрофы.
Эта книга предлагает резко противоположный взгляд.
Она утверждает, что мир вовсе не свихнулся и что за лязгом и какофонией с виду бессмысленных событий скрывается поразительная, потенциально вселяющая надежду закономерность. Эта книга изучает данную закономерность и надежду.
«Третья волна» – книга для тех, кто считает, что история человечества не только не заканчивается, но едва началась.
Сегодня почти весь мир захлестнул мощный прилив, создающий новую, нередко причудливую среду для труда, досуга, вступления в брак, воспитания детей или ухода на пенсию. В этих сбивающих с толку условиях деловые люди плывут против невероятно переменчивого экономического течения, политики с тревогой наблюдают за дикими скачками рейтингов популярности, а университеты, больницы и другие учреждения ведут отчаянную борьбу с инфляцией. Трещат по швам и рассыпаются системы ценностей. Спасательные шлюпки семьи, церкви и государства крутит и швыряет бешеный шторм.
Глядя на эти разительные перемены по отдельности, мы воспринимаем их как показатели нестабильности, упадка и катастрофы. Однако, если отойти на расстояние и посмотреть шире, обнаружится много такого, что иначе осталось бы незамеченным.
Начнем с того, что многие сегодняшние перемены не происходят независимо друг от друга. И они неслучайны. Например, распад полноценной семьи, глобальный энергетический кризис, распространение сект и кабельного телевидения, растущая популярность гибкого графика работы и соцпакетов, появление сепаратистских движений от Квебека до Корсики могут показаться разрозненными явлениями. Однако дело обстоит ровно наоборот. Между этими и многими другими якобы одиночными событиями и трендами на самом деле существует взаимосвязь. Все они на самом деле часть более крупного явления – заката индустриализма и становления новой цивилизации.
Пока мы относимся к ним как к разрозненным переменам без учета их важности для глобального процесса, мы не сумеем выработать согласованный, эффективный ответ. Поодиночке люди будут принимать бесцельные и пагубные решения. Правительства будут метаться от кризиса к кризису и одной программы срочных мер к другой, ковыляя в будущее без плана, надежды и четкой цели.
Отсутствие общей схемы, облегчающей понимание конфликта сил в нынешнем мире, делает нас похожими на команду корабля, угодившую в шторм и пытающуюся преодолеть рифы без компаса или карты. Культуре соперничающих «экспертов», утопающей в потоке разобщенных данных и чересчур узкого анализа, синтез не просто полезен – настоятельно необходим.
В этом смысле «Третью волну» можно назвать книгой полномасштабного синтеза. Она дает описание старой цивилизации, в которой многие из нас выросли, и представляет тщательно выверенную, всеобъемлющую картину новой цивилизации, зарождающейся в нашей среде.
Эта новая цивилизация настолько революционна, что подвергает сомнению все наши прежние представления. Старый образ мышления, старые формулировки, догмы и идеологии, какими бы драгоценными и полезными они ни были в прошлом, больше не выдерживают проверки фактами. Мир, быстро наступающий в результате столкновения новых ценностей и технологий, новых геополитических отношений, новых уклада жизни и средств коммуникации, требует совершенно новых идей, аналогий, классификаций и концепций. У нас не получится втиснуть зародыш нового мира в привычную колыбель вчерашнего дня. От позиций и настроений ортодоксов мало проку.
Поэтому, по мере того как образ новой цивилизации будет представать на этих страницах, у нас появятся все основания, чтобы бросить вызов столь распространенному сегодня модному пессимизму. В нашей культуре целое десятилетие, а то и больше господствовало популярное, потворствующее слабостям ощущение безнадежности. «Третья волна» делает вывод, что отчаяние – не только грех (как, если я правильно помню, выразился Ч. П. Сноу), но и эмоция, не имеющая под собой оснований.
Я не смотрю на мир через розовые очки. Сегодня едва ли можно не замечать грозящих нам реальных опасностей от ядерного уничтожения и экологической катастрофы до фанатичного расизма или кровавых региональных конфликтов. Я сам писал об этих угрозах в прошлом и, несомненно, еще буду писать в будущем. Война, экономический крах, крупномасштабный технологический сбой – все это может катастрофическим образом повлиять на будущее.
Тем не менее, исследуя множество новых взаимосвязей, например между изменением структуры потребления энергии и новыми формами семьи или между передовыми способами производства и движением самопомощи, не говоря уже о многих других, мы вдруг замечаем, что многие из тех условий, которые создают сегодня угрозу, в то же время предоставляют потрясающие новые шансы.
«Третья волна» демонстрирует эти новые возможности. Книга утверждает, что среди гибели и разложения можно найти поразительные свидетельства рождения новой жизни. Она показывает ясно и, надеюсь, неоспоримо, что при наличии ума и капельки везения зарождающуюся цивилизацию можно сделать более здравой, толковой и устойчивой, более добропорядочной и демократичной, чем любая цивилизация прошлого.
Если главная мысль этой книги верна, то для долгосрочного оптимизма существуют веские причины, даже если лежащие впереди переходные годы окажутся неспокойными и богатыми на кризисы.
Когда я последние годы работал над «Третьей волной», слушатели на лекциях много раз спрашивали меня, чем новая книга отличается от моего прежнего труда «Шок будущего».
Автор и читатель всегда по-разному относятся к одной и той же книге. Я считаю «Третью волну» совершенно непохожей на «Шок будущего» по форме и направленности. Начнем с того, что «Третья волна» охватывает куда более широкий период времени как в прошлом, так и в будущем. Она более инструктивна, а также имеет иное строение. (Внимательный читатель заметит, что структура книги зеркально отражает главную метафору – столкновение волн.)
Разница в содержании еще заметнее. «Шок будущего», призывая к осуществлению определенных перемен, указывает на их издержки для отдельного человека и общества. «Третья волна», учитывая трудности адаптации, подчеркивает не менее важную цену, которую придется заплатить за отказ от некоторых давно назревших перемен.
Более того, когда я писал о «преждевременном наступлении будущего», я не пытался набросать исчерпывающую, систематическую картину общества завтрашнего дня. В первой книге упор сделан на процессе перемен, а не на их направлении.
В нынешней книге я поступил наоборот и сосредоточил внимание не на ускорении движения как таковом, а на том, к чему нас приведет процесс перемен. Таким образом, первая книга посвящена в основном процессу, вторая – в основном структуре перемен. В этом смысле обе книги призваны дополнять друг друга – не как основной труд и сиквел, но как две сопряженные части куда более обширного целого. Каждая из них сильно отличается от другой. Но обе дополняют друг друга.
Принимаясь за столь масштабный синтез, я был вынужден упрощать, обобщать и ужимать материал. (Иначе я бы не смог охватить столько тем в одном томе.) В связи с этим некоторые историки могут оспорить мое деление цивилизации всего на три этапа – первую волну, или аграрную фазу, вторую волну, или индустриальную фазу, и начавшуюся третью волну.
Можно легко возразить, что к аграрной цивилизации принадлежали очень разные культуры и что индустриализм прошел через несколько последовательных этапов развития. Прошлое (да и будущее тоже) можно безо всяких сомнений нарезать на 12, 38 или 157 кусочков. Однако такой подход не позволит разглядеть за целым сонмом мелких разветвлений главные развилки. В противном случае для охвата всего материала потребуется не один том, а целая библиотека. Для нашей цели более простые, хотя и более грубые дефиниции принесут больше пользы.
Огромный объем этой книги потребовал также сокращений другого рода. Временами я «одушевляю» цивилизацию, говоря, что цивилизация первой волны или второй волны «сделала» то-то и то-то. Разумеется, и я, и мои читатели знаем, что цивилизация ничего сама не делает – делают люди. Однако такой прием экономит время и лишние слова.
Точно так же умные читатели понимают, что ни один человек, будь он историк, футуролог, плановик, астролог или проповедник, не «знает» и не может «знать» будущее. Когда я утверждаю, что что-либо «произойдет», читатель, надеюсь, будет делать скидку на неопределенность будущего. Иначе книга превратилась бы в нечитабельное и никому не нужное скопище оговорок. Кроме того, общественные прогнозы никогда не бывают подлинно научными и свободными от оценочных суждений, какое бы количество компьютерных данных они ни использовали. «Третья волна» не является объективным прогнозом и не претендует на научную достоверность.
Тем не менее это не означает, что идеи книги взяты с потолка или бессистемны. Наоборот, вскоре вы убедитесь, что этот труд основан на солидных свидетельствах и, можно сказать, на почти системной модели цивилизации и наших с ней отношений.
Она дает описание умирающей промышленной цивилизации в областях «техносферы», «социосферы», «инфосферы» и «властной сферы», после чего показывает революционные перемены современного мира, происходящие в каждой из этих сфер. Делается попытка проследить взаимосвязь между этими областями, а также между ними и «биосферой» и «психосферой» – структурой психологии и личностных отношений, через которые изменения во внешнем мире влияют на частную жизнь большинства людей.
«Третья волна» далее утверждает, что цивилизация использует определенные процессы и принципы и вырабатывает свою собственную «сверхидеологию», объясняющую реальность и собственное существование.
Когда мы поймем, каким образом связаны между собой эти сферы, процессы и принципы, как они трансформируют друг друга, вызывая мощные токи перемен, мы сможем намного лучше разобраться в гигантской волне изменений, потрясающей сегодня основы нашей жизни.
Главной метафорой этой книги, как вы наверняка уже поняли, является столкновение волн, приносящих перемены. Этот образ не нов. Норберт Элиас в своей книге «О процессе цивилизации» упоминает «волну прогрессирующей на протяжении нескольких веков интеграции». В 1837 году один автор назвал освоение поселенцами американского Запада чередой «волн» – сначала первопроходцев, потом фермеров, потом третьей волны – миграции деловых людей. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер приводит и использует эту же аналогию в своем классическом эссе «Значение фронтира в американской истории». Поэтому свежа не сама метафора, а ее применение к сегодняшнему цивилизационному сдвигу.
Применение ее в этом виде исключительно плодотворно. Идея волны не только служит хорошим инструментом для обобщения безбрежной массы невероятно разнообразной информации, но также позволяет нам заглянуть вглубь – под бушующую поверхность перемен. Образ волны проясняет многое из того, что прежде казалось невразумительным, а хорошо знакомое вдруг предстает в ослепительно ярком, новом свете.
Когда я начал мыслить категориями сталкивающихся и наползающих друг на друга волн изменений, создающих конфликты и напряженность между людьми, это изменило мое восприятие перемен как таковых. Я научился отличать инновации чисто косметического свойства или остаточные явления уходящей индустриальной эпохи от истинно революционных изменений во всех областях – в системе образования и здравоохранения, технологиях, личной жизни и политической сфере.
Однако даже самые точные метафоры передают истину лишь отчасти. Ни одна метафора не способна воспроизвести историю всесторонне, и поэтому ни один образ настоящего, не говоря уже о будущем, не бывает конечным или полным. Когда более четверти века назад в подростковом и двадцатилетнем возрасте я увлекался марксизмом, мне, как и многим другим молодым людям, казалось, что я знаю ответы на все вопросы. Очень быстро выяснилось, что мои «ответы» неполноценны, однобоки и отстали от времени. Более того, я научился понимать, что правильно заданный вопрос ценнее любого правильного ответа на неправильный вопрос.
Я надеюсь, что «Третья волна» не только содержит ответы, но и ставит множество новых вопросов.
Понимание того, что совершенных знаний и исчерпывающих метафор не бывает, само по себе помогает спуститься на землю и служит защитой от фанатизма. Оно признает частичную правоту даже за противниками, а за автором – право на ошибку. Вероятность ошибки всегда присутствует при крупномасштабном синтезе. Критик Джордж Стайнер писал: «Постановка слишком больших вопросов таит в себе риск принятия ошибочных решений. Отказ от их постановки ограничивает жизнь как процесс познания».
В эпоху взрывообразных перемен, крушения личных судеб, разрушения существующего общественного строя и появления на горизонте нового, фантастического уклада жизни постановка колоссальных вопросов о будущем человечества не интеллектуальная блажь, но путь к выживанию.
Помимо нашего ведома большинство из нас уже вовлечены в новую цивилизацию – либо сопротивляясь ей, либо создавая ее. Я надеюсь, что «Третья волна» позволит всем сделать правильный выбор.
Столкновение волн
Глава 1
Сверхборьба
У нас на глазах рождается новая цивилизация, и слепцы повсюду стремятся ее подавить. Новая цивилизация несет с собой новые типы семьи, меняет то, как люди работают, любят и живут, приносит с собой новую экономику, новые политические конфликты и помимо всего прочего – измененное сознание. Элементы этой новой цивилизации существуют уже сегодня. Миллионы людей подгоняют свою жизнь под ритмы завтрашнего дня. Другие, испугавшись будущего, предпринимают отчаянные, бесплодные попытки вернуться в прошлое и пытаются возродить умирающий мир, в котором они родились.
Восход новой цивилизации – наиболее взрывной факт нашей эпохи.
Это центральное событие, ключ к пониманию грядущих лет. Событие это настолько же глубоко, как Первая волна перемен, нахлынувшая десять тысяч лет назад благодаря изобретению сельского хозяйства, или эпохальная Вторая волна, поднятая промышленной революцией. Мы дети еще одной трансформации – Третьей волны.
Нам не хватает слов, чтобы выразить всю мощь и размах невероятных изменений. Люди говорят о наступлении века космоса, информационного века, электронной эпохи или о глобальной деревне. Збигнев Бжезинский утверждает, что мы вступаем в «технотронный век». Социолог Даниел Белл пишет о наступлении «постиндустриального общества». Советские футурологи толкуют об НТР – научно-технической революции. Я тоже много писал о зарождении «сверхиндустриального общества». И все-таки ни один из этих терминов, включая мой собственный, не отражает суть дела полностью.
Некоторые из определений, заостряя внимание на каком-либо отдельном факторе, не столько расширяют, сколько сужают наше понимание. Другие определения статичны, подразумевают, что новое общество войдет в нашу жизнь гладко, без конфликтов и потрясений. Ни один из этих терминов даже близко не передает всей силы, размаха и динамики надвигающихся перемен, а также тягот и конфликтов, которые они порождают.
Человечеству предстоит квантовый скачок вперед. Его ожидают глубочайшие социальные потрясения и величайшие в истории созидательные структурные реформы. Сами того ясно не понимая, мы вовлечены в строительство с нуля удивительной новой цивилизации. Таков смысл Третьей волны.
До этого человечество пережило две великие волны перемен, каждая из которых до основания разрушила прежние культуры и цивилизации и заменила их новым жизненным укладом, какого прежние поколения не могли себе вообразить. Первая волна перемен, аграрная революция, достигла своего полного эффекта только через несколько тысяч лет. Вторая, подъем промышленной цивилизации, заняла всего три века. Сегодня история ускоряется еще более высокими темпами, и можно допустить, что Третья волна прокатится по земному шару и завершится в течение нескольких десятилетий. Поэтому люди, населяющие планету в наше стремительное время, сполна ощутят на себе могучий напор Третьей волны.
Третья волна будет раздирать на части семьи, сотрясать экономику, ввергать в ступор политические системы, разрушать ценности, никого не обходя стороной. Она бросит вызов старым властным отношениям, привилегиям и льготам вымирающих элит сегодняшнего дня и создаст тот фон, на котором будет происходить завтрашняя борьба за власть.
Многие черты нарождающейся цивилизации противоречат старым традициям промышленной цивилизации. Новая цивилизация является одновременно высокотехнологичной и антииндустриальной по своей сути.
Третья волна принесет с собой воистину новый жизненный уклад, основанный на диверсифицированных, возобновляемых источниках энергии, на методах производства, делающих лишними большинство заводских конвейеров, на новой семье неполного типа, на невиданном прежде электронном избирательном праве и на резко поменявших облик учебных заведениях и корпорациях будущего. Нарождающаяся цивилизация сочиняет для нас новый код поведения и уводит нас от стандартизации, синхронизации, централизации и аккумулирования энергии, денег и власти в одной точке.
Бросая вызов старому, новая цивилизация разрушит оплоты бюрократов, уменьшит роль национальных государств и даст толчок росту полуавтономных экономических систем в постимпериалистическом мире, которые будут проще, эффективнее и в то же время демократичнее всего того, что знакомо нам сегодня. У этой цивилизации будут свое характерное миропонимание и свой подход ко времени, пространству, логике и причинно-следственным связям.
Кроме того, цивилизация Третьей волны начнет стирать исторический разрыв между производителем и потребителем, создавая основу для экономики «протребителей» будущего. По этой и многим другим причинам цивилизация Третьей волны – с некоторой разумной помощью с нашей стороны – могла бы стать первой в истории истинно человеческой и человечной цивилизацией.
Революционный посыл
Для массового сознания сегодня характерны два противоположных образа будущего. Большинство людей, если они вообще задумываются о будущем, предполагают, что знакомый им мир будет существовать неопределенно долгое время. Им очень трудно вообразить новый образ жизни и тем более новую цивилизацию. Они, разумеется, замечают происходящие перемены. Но полагают, что сегодняшние изменения как-нибудь обойдут их стороной и ничто не затронет привычные для них экономический уклад и политические структуры. Они уверены в том, что будущее будет продолжением настоящего.
Такое линейное мышление принимает различные формы. На одном уровне оно проявляется в виде некритичных предпосылок, стоящих за решениями, которые принимают бизнесмены, преподаватели, родители и политики. На более высоком уровне оно бывает приправлено статистикой, компьютерными данными и жаргоном аналитиков. В обоих случаях такое мышление поддерживает образ будущего как продолжения «того же самого, только больше», то есть дальнейшего разрастания индустриализма Второй волны, проникающего во все новые уголки планеты.
Недавние события нанесли этому самонадеянному образу будущего сильнейший удар. Заголовки выстреливали сообщениями о все новых и новых кризисах, взорвался Иран, лишился божественного статуса Мао, взлетели до небес цены на нефть, сорвалась с цепи инфляция, государства оказались не в силах остановить распространение терроризма, все это способствовало росту мрачных настроений. Большая масса людей, которых постоянно кормили плохими новостями, фильмами-катастрофами, библейскими предсказаниями апокалипсиса и кошмарными сценариями событий от престижных мозговых трестов, очевидно, решила, что сегодняшнее общество больше нельзя проецировать в будущее, потому что никакого будущего просто не существует.
Они уверовали, что до армагеддона рукой подать и Земля сломя голову несется к последнему сокрушительному катаклизму.
На поверхности эти два взгляда на будущее выглядят очень разными. Однако оба производят аналогичные психологические и политические эффекты, ибо оба вызывают паралич воображения и воли.
Если завтрашнее общество – обычная широкоформатная копия настоящего, то тогда и готовиться не к чему. А если, с другой стороны, общество обречено на гибель еще при нашей жизни, то мы тем более ничего не можем с этим поделать. Другими словами, оба этих подхода к будущему порождают самоустраненность и пассивность, оба сковывают нас бездействием.
И все-таки, пытаясь понять, что с нами происходит, мы не ограничены примитивным выбором между армагеддоном и «тем же самым, но только больше». Существует много других ясных, конструктивных подходов к будущему, помогающих к нему подготовиться и, что еще важнее, изменить настоящее.
В основе этой книги лежит «революционный посыл». Она предполагает, что, хотя грядущие десятилетия, скорее всего, будут полны потрясений, бурных событий и даже массового насилия, человечество не покончит с собой. Она предполагает, что резкие перемены, которые мы сейчас переживаем, не хаотичны и не случайны, но, в сущности, следуют строгой, четко различимой схеме. Более того, она предполагает, что эти изменения носят накопительный характер, приближают гигантскую трансформацию нашей жизни, труда, досуга и мышления и что здравое, нормальное будущее вполне достижимо. Короче, то, о чем говорится дальше, начинается с предпосылки, согласно которой, сегодняшние события представляют собой не что иное, как глобальную революцию, квантовый скачок истории.
Эта книга отталкивается от предположения, что мы являемся последним поколением старой и первым поколением новой цивилизации, что немалую часть личной растерянности, острых переживаний и потери ориентиров можно прямо отнести на счет конфликта в нашей душе и конфликта внутри нашей политической системы, то есть конфликта между умирающей цивилизацией Второй волны и нарождающейся цивилизацией Третьей волны, с громом и молниями занимающей свое место.
Когда мы наконец это осознаем, многие, на первый взгляд, бессмысленные события вдруг станут легко объяснимы. Широкая схема перемен уже начала четко проявлять себя. Действия, направленные на выживание, снова стали возможны и целесообразны. Другими словами, революционный посыл освобождает наш интеллект и нашу волю.
Фронт волны
В то же время недостаточно просто констатировать революционность предстоящих перемен. Чтобы направить их в нужное русло, нам необходимо выработать свежий подход к их идентификации и анализу. Иначе мы безнадежно заплутаем.
Один из мощных новых подходов можно назвать социальным анализом «фронта волны». Он рассматривает историю как череду набегающих волн перемен и задается вопросом, куда нас толкает фронт каждой новой волны. Такой анализ занимается не столько преемственностью истории, сколько нарушениями преемственности – инновациями и переломными точками. Он идентифицирует ключевые паттерны изменений с тем, чтобы мы могли на них повлиять.
Начав с простой идеи о том, что рост сельского хозяйства стал первой переломной точкой в общественном развитии человечества, а промышленная революция обозначила второй великий прорыв, такая точка зрения рассматривает эти явления не как одиночные, разовые события, а как волну перемен, движущуюся с определенной скоростью.
До прихода Первой волны большинство людей жили маленькими, зачастую кочующими группами и добывали пропитание путем собирательства, рыбной ловли, охоты или пастушества. В какой-то момент, примерно десять тысяч лет назад, началась аграрная революция и медленно поползла по планете, распространяя появление деревень, оседлость, обработку земли и новый уклад жизни.
Первая волна еще не полностью выдохлась, когда в конце XVII века в Европе грянула промышленная революция – вторая великая волна всемирных преобразований. Новый процесс – индустриализация – охватывал страны и континенты намного быстрее первой волны. Таким образом, на планете одновременно, но с разной скоростью происходили два обособленных, отчетливых процесса перемен.
К настоящему времени Первая волна практически угасла. Сельское хозяйство не затронуло разве что крохотные племена Южной Америки и Папуа – Новой Гвинеи. Энергия великой Первой волны в основном иссякла.
Тем временем Вторая волна, за несколько коротких веков революционизировавшая жизнь в Европе, Северной Америке и некоторых других частях земного шара, продолжает распространяться, побуждая многие прежде аграрные страны лихорадочно строить сталепрокатные станы, автомобильные заводы, текстильные фабрики, железные дороги и предприятия пищевой промышленности. Импульс индустриализации все еще ощутим. Вторая волна еще не до конца исчерпала себя.
Но хотя индустриализация еще продолжается, начался новый и куда более важный процесс. Когда в десятилетия после Второй мировой войны прилив индустриализма достиг своего пика, по Земле, преображая все на своем пути, начала двигаться мало кем понятая Третья волна.
Поэтому многие страны ощущают одновременный напор двух, а то и трех очень разных волн перемен, движущихся с неодинаковой скоростью и обладающих разной степени энергией.
В данной книге мы будем условно считать, что эпоха Первой волны началась около 8000 лет до н. э. и безраздельно господствовала на Земле примерно до 1650–1750 годов. С этого момента Первая волна замедлилась и начала набирать силу Вторая волна. Порожденная Второй волной промышленная цивилизация доминировала на планете до тех пор, пока, в свою очередь, не достигла высшей точки. Последний поворотный пункт в истории был достигнут в США в ходе десятилетия, начавшегося в 1955 году, когда число «белых воротничков» и работников сферы обслуживания впервые превысило число «синих воротничков». На это же десятилетие пришлось широкое распространение компьютеров, коммерческого использования реактивной авиации, химических контрацептивов и многих других впечатляющих нововведений. Именно в это десятилетие Третья волна начала набирать силу в Соединенных Штатах. С тех пор она в разное время проникла в большинство промышленных держав, в том числе в Великобританию, Францию, Швецию, Германию, Советский Союз и Японию. В наши дни все высокотехнологичные нации шатает от столкновения Третьей волны с архаичными, проржавевшими экономическими устоями и институтами Второй волны.
Понимание этого процесса – ключ к осмыслению повсеместно происходящего социально-политического конфликта.
Волны будущего
Когда в конкретном обществе преобладает одна волна, схему его будущего развития не так уж трудно предугадать. Первыми «волну будущего» открывают писатели, художники, журналисты и прочие умные люди. Поэтому в Европе XIX века многие мыслители, лидеры бизнеса, политики и даже простолюдины имели четкое и в целом верное представление о будущем. Они ощущали, что история движется к полной победе индустриализма над немеханизированным сельским хозяйством, и с большой точностью предсказывали, какие плоды она принесет: более мощные технологии, более крупные города, скоростные транспортные средства, всеобщее образование и так далее.
Подобная ясность представлений оказывала прямое влияние на политику. Партии и политические движения могли корректировать свои позиции с прицелом на будущее. Носители доиндустриальных аграрных интересов вели арьергардные бои против наступления индустриализма, объявляя войну «большому бизнесу», «профсоюзным боссам», «греховным городам». Рабочие и администрация боролись за главные рычаги управления индустриальным обществом. Национальные и расовые меньшинства вели борьбу за свои права, понимая их как улучшение своего положения в индустриальном мире, – право на работу, должности в управленческом аппарате, городское жилье, более высокую оплату труда, всеобщее бесплатное образование и т. п.
Картина промышленного будущего также имела важный психологический эффект. Люди могли расходиться во мнениях, вступать в резкие и подчас кровавые конфликты. Течение жизни могли нарушать экономические спады и подъемы. И все-таки в целом общее видение индустриального будущего помогало сделать выбор, давало отдельному человеку ощущение не только своего места и роли здесь и сейчас, но и представление о том, кем он мог стать в будущем. Даже в гуще беспрецедентных общественных перемен такое отношение придавало человеку некоторую устойчивость и ощущение собственной значимости.
И наоборот, когда на общество воздействуют две или более гигантских волн перемен, но ни одна из них отчетливо не преобладает, образ будущего распадается на части. Становится чрезвычайно трудно разобраться в смысле перемен и порождаемых ими конфликтов. Столкновение волн порождает бурный океан пересекающихся течений, водоворотов и завихрений, за которыми скрываются более глубокие и важные приливы и отливы истории.
В сегодняшних США, как и во многих других странах, столкновение Второй и Третьей волн порождает социальную напряженность, опасные конфликты, новые причудливые политические буруны, перехлестывающие через привычные границы между классами, расами, полами или партиями. Это столкновение вдребезги разбивает привычные политические штампы и подчас не позволяет отличить сторонников прогресса от реакционеров, друзей от врагов. Все прежние деления на лагери и коалиции больше не работают. Профсоюзы и работодатели, несмотря на разногласия, объединяются в борьбе против защитников окружающей среды. Чернокожие и евреи, когда-то выступавшие единым фронтом в борьбе с дискриминацией, становятся противниками.
Во многих странах трудящиеся, традиционно поддерживавшие такую «прогрессивную» политику, как перераспределение доходов, теперь придерживаются «реакционных» взглядов на права женщин, семейный устав, иммигрантов, тарифы или регионализм. Традиционные левые нередко выступают в поддержку центризма и ведут себя как националисты и оппоненты экологов.
В то же время мы видим политиков от Валери Жискара д’Эстена до Джимми Картера и Джерри Брауна, исповедующих консервативные взгляды на экономику и либеральные – на искусство, половую мораль, права женщин или экологический контроль. Неудивительно, что люди теряются и не могут понять окружающий мир.
Тем временем СМИ публикуют бесконечный поток, на первый взгляд, никак между собой не связанных новостей об инновациях, резких поворотах, странных событиях, заказных убийствах, похищениях, космических пусках, правительственных кризисах, разведывательно-диверсионных рейдах, скандалах.
Явная непоследовательность политической жизни, как в зеркале, отражается в деградации личности. Психотерапевты и всяческие гуру гребут деньги лопатой, люди шарахаются от одной терапии к другой, от «первичного крика» к ЭСТ-тренингу. Они примыкают к сектам и шабашам ведьм либо уходят в патологическую самоизоляцию, убеждая себя, что реальность нелепа, безумна или бессмысленна. Во всеобщем, вселенском плане жизнь, пожалуй, действительно не имеет смысла. Однако это отнюдь не доказывает, что сегодняшние события происходят бессистемно. Наоборот, существует четкий, хотя и скрытый порядок, который сразу становится заметен, как только мы научимся отличать изменения Третьей волны от тех, что ассоциируются со Второй волной.
Понимание сути конфликтов, вызванных столкновением волн, не только проясняет картину будущих альтернатив, но и, как рентгеном, просвечивает воздействующие на нас социально-политические силы. Оно также помогает нам нащупать свое место в истории, ибо каждый из нас, каким бы маловажным он ни казался, является ее живой частью.
Перекрестные течения, вызванные этими волнами, проявляются в нашей работе, семейной жизни, отношении к сексу и в личной морали. Они сказываются на нашем образе жизни и поведении на выборах. Что касается нашей личной жизни и политических поступков, сознаем мы это или нет, мы, жители богатых стран, в большинстве своем, по сути, делимся на три категории – людей Второй волны, приверженных сохранению отмирающего порядка, людей Третьей волны, строящих радикально иное будущее, и растерянную, пораженческую смешанную группу тех и других.
«Золотые жучки» и наемные убийцы
Конфликт между группировками Второй и Третьей волн, по сути, сегодня является центральным очагом политической напряженности в обществе. Что бы ни проповедовали сегодняшние партии и кандидаты, междоусобная борьба в их среде в основном сводится к вопросу, кто сумеет выжать как можно больше из остатков хиреющей индустриальной системы. Другими словами, они заняты перестановкой шезлонгов на палубе тонущего «Титаника».
Более насущный вопрос политики заключается не в том, кто будет контролировать индустриальное общество в последние дни его существования, а в том, кто сформирует новую цивилизацию, которая вскоре его заменит. Пока наши силы и внимание отвлекаются на близорукие политические стычки, под спудом уже происходит куда более судьбоносная борьба. С одной стороны фронта стоят поборники индустриального прошлого, с другой – растущие миллионы тех, кто понимает, что наиболее безотлагательные проблемы мира – продовольствия, энергоснабжения, контроля над вооружениями, перенаселения, бедности, ресурсов, экологии, климата, пожилых людей, дезинтеграции городских общин, потребности в производительном, плодотворном труде – больше нет возможности решить в рамках индустриального общества.
Этот конфликт и есть «сверхборьба» за будущее.
Столкновение кровных интересов сторонников Второй волны и устремлений последователей Третьей волны пронизывает политическую жизнь каждой страны, словно электрический ток. Приход Третьей волны насильственно перекроил прежние боевые порядки даже в неиндустриальных странах. В свете грядущего морального устаревания индустриализма прежняя война аграриев и феодалов против индустриальных, капиталистических или социалистических элит принимает новое измерение. Теперь, когда на горизонте забрезжила цивилизация Третьей волны, означает ли быстрая индустриализация освобождение от неоколониализма и нищеты или же она, по сути, гарантирует постоянную зависимость?
Только такой широкий фон позволяет нам перейти к пониманию того, о чем кричат заголовки, расставить приоритеты, наметить осмысленные стратегии и взять под контроль изменения в своей жизни.
Когда я пишу эти строки, первые полосы газет сообщают о массовой истерии и заложниках в Иране, политических убийствах в Южной Корее, бешеной спекуляции золотом, трениях между чернокожими и евреями в США, крупном увеличении военного бюджета Западной Германии, пылающих крестах в Лонг-Айленде, огромном разливе нефти в Мексиканском заливе, крупнейшей в истории демонстрации против ядерного оружия и борьбе между богатыми и бедными странами за контроль над радиочастотами. Волны «религиозного ренессанса» сотрясают Ливию, Сирию и США. Фанатики-неофашисты заявляют о своей причастности к политическому убийству в Париже. General Motors сообщает о прорыве в области технологий, необходимых для создания электромобилей. Столь разрозненные обрывки новостей буквально напрашиваются, чтобы составить из них общую картину.
Установив, что в настоящее время идет борьба между теми, кто стремится сохранить индустриализм, и теми, кто стремится заменить его на новый уклад, мы получаем новый мощный ключ к пониманию мира. Но что еще важнее: намечаем ли мы политику страны, стратегию корпорации или ставим перед собой цели в личной жизни, у нас теперь есть новый инструмент преобразования мира.
Однако, чтобы им воспользоваться, мы должны научиться отличать изменения, которые продлевают существование индустриальной цивилизации, от тех, которые помогают становлению новой цивилизации. Короче говоря, мы должны понимать суть как старого, так и нового, как индустриальную систему Второй волны, при которой мы родились, так и цивилизацию Третьей волны, при которой предстоит жить нам и нашим детям.
В следующих главах в качестве подготовки к исследованию Третьей волны мы внимательнее рассмотрим первые две. Мы увидим, что цивилизация Второй волны представляла собой не случайное нагромождение элементов, но систему, части которой взаимодействовали более или менее предсказуемым образом, и что фундаментальные паттерны индустриального общества были одинаковы для разных стран независимо от культурного наследия и политических различий между ними. Это та цивилизация, за сохранение которой сегодня ведут борьбу «реакционеры» как «слева», так и «справа». Именно их миру угрожает Третья волна цивилизационных преобразований.
Вторая волна
Глава 2
Архитектура цивилизации
Примерно триста лет назад плюс-минус полвека раздался взрыв, от которого по Земле во все стороны побежала ударная волна, снося древние общества и создавая на своем пути новую цивилизацию. Этим взрывом, разумеется, была индустриальная революция. Гигантское цунами, которое она вызвала, подорвало устои прошлого и в корне изменило жизненный уклад миллионов людей.
В течение многих тысяч лет бал правила цивилизация Первой волны, и население мира можно было разделить на две категории – «первобытную» и «цивилизованную». Так называемые первобытные народы жили небольшими группами и племенами, добывая пропитание собирательством, охотой и рыбной ловлей. Аграрная революция их не затронула.
«Цивилизованный» мир в отличие от них был той частью планеты, где большинство населения возделывало землю. Там, где начиналось сельское хозяйство, укоренялась цивилизация. Цивилизации возникали и рушились, боролись за выживание и сливались воедино в пестром бесконечном хороводе от Китая и Индии до Бенина и Мексики, Греции и Рима.
За внешними различиями стояли фундаментальные общие черты. Везде основой экономики, жизни, культуры, семьи и политики выступала земля. Везде жизнь была организована в форме деревни. Везде преобладало простое разделение труда и появились несколько четко разграниченных классов и каст: знать, жречество, воины, илоты, рабы или крепостные. Власть всегда была жестко авторитарной. В каждом обществе жизненное положение задавалось фактом рождения. Экономика везде была децентрализована, то есть каждая община сама производила все необходимое.
Были также исключения – истории неведома простота. Существовали торговые культуры, чьи мореплаватели бороздили океаны, а также в высшей степени централизованные царства, возникшие на базе ирригационных систем. Однако, несмотря на все различия, мы можем себе позволить рассматривать все эти вроде бы различные цивилизации как особые проявления одного и того же феномена – аграрной цивилизации, порожденной Первой волной.
Намеки на грядущие изменения подчас появлялись еще в период преобладания обществ Первой волны. В Древней Греции и Риме существовали зачаточные предприятия, выпускавшие массовую продукцию. Нефть добывалась из скважин за четыреста лет до нашей эры в Греции и в 100 году нашей эры в Бирме. В древнем Вавилоне и Египте сформировался сложный государственный аппарат. В Азии и Южной Америке появились городские метрополии. Существовали деньги и торговля. Торговые маршруты пересекали пустыни, океаны и горные хребты от Китая до Кале. Возникали корпорации и зачатки наций. В древней Александрии даже был создан удивительный прототип парового двигателя.
Однако нигде не наблюдалось ничего хотя бы отдаленно похожего на индустриальную цивилизацию. Эти проблески будущего, если их можно так называть, были не более чем историческими курьезами, рассыпанными по разным местам и эпохам. Ничто не объединяло их, да и не могло объединить, в одну стройную систему. Поэтому период до 1650–1750-х годов можно считать миром Первой волны. Несмотря на островки первобытной культуры и намеки на индустриальное будущее, на земном шаре господствовала и казалась вечной аграрная цивилизация.
Вот в этом-то мире и вспыхнула промышленная революция, запустив Вторую волну и создав странную, мощную, лихорадочно активную контрцивилизацию. Индустриализм не сводится к заводским трубам и сборочным цехам. Это была богатая оттенками, разносторонняя общественная система, и она затронула все аспекты человеческой жизни, не оставив в неприкосновенности ни один аспект мира Первой волны. Она породила огромный завод в Уиллоу-Ран под Детройтом, но также оснастила фермы тракторами, офисы – пишущими машинками, а кухни – холодильниками. Она дала путевку в жизнь ежедневным газетам и кинематографу, метрополитену и самолету DC‑3. Она подарила нам кубизм и додекафонию, принесла стиль баухаус и металлические стулья с кожаным сиденьем, сидячие забастовки, витамины и увеличенную продолжительность жизни. Наручные часы и выборы стали привычным явлением. Но что еще важнее, она связала все эти вещи воедино, собрала их, словно механизм, превратив в мощную слаженную обширную общественную систему, какой мир прежде не видывал, – цивилизацию Второй волны.
Кровавая развязка
Накатывая на общества различного типа, Вторая волна вызывала кровавые продолжительные войны между защитниками аграрного прошлого и поборниками индустриального будущего. Силы Первой и Второй волн сталкивались лоб в лоб, оттесняя и нередко почти полностью истребляя подвернувшиеся под горячую руку «первобытные» народы.
В Соединенных Штатах коллизия началась с прибытия европейцев, одержимых идеей учреждения аграрной цивилизации Первой волны. Аграрное цунами белого человека безжалостно катилось на запад, лишая индейцев земельных угодий и насаждая по ходу продвижения к тихоокеанскому побережью все больше ферм и поселений.
Однако по пятам за фермерами уже шли первые промышленники, агенты Второй волны. В Новой Англии и в среднеатлантических штатах начался рост фабрик и городов. К середине XIX века в северо-восточных районах сложился быстро растущий промышленный сектор, производивший стрелковое оружие, часы, сельхозинвентарь, текстиль, швейные машины и прочие товары, в то время как остальные части континента по-прежнему ориентировались на сельское хозяйство. Общественно-экономические трения между силами Первой и Второй волны продолжали нарастать, пока в 1861 году не привели к вооруженным столкновениям.
Гражданская война не велась, как многие считают, исключительно из-за аморальности рабства или узких экономических проблем вроде вопроса о тарифах. Она велась по куда более важному вопросу: кому править богатым новым континентом – фермерам или поборникам индустриализации, силам Первой волны или Второй? С победой армий Севера жребий был брошен, и индустриализации Соединенных Штатов больше ничего не препятствовало. С этого момента в экономике, политике, общественной и культурной жизни сельское хозяйство сдавало позицию за позицией, а промышленность находилась на подъеме. Первая волна отступала назад, с грохотом накатывала Вторая.
Такие же цивилизационные стычки происходили и в других местах. В Японии начавшаяся в 1868 году реставрация Мэйдзи в чисто японском стиле воспроизвела все ту же схватку между аграрным прошлым и промышленным будущим. Отмена феодальных привилегий 1876 года, Сацумское восстание 1877 года и принятие конституции западного образца в 1889 году – все это отражало столкновение Первой и Второй волн, шаги на пути к превращению Японии в передовую промышленную державу.
Такое же столкновение Первой и Второй волн произошло в России. Революция 1917 года была русской версией американской гражданской войны. Она в первую очередь проводилась не ради коммунизма, как может показаться, а ради индустриализации. Когда большевики уничтожили последние уцелевшие остатки крепостничества и феодальной монархии, они оттеснили сельское хозяйство на второй план и сознательно приступили к ускорению индустриализации, став партией Второй волны.
В одной стране за другой вспыхивали похожие конфликты между сторонниками Первой и Второй волн, вызывая потрясения, политические кризисы, забастовки, восстания, государственные перевороты и войны. К середине ХХ века силы Первой волны были окончательно сломлены и на всей Земле утвердилась цивилизация Второй волны.
Сегодня промышленный пояс охватывает планету между двадцать пятой и шестьдесят пятой параллелью Северного полушария. В Северной Америке индустриальный уклад жизни характерен для двухсот пятидесяти миллионов жителей. В Западной Европе от Скандинавии до Италии при индустриализме живет еще четверть миллиарда человек. На востоке находится «еврорусский» промышленный регион, объединяющий страны Восточной Европы и западную часть СССР, здесь мы находим еще четверть миллиарда человек, живущих в индустриальном обществе. Наконец, азиатский промышленный регион, состоящий из Японии, Гонконга, Сингапура, Тайваня, Австралии, Новой Зеландии и отдельных районов Южной Кореи и материкового Китая, насчитывает еще двести пятьдесят миллионов жителей. В общем и целом промышленная цивилизация охватывает миллиард человек – четверть населения земного шара [1].
Несмотря на умопомрачительные различия в языке, культуре, истории и политике, различия настолько глубокие, что из-за них ведутся войны, всем обществам Второй волны присущи общие черты. Под покровом хорошо известных различий залегает скальный пласт схожести.
Чтобы разобраться в сегодняшнем столкновении волн перемен, мы должны уметь четко распознавать параллельные структуры всех промышленных наций – скрытый костяк цивилизации Второй волны. Ибо именно этот костяк получает сегодня один сокрушительный удар за другим.
Живые батарейки
Предварительным условиям возникновения любой – старой или новой – цивилизации является энергия. Общества Первой волны извлекали энергию из «живых батареек», используя мускульную силу людей или животных либо энергию солнца, ветра и воды. Леса вырубали на дрова для приготовления пищи и обогрева. Водяные колеса, часть из них использовали приливную энергию, вращали жернова. В полях скрипели мельницы. Животные таскали плуги. По некоторым оценкам, еще в эпоху Французской революции Европа использовала энергию порядка 14 млн лошадей и 24 млн быков. Таким образом, все общества Первой волны опирались на возобновляемые источники энергии. Природа восполняла срубленные леса, ветер, надувающий паруса кораблей, и реки, вращающие колеса водяных мельниц. Даже люди и животные играли роль заменимых «энергетических рабов».
В противовес Первой волне все общества Второй волны удовлетворяли свои потребности в энергии за счет угля, газа и нефти, то есть невосполнимых полезных ископаемых. Этот революционный сдвиг произошел после изобретения Ньюкоменом в 1712 году работающей модели парового двигателя и впервые в истории планеты означал, что цивилизация перестала жить на проценты и начала проедать основной капитал природы.
Посягательство на природные запасы энергии предоставило промышленной цивилизации скрытую выгоду и значительно ускорило экономический рост. С самого начала индустриализации и по сей день страны, охваченные Второй волной, создавали гигантские технологические и экономические структуры, исходя из предположения, что дешевое ископаемое топливо фактически неиссякаемо. Что в капиталистическом, что в социалистическом обществе, на Востоке и на Западе происходил один и тот же сдвиг от рассеянности энергии к ее концентрации, от возобновляемых видов энергии к невозобновляемым, от множества различных источников к нескольким избранным. Ископаемое топливо составляло энергетическую базу всех без исключения обществ Второй волны.
Технологическая утроба
Скачкообразный переход к энергетической системе нового типа сопровождался гигантским скачком технологий. Общества Первой волны полагались, как говорил Витрувий две тысячи лет назад, на «вынужденные изобретения». Все эти древние лебедки, клинья, катапульты, давильные прессы, рычаги и вороты в основном использовались для усиления мышечной силы человека или животных.
Вторая волна подняла технологию на совершенно иной уровень. Она породила гигантские электромеханические машины, движущиеся части, ременные передачи, шланги, подшипники и затворы, все это стучало и грохотало. Новые машины были способны на нечто большее, нежели примитивное усиление энергии мышц. Промышленная цивилизация снабдила технические устройства органами чувств, научив их слышать, видеть и осязать с куда большей точностью и чувствительностью, чем это мог делать человек. Она снабдила технологию утробой, создав машины, способные в бесконечной прогрессии производить на свет другие машины – станки. Более того, она объединила машины во взаимозависимые системы под одной крышей, создав сначала заводы, а на заводах – сборочные линии.
На этой технологической базе вырос целый сонм промышленных отраслей, придавших цивилизации Второй волны ее характерный облик. Сначала появились уголь, текстиль и железные дороги, потом – сталь, производство автомобилей, алюминий, химикаты и самолеты. Как грибы после дождя выросли огромные города-фабрики: центры текстильной промышленности Лилль и Манчестер, автомобильной – Детройт, сталелитейной – Эссен, Магнитогорск и сотни других.
Эти промышленные центры производили многомиллионный поток готовых стандартных изделий – рубашек, обуви, автомобилей, часов, игрушек, мыла, шампуня, фотокамер, пулеметов и электромоторов. Новые технологии с помощью новой энергетической системы открыли путь для массового производства.
Красная пагода
Массовое производство, однако, не имело смысла без сопутствующих изменений системы распределения. В обществах Первой волны товары обычно производились кустарным способом. Предметы изготовлялись поштучно и под заказ. Под стать производству было и распределение.
Правда и то, что в расширяющиеся трещины старого феодального строя проникали крупные, хорошо организованные торговые и купеческие компании Запада. Они прокладывали кругосветные торговые маршруты, организуя охрану морских конвоев и верблюжьих караванов. Эти компании торговали стеклом, бумагой, шелком, чаем, вином, шерстью, индиго, мускатным орехом и его шелухой.
Потребителям большинство этих товаров доставлялись через мелкие лавчонки, а также в торбах или на тележках ходивших по деревням разносчиков. Убогая система связи и примитивный транспорт резко ограничивали размеры рынка. Мелкие лавочники и бродячие торговцы предлагали крайне скудный ассортимент и зачастую не могли получить тот же товар целыми месяцами, а то и годами.
Вторая волна произвела в этой скрипучей перегруженной системе распределения товаров не менее радикальную перестройку, чем в производстве. Железные дороги, шоссе и каналы предоставили доступ к глубинке, индустриализм породил «дворцы торговли» – первые универмаги. Быстро сложилась комплексная сеть маклеров, оптовых торговцев, комиссионных агентов и представителей поставщиков. В 1871 году Джордж Хантингтон Хартфорд, открыв в Нью-Йорке свой первый магазин с крашенным киноварью фасадом и будкой кассира в форме китайской пагоды, совершил такой же переворот в системе распределения, какой Генри Форд позже произвел на производстве. Хартфорд поднял распределение на невиданный прежде уровень и создал первую в мире гигантскую сеть однотипных магазинов – «Великую атлантическую и тихоокеанскую чайную компанию».
Распределение товаров по заказу уступило место массовому распределению и массовой закупке товаров, которые стали такими же привычными, неотъемлемыми элементами всех индустриальных обществ, как и машины.
Вместе взятые, эти изменения можно назвать трансформацией техносферы. Все общества – первобытные, аграрные и промышленные – используют энергию, производят необходимые предметы и распределяют их. Во всех обществах энергетическая система, система производства и система распределения являются взаимосвязанными частями гораздо более крупного целого. Это более крупное целое и есть техносфера, имеющая характерный тип для каждого этапа общественного развития.
По мере продвижения Второй волны по планете аграрную техносферу сменила промышленная техносфера. Невосполнимые источники энергии были напрямую встроены в систему массового производства, которая, в свою очередь, наводнила товарами систему массового распределения.
Упрощенная семья
Однако техносфера Второй волны нуждалась в не менее революционном преобразовании социальной сферы, в радикально новых формах организации общества.
До наступления индустриальной революции формы семьи сильно различались в разных местах. Там, где господствовало сельское хозяйство, люди обычно жили большими семьями, объединявшими представителей нескольких поколений. Дяди, тети, родня мужа и жены, дедушки и бабушки, двоюродные братья и сестры жили под одной крышей, работали сообща как единая производственная ячейка. По такому принципу были организованы «индийская семья», балканская «задруга», расширенная семья Западной Европы. К тому же семья никогда не покидала насиженное место, была корнями связана с землей.
Когда Вторая волна начала размывать общественный уклад Первой волны, семьи тоже ощутили на себе давление перемен. В каждой семье столкновение двух волн принимало форму личных конфликтов, выступлений против авторитета патриархов, изменения отношений между родителями и детьми, новых представлений о пристойности поведения. По мере перемещения производства с полей в фабричные цеха семьи перестали функционировать как единые ячейки. В целях высвобождения работников для фабричного труда часть семейных функций передавалась новым, специализированным учреждениям. Обучение детей поручалось школам, забота о стариках – богадельням, домам инвалидов и домам престарелых. Однако больше всего новое общество требовало мобильности, наличия работников, способных перемещаться в поисках работы с места на место.
Расширенная семья, обремененная престарелыми, больными и увечными членами, а также целым выводком детей, не обладала мобильностью. Поэтому структура семьи начала мучительно медленно меняться. Раздираемые миграцией в города, сотрясаемые экономическими бурями семьи постепенно избавлялись от нежелательной родни, становились меньше, мобильнее, лучше приспосабливались к нуждам новой техносферы.
Общественно признанным эталоном, современной моделью всех индустриальных обществ, как капиталистических, так и социалистических, стала так называемая нуклеарная семья, состоящая из отца, матери и нескольких детей, не обремененная другими родственниками. Даже в Японии, где благодаря культу преклонения перед предками пожилые люди занимали чрезвычайно почетное место, большие, состоящие из нескольких тесно переплетенных поколений семьи с нарастанием Второй волны начали разрушаться. Появлялось все большее количество нуклеарных семей. Короче говоря, нуклеарная семья наряду с ископаемым топливом, сталепрокатными станами или сетями универмагов стала еще одной характерной чертой всех обществ Второй волны.
Скрытая учебная программа
Итак, труд переместился с полей в фабричные цеха. Детей требовалось готовить к фабричному быту. Первые владельцы шахт, заводов и фабрик периода индустриализации Англии обнаружили, как в 1835 году писал Эндрю Юр, что «лиц, достигших половой зрелости, привлеченных хоть из сельской, хоть из ремесленной среды, почти невозможно превратить в полезных фабричных работников». Если бы получилось заранее готовить молодых людей к работе в рамках индустриальной системы, это помогло бы решить проблемы с трудовой дисциплиной в будущем. В итоге возникла еще одна централизованная структура общества Второй волны – система массового образования.
Взяв за основу модель фабрики, массовое образование обучало элементарным навыкам чтения, письма и счета и понемножку – истории и другим предметам. Так выглядела «явная» учебная программа. Но за ней также стояла куда более простая, «скрытая» программа. Она включала в себя и до сих пор включает во многих странах три «предмета»: пунктуальность, послушание и привычку к монотонному, однообразному труду. Работа на фабрике требовала от рабочих, особенно тех, кто трудился на сборочных линиях, не опаздывать, а также не прекословя выполнять распоряжения начальства. Она требовала от работников и работниц готовности к рабскому труду за станками или в конторах, связанному с выполнением изматывающе однообразных операций.
Поэтому начиная с середины XIX века, когда Вторая волна накатывала на одну страну за другой, происходило непрерывное развитие системы образования: дети начинали школьное обучение во все более юном возрасте, учебный год становился все длиннее (в США с 1878 по 1956 год он увеличился на 35 %), неуклонно возрастала продолжительность курса обязательного школьного обучения.
Массовое государственное образование определенно было гуманизирующей, прогрессивной мерой. Группа механиков и рабочих Нью-Йорка еще в 1829 году заявила, что «помимо права на жизнь и свободу величайшим благом, дарованным человечеству, мы считаем образование». И тем не менее школы Второй волны механически штамповали поколение за поколением молодых людей, превращая их в податливую, специализированную рабочую силу, востребованную развитием электромеханических технологий и сборочных конвейеров.
Нуклеарная семья и школьное образование по фабричной модели, вместе взятые, стали частью единой, интегрированной системы подготовки молодежи к выполнению различных ролей в рамках индустриального общества. В этом плане все общества Второй волны, капиталистические и социалистические, Севера и Юга, были одинаково равны.
Бессмертные существа
Во всех обществах Второй волны возник еще и третий институт, дополнявший функции социального контроля первых двух. Этим институтом явилась корпорация. До ее изобретения типичное деловое предприятие по форме своего владения было индивидуальным, семейным или партнерским. Корпорации хотя и существовали, встречались крайне редко.
Даже во времена Американской революции, согласно историку Артуру Дьюингу, никто не мог бы предположить, что именно корпорация, а не товарищество и не индивидуальное предприятие станет главной организационной формой бизнеса. В 1800 году в США насчитывалось всего 335 корпораций, большинство из них занимались, по сути, государственными обязанностями – строительством каналов и взиманием тарифов за проезд по дорогам.
Рост массового производства все это изменил. Технологии Второй волны требовали гигантского капитала – намного больше, чем могли предоставить одиночное лицо или небольшая группа. Одиночные владельцы или компаньоны, которым приходилось рисковать личным состоянием, неохотно вкладывали деньги в большие или непредсказуемые предприятия. Чтобы пробудить у них интерес к инвестициям, была внедрена форма общества с ограниченной ответственностью. Если корпорация разорялась, инвестор терял только вложенную в нее сумму. Эта инновация распахнула ворота для потока инвестиций.
Кроме того, суды относились к корпорациям как к «бессмертным существам», то есть такие образования могли пережить своих основателей. В свою очередь, это означало, что корпорации могли вести планирование с очень дальним прицелом и запускать намного более крупные проекты, чем прежде.
К 1901 году появилась первая в мире корпорация с миллиардным капиталом – United States Steel. Подобной концентрации активов невозможно вообразить ни на одном предыдущем историческом этапе. К 1919 году насчитывалось полдюжины таких монстров. Крупные корпорации стали неотъемлемой частью экономики всех промышленно развитых стран, в том числе социалистических и коммунистических, где они отличались по организационной форме, но оставались одинаковыми по сути [2]. Все вместе эти элементы – нуклеарная семья, школа-фабрика и гигантская корпорация – стали определяющими социальными институтами во всех обществах Второй волны.
Поэтому неслучайно, что повсюду в мире Второй волны, в Японии, Швейцарии, Великобритании, Польше, США и СССР, большинство людей двигались по одному и тому же жизненному пути: взращенные в нуклеарной семье, они коллективно посещали школу-фабрику, после чего поступали на работу в крупную частную или государственную корпорацию. Каждый этап их жизненного пути контролировался одним из ключевых институтов Второй волны.
Музыкальная фабрика
Вокруг этих трех основных институтов сложился целый сонм других организаций. Министерства, спортклубы, церкви, торговые палаты, профсоюзы, ассоциации профессиональных работников, политические партии, библиотеки, этнические объединения, группы досуга и тысячи других структур колыхались в фарватере Второй волны, образуя сложную организационную экосистему, в которой каждая группа обслуживала, дополняла и уравновешивала другую.
Поначалу многообразие таких групп наводит на мысль о хаосе и беспорядке. Однако при ближайшем рассмотрении выявляются скрытые общие черты. В одной стране Второй волны за другой социальные экспериментаторы, считая фабрику наиболее прогрессивной и эффективной формой производства, пытались внедрить тот же принцип в других организациях. Поэтому школы, больницы, тюрьмы, государственные органы и прочие организации перенимали многие характерные черты фабрик и заводов – разделение труда, иерархическую структуру, механическую безликость.
Действие фабричного принципа можно обнаружить даже в искусстве. Вместо работы на богатого мецената, что было обычным делом в период долгого господства аграрной цивилизации, музыканты, художники, композиторы и писатели стали все больше отдавать себя на милость рынка, все больше выпускать «товары» для анонимных потребителей. Так как эта перемена произошла в каждой стране Второй волны, изменилась сама структура художественной деятельности.
Ярким примером являются музыканты. С наступлением Второй волны в Лондоне, Вене, Париже и других городах начали появляться концертные залы, а вместе с ними – билетные кассы и импресарио, то есть дельцы, финансирующие производство и продающие билеты потребителям культуры.
Естественно, чем больше билетов удавалось продать, тем выше была прибыль. Поэтому концертные залы постоянно расширяли, добавляя новые зрительские места. Однако самые крупные из них, в свою очередь, требовали более громкого звучания, чтобы слушатели хорошо слышали музыку даже с последних рядов. Как следствие, произошел переход от камерной к симфонической музыке.
Курт Закс в авторитетном труде «История музыкальных инструментов» пишет: «Переход от аристократической к демократической культуре, происшедший в XVIII веке, заменил небольшие музыкальные салоны на гигантские концертные залы, требовавшие, чтобы музыка звучала громче». Так как позволяющая это делать технология пока еще не была изобретена, необходимая громкость обеспечивалась увеличением числа инструментов и музыкантов. В итоге родился современный симфонический оркестр. Бетховен, Мендельсон, Шуман и Брамс писали свои величественные симфонии именно для этой индустрии.
Внутреннее строение оркестра тоже чем-то напоминало фабричное производство. Поначалу у симфонического оркестра не было руководителя, его роль поочередно играли исполнители. Затем музыкантов, как рабочих на заводе или служащих в конторе, поделили на отделы или цеха (группы инструментов), все они вносили вклад в изготовление общего продукта (музыки), действиями каждого управлял сверху менеджер (дирижер), в оркестре даже был свой прораб (первая скрипка или ведущий музыкант группы инструментов). Данный институт продавал свой товар на массовом рынке, позже добавив к ассортименту своей продукции грампластинки. Так родилась музыкальная фабрика.
История симфонического оркестра – лишь одна из иллюстраций становления социальной сферы Второй волны с ее тремя коренными институтами и тысячами разнообразных организаций, адаптированных под нужды и процессы индустриальной техносферы. Однако цивилизация включает в себя не только техносферу и соответствующую социальную сферу. Для создания и распространения информации все цивилизации также нуждаются в инфосфере. Вторая волна внесла удивительные изменения и в эту область.
Бумажная метель
Все группы людей со времен первобытного человека до наших дней зависели от личного общения лицом к лицу. Однако нужда в системах передачи сообщений на расстояние и во времени также существовала. По некоторым сведениям, в древней Персии была создана линия связи под названием «царские уши» – на возвышениях и башнях ставили людей с пронзительными, громкими голосами, которые выкрикивали сообщения, передавая их по цепочке. Древние римляне использовали разветвленную службу передачи сообщений под названием cursus publicus. Семейный дом Турн-и-Таксис с 1305 года до начала XIX века содержал конную почтовую службу, действовавшую на всей территории Европы. К 1628 году она насчитывала двадцать тысяч сотрудников. Курьеры, одетые в синюю форму с серебряным позументом, колесили по всему континенту, доставляя письма принцам и генералам, купцам и ростовщикам.
В цивилизации Первой волны эти каналы связи были прерогативой богатых и влиятельных людей и оставались недоступны для обычного люда. По словам историка Лаурина Зиллиакуса, попытки отправления писем другими способами воспринимались с подозрением или запрещались властями. Другими словами, в то время как личный обмен информацией лицом к лицу был открыт для всех, более прогрессивные системы передачи информации за пределы семейного круга или деревенской общины были недоступны для посторонних и использовались правителями в целях общественно-политического контроля. По сути, они играли для элиты роль оружия.
Вторая волна, охватывая одну страну за другой, камня на камне не оставила от монополии на коммуникацию. Это произошло не потому, что богатые и влиятельные люди вдруг подобрели, но потому, что технологии Второй волны и массовое фабричное производство требовали передачи гигантских объемов информации, с которой прежние каналы попросту не справлялись.
Первобытному или аграрному обществу для целей экономического производства требовалась сравнительно простая информация, которая обычно предоставлялась кем-нибудь поблизости. По своей форме она ограничивалась устными сообщениями и жестикуляцией. Экономика Второй волны, наоборот, требовала тесной координации труда, который осуществлялся одновременно во многих местах. Производить и тщательно распределять необходимо было не только сырье, но и огромное количество информации.
Поэтому, как только Вторая волна начала набирать силу, все страны бросились создавать почтовые службы. Почтамт был гениальным и крайне полезным для общества изобретением под стать хлопкоочистительной или прядильной машине. Сегодня об этом немного позабыли, но в свое время почтовая связь вызвала бурный восторг. Американский оратор Эдвард Эверетт провозгласил: «Я вынужден признать, что почтовая служба наряду с христианской религией – это правая рука нашей современной цивилизации».
Почтовая служба предоставила первый открытый канал коммуникации в индустриальную эпоху. К 1837 году почта Великобритании ежегодно переправляла не только письма для элиты, но и 88 млн почтовых отправлений – настоящую лавину сообщений для того времени. К 1960 году, когда индустриальная эпоха достигла своего пика и началась Третья волна, количество почтовых отправлений возросло до десяти миллиардов. За этот же год почтовая служба США доставила в расчете на каждого жителя, включая мужчин, женщин и детей, 355 отправлений только внутри страны [3].
И все-таки вал почтовых сообщений, сопровождавший промышленную революцию, составлял лишь малую долю реального потока информации, хлынувшего вслед за приходом Второй волны. Еще большее количество сообщений обращалось в так называемых «микропочтовых системах» внутри крупных организаций. Масса служебных записок и циркуляров не попадала в общественные каналы коммуникации. В 1955 году, на гребне Второй волны в США, комиссия Гувера заглянула в папки с деловой документацией трех крупных корпораций. Она обнаружила соответственно 34 тыс., 56 тыс. и 64 тыс. документов и записок в расчете на каждого штатного сотрудника.
К тому же бурный рост потребности индустриальных обществ в информации невозможно было обеспечить одними письменными документами. Поэтому в XIX веке изобрели телефон и телеграф, взявшие на себя большую долю набухающего потока коммуникации. К 1960 году американцы делали около 256 млн телефонных звонков в день – более 93 млрд в год. Даже самые передовые телефонные системы и сети мира нередко испытывали перегрузку.
Все эти системы, как правило, передавали сообщения единовременно только от одного отправителя одному получателю. Однако обществам, развивающим массовое производство и массовое потребление, требовались способы массовой отправки сообщений или синхронная коммуникация между одним отправителем и большим числом получателей. В отличие от работодателя доиндустриальной эпохи, который при необходимости мог лично посетить на дому каждого из своих немногочисленных работников, новый промышленник не мог контактировать с тысячами рабочих в личном порядке. Еще труднее поддерживать связь со своими клиентами было оптовым закупщикам или дистрибьюторам. Обществу Второй волны требовались эффективные средства отправки одного и того же сообщения одновременно большой массе людей – недорогие, быстрые и надежные. И такие средства были изобретены.
Почтовая служба могла доставить одно и то же сообщение миллионам получателей, но не очень быстро. Телефоны передавали сообщения быстро, но не миллионам получателей одновременно. Этот пробел заполнили средства массовой информации.
Сегодня массовая циркуляция газет и журналов, разумеется, стала настолько привычной чертой повседневной жизни промышленно развитых стран, что ее принимают как должное. Между тем рост тиражей на национальном уровне шел в унисон с развитием новых промышленных технологий и общественных форм. Как писал Жан-Луи Серван-Шрайбер, это произошло благодаря совпадению нескольких факторов – «поездов, развозивших издание по стране [европейских размеров] за один день; ротационной печатной машины, способной выдать за несколько часов работы десятки миллионов экземпляров; телеграфа и телефона… но прежде всего – наличия публики, обученной читать в ходе обязательного школьного курса, и отраслей, нуждавшихся в массовом сбыте своей продукции».
Средства массовой информации, будь то газеты, радио, кино или телевидение, тоже работают по принципу фабричного производства. Все они вколачивают одинаковые сообщения в мозги миллионов людей подобно тому, как фабрика штампует одинаковые товары для миллионов домохозяйств. Из горстки крупных фабрик грез и представлений к миллионам потребителей течет река унифицированных, изготовленных в массовом порядке «фактов» – братьев-близнецов унифицированных, изготовленных в массовом порядке товаров. Без этой огромнейшей, мощной системы распределения информации промышленная цивилизация не смогла бы оформиться и надежно функционировать.
Таким образом, во всех промышленных обществах, как капиталистических, так и социалистических, возникла развитая инфосфера – каналы коммуникации, позволяющие распространять индивидуальные и массовые сообщения с не меньшей эффективностью, чем готовые товары или сырье. Инфосфера переплелась с техносферой и социальной сферой, обслуживая их нужды и помогая интегрировать экономическое производство и поведение индивида.
Все эти сферы играли ключевые функции внутри большой системы и не могли существовать в отрыве друг от друга. Техносфера производила и распределяла материальные ценности, социальная сфера с тысячами взаимосвязанных организаций назначала индивидуальные роли каждому человеку. Инфосфера распределяла информацию, необходимую для функционирования системы. Все вместе они сформировали базовую архитектуру общества.
Таким образом, мы видим контуры структур, которые являются общими для всех стран Второй волны, независимо от их культурных и климатических различий, этнического состава, религиозного наследия и того, называют ли они себя капиталистическими или коммунистическими.
Эти базовые структуры, одинаковые как в Советском Союзе и Венгрии, так и в ФРГ, Франции или Канаде, задают рамки, в которых проявляются политические, общественные и культурные различия. Они везде складываются лишь после ожесточенной политической, культурной и экономической борьбы между теми, кто пытается сохранить структуры Первой волны, и теми, кто понимает, что наболевшие проблемы прошлого поможет решить только цивилизация нового типа.
Вторая волна принесла с собой небывалый рост надежд. Люди впервые поверили, что нищету, голод, болезни и тиранию можно преодолеть. Писатели и философы-утописты от Этьенна-Габриэля Морелли и Роберта Оуэна до Сен-Симона, Фурье, Прудона, Луи Блана, Эдуарда Беллами и десятков других видели в нарождающейся промышленной цивилизации потенциал перехода к мирной жизни, гармонии, всеобщей занятости, материальному благополучию, равенству возможностей, ликвидации наследственных привилегий и всех тех порядков, которые выглядели вечными и незыблемыми в течение сотен тысяч лет первобытного существования и тысячелетий господства аграрной цивилизации.
Если нынешняя цивилизация кажется нам далекой от утопии, если она, напротив, выглядит деспотичной, безрадостной, экологически вредной, склонной к войнам и угнетающей психику, то неплохо бы выяснить, что служит этому причиной. Мы сможем ответить на этот вопрос, если взглянем на клин, который расколол дух Второй волны на две враждебные половины.
Глава 3
Невидимый клин
Вторая волна подобно ядерной цепной реакции резко разделила две стороны нашей жизни, которые прежде составляли одно целое. Это вогнало гигантский невидимый клин в нашу экономику, наши души и даже наше половое самосознание.
На одном уровне промышленная революция породила удивительно слаженную общественную систему, имеющую свои собственные неповторимые технологии, социальные институты и каналы информации, причем все эти части плотно подогнаны друг к другу. Однако на другом уровне она разорвала базовое единство общества, создав жизненный уклад, полный экономического давления, социальных конфликтов и психологического дискомфорта. Мы сможем в полной мере оценить воздействие начавшей преображать нас Третьей волны, только когда поймем, как этот невидимый клин повлиял на нашу жизнь в эпоху Второй волны.
Две стороны, на которые рассекла жизнь человека Вторая волна, – это производство и потребление. Мы, например, привыкли считать себя или производителями, или потребителями. Так было не всегда. До начала промышленной революции огромная доля продуктов питания, предметов и услуг, производимых людьми, потреблялась самими производителями, членами их семей или крохотной элитой, умудрявшейся выскребать излишки для собственных нужд.
Большинство аграрных обществ в основном состояли из крестьян, живущих небольшими полуавтономными общинами. Они прозябали на скудной диете, которой едва хватало, чтобы не умереть с голоду и не навлечь на себя гнев хозяев жизни. У них не было возможности запасать еду на долгое время или дорог, чтобы привезти свою продукцию на отдаленные базары. Они также хорошо понимали, что, если нарастить урожай, рабовладелец или феодал отберет излишки, и поэтому не имели стимулов к улучшению технологий или увеличению производства.
Торговля, разумеется, существовала. Нам известно, что небольшое число смелых купцов возили товары за тысячи миль на верблюдах, повозках или лодках. Мы также знаем о возникновении городов, которые зависели от поставок продовольствия из сельской местности. В 1519 году, когда испанцы высадились в Мексике, они были поражены, увидев в Тлателолько тысячи людей, покупающих и продающих самоцветы, драгоценные металлы, рабов, сандалии, ткани, шоколад, веревки, шкуры, индюшек, овощи, кроликов, собак и посуду тысячи видов. «Газеты Фуггеров», рукописные депеши, составлявшиеся в XVI и XVII веках для немецких банкиров, дают красочное представление о размахе торговли в эту эпоху. Письмо из Кочи в Индии подробно повествует о злоключениях европейского купца, прибывшего с пятью кораблями для закупки перца и его доставки в Европу. «Хранение перца – доходное дело, – пишет он, – но оно требует большого усердия и настойчивости». Этот же купец возил на европейский рынок гвоздику, муку, корицу, мускатный орех и его шелуху, а также различные лекарственные препараты.
Тем не менее вся эта торговля была исторически ничтожным элементом по сравнению с объемами продукции, производимой рабами-аграриями или крепостными для собственного потребления. Согласно Фернану Броделю, непревзойденному исследователю истории Средневековья, в конце XVI века весь Средиземноморский регион от Франции и Испании до Турции обеспечивал существование 60–70 млн человек, из которых 90 % кормились с земли, производя очень незначительное количество товаров на продажу. По данным Броделя, 60 %, а то и 70 % всего, что производилось в Средиземноморье, никогда не попадало на рынок. И если так было на берегах Средиземного моря, то что тогда говорить о Северной Европе, где каменистая почва и длинные холодные зимы еще больше затрудняли для крестьян получение от земли каких-либо излишков?
Нам будет легче понять Третью волну, если принять во внимание, что экономика Первой волны до начала индустриальной революции состояла из двух секторов. Люди в секторе А производили продукцию для собственных нужд. Сектор Б производил товары для продажи или обмена. Сектор А был огромен, сектор Б – очень мал. Поэтому для большинства населения производство и потребление сливались в одну неделимую функцию жизнеобеспечения. Это единство было настолько полным, что древние греки, римляне и жители средневековой Европы не видели между ними никаких различий. У них и слова такого, как «потребитель», не было. В эпоху Первой волны от рынка зависела лишь крохотная часть населения, подавляющее большинство людей в нем не участвовало. Говоря словами историка Р. Г. Тоуни, имущественные сделки совершались на задворках мира натурального хозяйства.
Вторая волна резко изменила положение. Вместо самодостаточности отдельных людей и общин она впервые в истории создала ситуацию, когда подавляющее количество продуктов питания, товаров и услуг стало производиться для продажи, бартера или обмена. Вторая волна фактически положила конец производству предметов для собственного потребления производителем и членами его или ее семьи и создала цивилизацию, в которой никто, даже фермер, больше не мог полагаться только на самого себя. Все стали зависеть по части продовольствия, товаров и услуг от других людей.
Короче говоря, индустриализм сломал единство производства и потребления и развел производителя и потребителя в разные стороны. Единая экономика Первой волны превратилась в расколотую надвое экономику Второй волны.
Значение рынка
Последствия этого раскола колоссальны. Мы по сей день не до конца их понимаем. Во-первых, рынок, который в прошлом был несущественным и второстепенным явлением, переместился в самую гущу жизни. Экономика стала рыночной. Причем случилось это и в капиталистической, и в социалистической индустриальной экономике.
Западные экономисты склонны считать рынок чисто капиталистическим феноменом и нередко используют этот термин как синоним «экономики прибыли». Однако исторические сведения говорят, что обмен, то есть рынок, возник раньше прибыли, а значит, не зависит от нее. Рынок, если называть вещи своими именами, это не более чем обменная сеть, своего рода АТС, только последняя распределяет по адресатам звонки, а рынок – товары и услуги. Рынок не исконно капиталистическое явление. Такая АТС одинаково необходима и социалистическому индустриальному обществу, и промышленному обществу, ориентированному на прибыль [4].
Короче говоря, с наступлением Второй волны, как только целью производства стало не личное потребление продукции, а обмен, немедленно возникла потребность в механизме, который бы такой обмен обеспечивал. Рынок не мог не возникнуть. Но рынок не вел себя пассивно. Историк-экономист Карл Поланьи показал, что рынок, который в ранних обществах обслуживал общественные, культурные и религиозные нужды, в индустриальном обществе начал сам задавать цели. Большинство людей засосало в товарно-денежные отношения. Коммерческие ценности стали играть центральную роль, экономический рост (измеряемый размерами рынка) превратился в главную цель государства, как капиталистического, так и социалистического.
А все потому, что рынок – это экспансионистский институт с положительной обратной связью. Подобно тому как раннее разделение труда вызвало появление коммерции, само существование рынка повлекло за собой дальнейшее разделение труда и резкое повышение его производительности. Начался процесс самоусиления.
Взрывная экспансия рынка способствовала самому быстрому в истории росту уровня благосостояния.
Однако государства Второй волны в своей политике все больше сталкивались с новыми конфликтами, вызванными тем, что производство и потребление были теперь разделены. Акцент марксизма на классовой борьбе систематически затушевывал гораздо более важный и глубокий конфликт между требованиями производителей (как рабочих, так и управленцев) более высокой заработной платы, прибыли и льгот, с одной стороны, и ответными требованиями потребителей (иногда тех же самых людей) более низких цен, с другой стороны. Этот конфликт – тот балансир, на котором ходят вверх-вниз качели экономической политики.
Будь то рост движения в защиту прав потребителей в США, недавние восстания в Польше против объявленного государством повышения цен, бесконечные битвы в Великобритании вокруг политики в области цен и доходов, смертельная идеологическая борьба в Советском Союзе по вопросу, что важнее – тяжелая промышленность или потребительские товары, все это является аспектами глубокого конфликта, вызываемого в любом обществе, как капиталистическом, так и социалистическом, размежеванием производства и потребления.
Это размежевание пронизывает не только политику, но и культуру, оно породило наиболее меркантильную, алчную, коммерциализированную и расчетливую цивилизацию в человеческой истории. Необязательно быть марксистом, чтобы согласиться с известным обвинением «Коммунистического манифеста» в том, что новое общество «не оставило между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного чистогана». Межличностные отношения, семейные связи, любовь, дружба, контакты с соседями и внутри общины – все это пропиталось и искажено духом коммерческой наживы.
Маркс был прав, когда выявил этот процесс дегуманизации межличностных связей, но был не прав в том, что ставил его в вину капитализму. Разумеется, он писал свои труды в эпоху, когда индустриальное общество можно было наблюдать только в его капиталистической форме. Сегодня, накопив более чем полувековой опыт сосуществования с индустриальным обществом, основанным на принципах социализма или, по крайней мере, государственного социализма, мы уже знаем, что агрессивное стяжательство, подкуп и сведение отношений между людьми к бездуховному материализму отнюдь не является монополией системы, основанной на получении прибыли.
Ибо навязчивая озабоченность деньгами и вещизм являются отражением не капитализма или социализма как таковых, а индустриализма. Таково влияние центральной роли рынка во всех обществах, где производство отделено от потребления и где каждый человек получает предметы первой необходимости от рынка, а не добывает их с помощью личных навыков.
В таком обществе независимо от его политического устройства продаются и покупаются, служат предметом торга или обмена не только товары, но и труд, идеи, произведения искусства и человеческие души. Западный агент по закупкам, кладущий в карман незаконные комиссионные, мало чем отличается от редактора советского издательства, берущего на лапу от автора за то, что утверждает его книгу в печать, или сантехника, требующего бутылку водки за работу, за которую он и так получает зарплату. Француз, англичанин или американец, который пишет книги или рисует картины исключительно за деньги, ничем не отличается от польского, чешского или советского новеллиста, художника или драматурга, обменивающего свою свободу творчества на экономические выгоды вроде дачи, льгот или возможности приобрести новую машину и другие труднодоступные товары.
Когда производство отделено от потребления, подобная коррупция неизбежна. Потребность в рынке для установления контакта между потребителем и производителем для направления товаров от производителя к потребителю сама по себе неизбежно дает лицам, контролирующим рынок, запредельную власть, какой бы риторикой они ее ни прикрывали и как бы ни оправдывали.
Эта разделенность производства и потребления, ставшая определяющей чертой всех промышленных обществ Второй волны, затрагивает также нашу психику и наши представления о личности. Поведение стало рассматриваться как серия транзакций. Вместо общества, основанного на дружбе, родстве, лояльности племени или феоду, в фарватере Второй волны возникла цивилизация, опирающаяся на фактические или предполагаемые договорные связи. Даже мужья и жены нынче рассуждают о брачных контрактах.
Раскол между этими двумя ролями – производителя и потребителя – в то же время привел к раздвоению личности. Одного и того же человека, которого (в роли производителя) семья, школа и начальство учили откладывать удовлетворение желаний на потом, соблюдать дисциплину, держать себя в руках, сдерживать свои порывы, проявлять послушание, работать в команде, учат (в роли потребителя) стремиться к немедленному исполнению желаний, быть гедонистом, не задумываться о будущем, пренебрегать дисциплиной, гоняться за личными удовольствиями, другими словами, быть совершенно противоположной личностью. Особенно на Западе, где на потребителя нацелены стволы рекламы крупного калибра, его побуждают жить в долг, делать спонтанные покупки, получать удовольствия в кредит и, действуя таким образом, выполнять свой патриотический долг – заставлять шестеренки экономики вращаться.
Размежевание полов
Наконец, все тот же гигантский клин, разъединивший в обществах Второй волны производителя и потребителя, разделил надвое и характер труда. Этот раскол оказал огромное влияние на семейную жизнь, социальные роли мужчин и женщин и духовную жизнь человека.
Одним из типичных стереотипов индустриального общества в отношении полов является определение трудовой ориентации мужчин как «объективной», а женщин – как «субъективной». Если в этом и есть крупица истины, то она заключается не в некой неизменной биологической данности, а в психологических последствиях воздействия невидимого клина.
В обществах Первой волны почти вся работа выполнялась в поле или в домашнем хозяйстве, вся семья вкалывала сообща как единая экономическая ячейка и производимая продукция потреблялась почти полностью в деревне или усадьбе. Трудовая и домашняя жизнь были слиты воедино и переплетены между собой. И поскольку каждая деревня в основном была самодостаточна, успех одной группы крестьян никак не зависел от того, как обстояло дело у крестьян в соседних деревнях. Даже внутри одной производственной ячейки работники выполняли целый ряд различных обязанностей, подменяя и замещая друг друга, когда этого требовали время года, болезнь члена семьи либо личный выбор. Доиндустриальное разделение труда оставалось в высшей степени примитивным. Как следствие, труд в аграрных обществах Первой волны характеризовался крайне низким уровнем взаимозависимости.
Вторая волна, прокатившаяся по Великобритании, Франции, Германии и другим странам, перенесла труд с полей на фабрики и подняла взаимозависимость на гораздо более высокий уровень. Отныне работа требовала коллективных усилий, разделения труда, координации и сочетания большого числа трудовых навыков. Успех зависел от тщательно спланированных совместных действий тысяч рассредоточенных работников, многие из которых никогда не встречались друг с другом. Неспособность крупного сталелитейного предприятия или стекольной фабрики вовремя поставить запасные части автомобильному заводу при некоторых обстоятельствах могла вызвать серьезные потрясения в целой отрасли или региональной экономической зоне.
Столкновение двух видов труда – с низкой и с высокой степенью взаимозависимости – породило серьезный конфликт в области распределения функциональных обязанностей, разделения сфер ответственности и вознаграждения за труд. Владельцы первых мануфактур, например, жаловались на безответственность рабочих – последних мало заботила эффективность предприятия, они уходили на рыбалку, когда в них больше всего нуждались, дурачились на рабочем месте или являлись на работу пьяными. Большинство промышленных рабочих начального периода были, по сути, бывшими крестьянами, привыкшими к низкому уровню взаимозависимости и не понимавшими своей роли в совокупном производственном процессе и того, каким образом их «безответственность» влияет на сбои, поломки и отказы оборудования. К тому же большинство из них получали мизерные зарплаты, не вызывавшие особого желания напрягаться.
В столкновении этих двух систем организации труда тон начали задавать новые формы. Производство все больше перемещалось на фабрики и в конторы. Села теряли население. Миллионы работников вливались в сети, имевшие высокую степень взаимозависимости. Труд Второй волны оттеснил на второй план формы труда, ассоциировавшиеся с Первой волной, которые стали считаться отсталыми.
Однако победа взаимозависимости над самодостаточностью не была абсолютной. В одном месте старый тип труда никак не желал исчезать. Этим местом был семейный очаг.
Любая семья оставалась децентрализованной ячейкой, вовлеченной в процесс биологического воспроизводства, воспитания детей и передачи культурного наследия. Когда одна семья не справлялась с воспроизводством или плохо воспитывала детей, не помогая им занять должное место в системе труда, ее неудачи не влияли на выполнение аналогичных задач соседней семьей. Другими словами, домашний труд оставался деятельностью с низкой степенью взаимозависимости.
Домохозяйка, как и раньше, продолжала выполнять ряд важных экономических функций. Она «производила». Но она производила для сектора А, то есть для удовлетворения нужд своей семьи, а не для рынка.
В то время как муж, как правило, покидал дом, чтобы работать в экономике напрямую, жена оставалась дома и вносила вклад в экономику косвенно. Муж отвечал за исторически более прогрессивную форму труда, жена, оставаясь дома, занималась трудом устаревшего, отсталого типа. Получалось, что муж двигался в будущее, а жена застревала в прошлом.
Такое разделение труда вызывало раздвоение личности и духовной жизни. Общественный, коллективный характер труда на фабрике или в конторе, потребность в координации и интеграции делали акцент на объективном анализе и объективных отношениях. Мужчин, которых с детских лет готовили к работе на предприятии, где они погружались в мир взаимозависимости, побуждали быть «объективными». Женщин, которых с рождения готовили к таким задачам, как воспроизводство потомства, воспитание детей и нудной работе по дому, в большой степени выполняемой в обстановке социальной изоляции, обучали быть «субъективными» и нередко считали неспособными к рациональному, аналитическому мышлению, считавшемуся признаком объективности.
Неудивительно, что женщин, покинувших относительную изоляцию домашнего быта, чтобы включиться во взаимозависимое производство, часто обвиняли в утрате женственности, холодности, черствости и… объективности.
Более того, различия между полами и половые стереотипы обострялись за счет ошибочного отождествления мужчин с производством, а женщин – с потреблением, как если бы мужчины не потребляли, а женщины не участвовали в производстве. Короче говоря, хотя женщины терпели угнетение задолго до того, как Вторая волна начала свое движение по планете, современные баталии между полами можно во многом проследить до конфликта двух видов труда и даже еще дальше – до разъединения производства и потребления. Раскол в экономике углубил размежевание между полами.
В итоге мы видим, что, как только был вбит невидимый клин, отделивший производство от потребления, последовал целый ряд глубоких перемен: чтобы связать производство и потребление, потребовалось формирование и расширение рынка; возникли новые социально-политические конфликты; по-новому определились роли полов. Но раскол проник намного глубже. Он означал, что все общества Второй волны должны были действовать в одинаковой манере и отвечать определенным базовым требованиям. Приносило ли производство прибыль или нет, находились ли «средства производства» в руках частных владельцев или государства, являлся ли рынок «свободным» или «плановым», использовалась ли капиталистическая или социалистическая риторика, не играло никакой роли.
Всякий раз, когда производство осуществлялось для обмена, а не личного пользования, когда товары поступали на рынок – своеобразную АТС, в силу вступали определенные принципы Второй волны.
Достаточно идентифицировать эти принципы, и вся динамика промышленных обществ предстает как на ладони. Более того, появляется возможность угадать образ мыслей человека Второй волны, потому как эти принципы помогли сформировать основные правила – код поведения, характерный для цивилизации Второй волны.
Глава 4
Взлом кода
Любая цивилизация имеет свой тайный код – набор правил или принципов, которые повторяются во всех ее видах деятельности. По мере того как индустриализм шествовал по планете, все больше проявлялась его скрытая схема. В нее входят шесть взаимосвязанных принципов, программирующих поведение миллионов людей. Эти принципы – естественное следствие разъединения производства и потребления, и влияют они на все стороны нашей жизни от секса и спорта до работы и участия в войнах.
Вокруг этих шести принципов вращаются большинство нынешних конфликтов в школах, компаниях и правительственных учреждениях, возникающих из-за того, что люди Второй волны инстинктивно применяют и отстаивают их, а люди Третьей волны бросают им вызов и ведут с ними борьбу. Однако не будем забегать вперед.
Унификация
Среди этих шести принципов наиболее хорошо известна унификация. Все знают, что промышленные общества выпускают миллионы идентичных единиц товара. Однако немногие замечают, что, как только рынок приобретает важность, мы унифицируем не только бутылки для кока-колы, лампочки и автомобильные коробки передач. Мы применяем тот же принцип ко многим другим вещам. Первым важность этой идеи понял Теодор Вейл, который на рубеже веков превратил в гиганта «Американскую телефонную и телеграфную компанию» (AT&T) [5].
Работая в конце 1860-х годов почтовым клерком на железной дороге, Вейл заметил, что письма поступают адресату необязательно по одному и тому же маршруту. Мешки с почтой путешествовали туда и обратно, нередко прибывая в место назначения только через несколько недель, а то и месяцев. Вейл предложил внедрить унифицированные маршруты, чтобы все письма, отправленные в конкретную точку, пересылались одним и тем же путем, что помогло революционизировать почтовые службы. Создав впоследствии AT&T, он задался целью установить в каждом доме унифицированный телефонный аппарат.
Вейл не только унифицировал телефонную трубку и все ее компоненты, но также бизнес-операции AT&T и администрацию компании. В 1908 году он оправдывал поглощение более мелких телефонных компаний потребностью в «клиринговом центре унификации», обеспечивающем экономию при «создании оборудования, телефонных линий и кабельных трасс, а также в области организационных методов и юридического оформления», не говоря уже о «единой системе эксплуатации оборудования и бухучета». Вейл понял, что для успеха в условиях Второй волны необходимо унифицировать не только технические устройства, но и «программные средства» – рабочие операции и административные процедуры.
Вейл был одним из великих систематизаторов, определивших облик индустриального общества. Еще одним был Фредерик Уинслоу Тейлор, рабочий-станочник, ставший поборником прогресса и считавший, что труд можно поставить на научную основу, унифицировав выполняемые работником операции. В первые годы ХХ века Тейлор провозгласил, что для каждой работы можно найти один наилучший (стандартный) способ, один наилучший (стандартный) инструмент и выполнять ее в одну предписанную (стандартную) единицу времени.
Вооружившись этой доктриной, он стал одним из ведущих светил менеджмента в мире. При жизни и после смерти его сравнивали с Марксом, Фрейдом и Франклином. Выжать последнюю каплю производительности из рабочих жаждали не только восхищенные методами Тейлора капиталисты. Их энтузиазм разделяли и коммунисты. Например, Ленин настаивал на внедрении методики Тейлора в социалистическом производстве. Ленин был в первую очередь поборником индустриализации и лишь во вторую – коммунистом, он свято верил в необходимость унификации.
В обществах Второй волны все больше унифицировался как сам труд, так и найм рабочей силы. Для отсева профессионально непригодных кандидатов, особенно при поступлении на госслужбу, использовались единые тесты. Шкала заработной платы и вместе с ней социально-бытовые льготы, продолжительность обеденного перерыва, отпуска и порядок рассмотрения жалоб были унифицированы во всех отраслях. В целях подготовки молодежи для рынка труда учебные заведения стандартизировали программы обучения. Бине и Термен создали стандартные тесты для оценки интеллектуальных способностей. Аналогичным образом были систематизированы школьные оценки, правила приема в учебные заведения и система начисления академических баллов. Получили широкое распространение тесты с выбором ответа из нескольких вариантов.
В свою очередь, стандарты распространяли СМИ – миллионы читателей читали те же рекламные объявления, те же новости, те же очерки. Подавление централизованным государством языков меньшинств в сочетании с воздействием средств массовой коммуникации привело к почти полному исчезновению местных и региональных диалектов и целых наречий, таких как валлийское или эльзасское. «Стандартный» американский, английский, французский или, если угодно, русский язык вытеснили «нестандартные» языки. По мере того как повсюду появлялись одинаковые заправочные станции, рекламные щиты и дома, различные части одной и той же страны начинали выглядеть на одно лицо. Принцип унификации пронизал все стороны повседневной жизни.
На более глубоком уровне промышленная цивилизация нуждалась в стандартизации мер и весов. Неслучайно, что одним из первых актов Французской революции, положившей начало эпохе индустриализма во Франции, стала замена дикой путаницы единиц измерений, характерной для доиндустриальной Европы, метрической системой и новым календарем. Вторая волна распространила единство мер и весов на бо́льшую часть мира.
Но и этого было мало. Если массовое производство требовало стандартизации машин, продуктов и процессов, то непрерывно растущий рынок требовал соответствующей унификации денежных единиц и даже цен. Раньше деньги эмитировались банками и частными лицами, а также монархами. Частные деньги находились в обращении в некоторых районах США до конца XIX века, а в Канаде – до 1935 года. Однако постепенно промышленно развитые страны подавили все негосударственные валюты и сумели навязать единый денежный стандарт в рамках всей страны.
Кроме того, до начала XIX века покупатели и продавцы в промышленных странах имели освященное вековыми традициями обыкновение торговаться, как на каирском базаре. В 1825 году молодой иммигрант из Северной Ирландии по имени А. Т. Стюарт, открывший в Нью-Йорке мануфактурный магазин, шокировал покупателей, установив фиксированные цены для каждого предмета. Эта политика единой цены или ценовой стандартизации сделала Стюарта королем коммерции своей эпохи и устранила одно из главных препятствий на пути к системе массового распределения.
При всех прочих расхождениях передовые мыслители Второй волны сходились во взглядах на унификацию как эффективную меру. Благодаря неустанному применению принципа унификации на различных уровнях Вторая волна ликвидировала множество различий.
Специализация
Второй великий принцип, пронизавший все страны Третьей волны, – это специализация. Чем больше Вторая волна устраняла разнообразие в сфере языка, образа жизни и досуга, тем больше она нуждалась в разнообразии в сфере труда. Ускоряя разделение труда, Вторая волна, используя методику Тейлора, заменила крестьянина, «мастера на все руки», серьезным специалистом узкого профиля и рабочим, выполняющим одну-единственную операцию.
Уже в 1720 году отчет «Выгоды ост-индской торговли» указывал на то, что специализация способна дать больше с меньшими потерями времени и труда. В 1776 году Адам Смит в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов» сделал громкое заявление: «Величайший прогресс в развитии производительной силы труда… [явился], по-видимому, следствием разделения труда» [6].
В качестве классического примера Смит дает описание производства булавок. Рабочий прежнего типа, писал он, выполняя все необходимые операции самостоятельно, смог бы ежедневно производить не более пригоршни булавок – может быть, штук двадцать, а может быть, ни одной. В противовес Смит приводит описание мануфактуры, которую он посетил, где восемнадцать различных операций для производства каждой булавки выполняли десять рабочих-специалистов, выполнявших только одну-две операции. Сообща они умудрялись производить 48 000 булавок в день – более 4800 штук на каждого рабочего.
К началу XIX века по мере перехода труда с полей на фабрики история с булавками повторялась все чаще и во все больших масштабах. Соответственно возрастали социальные издержки специализации. Критики индустриализма обвиняли рост специализации в том, что однообразный труд лишал рабочего человеческого достоинства.
К тому времени, когда Генри Форд в 1908 году приступил к производству «модели Т», для выпуска готового изделия требовалось уже не 18 операций, а 7882. В автобиографии Форд упоминает, что из 7882 специализированных операций 949 требовали, чтобы их выполняли «сильные, крепкие мужчины в практически идеальной физической форме». 3338 операций могли выполняться мужчинами с «обычными» физическими данными, а остальные – «женщинами или детьми старшего возраста». Он бесстрастно продолжает, что «670 операций могли выполняться безногими, 2637 – одноногими, две – безрукими, 715 – однорукими и 10 – слепыми». Другими словами, для специализированной операции требовался не весь человек, а только конкретная часть его тела. Никто с тех пор не представил более яркого свидетельства жестокости чрезмерной специализации.
