Наука побеждать
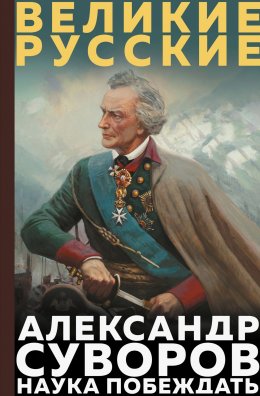
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Глава I. Исследование генерал-майора А. Г. Елчанинова «Александр Васильевич Суворов»
Портрет А. В. Суворова работы Н. И. Уткина, год 1818
§ I. Жизнь Суворова до первого боевого опыта (1730–1758 гг.)
Александр Васильевич Суворов происходил из старого, но незнатного дворянского рода[1]. Родители не готовили Суворова к военной службе: он был худ, хил, мал ростом, плохо сложен и некрасив.
Однако, едва узнав грамоту, Суворов непреодолимо пристрастился к военным книгам, и, когда ему минуло 11 лет, генерал Ганнибал[2], воспитанник Петра Великого, после жалобы отца Суворова на военные склонности сына, разговорился с ним и посоветовал не мешать этим склонностям.
Тогда отец Суворова в 1741 г. записал его рядовым в лейб-гвардейский Семеновский полк, и в 15 лет Александр начал службу.
К этому времени он успел изучить походы Александра Македонского, Цезаря, Ганнибала, Густава Адольфа, Тюренна, Евгения Савойского, историю военную и общую, географию, философию, иностранные языки – рядовой Суворов знал больше многих офицеров того времени.
Всего он достиг самоучкой; лишь фортификацию, артиллерию и языки проходил с помощью отца и посещая Кадетский корпус.
В полку Суворов с особой любовью взялся за солдатскую науку, даже за то, чего ему не полагалось. Ружье он называл «женой»; вместе со всеми исполнял черные работы.
Здесь он и привык к жизни, которой навсегда закалил свое здоровье. Но главное, здесь зародилась прочная связь Суворова с солдатом, основа всей его деятельности.
Вместе с тем, продолжая читать все свободное время, Суворов к 20 годам приобрел знания, которых ему не могли дать тогда учебные заведения. Но он не остановился и продолжал учиться – до конца своих дней…
Только в 24 года Суворов, пройдя все нижние звания, был произведен в поручики в Ингерманландский пехотный полк, когда многие его сверстники были уже штаб-офицерами и генералами. Но Суворов сам отчасти не хотел быстрого производства в офицеры. Он хотел в совершенстве изучить солдатскую среду – и эта настойчивость, отличительная черта всей его жизни, вполне вознаградилась: за 9 лет совместной жизни он сделался неограниченным властителем сердца и ума солдата, а добываемые попутно познания дали ему могучее средство применить эти сердце и ум в дело на почве военной науки. Один иностранный писатель говорит: «Суворов завоевал сперва область наук и опыта веков, а затем – победу и славу».
§ II. Боевая деятельность Суворова
К началу Семилетней войны Суворов – уже штаб-офицер, получивший за 4 года два чина.
В 1758 г. ему было поручено набрать в Лифляндии и Курляндии 17 батальонов и отвести их в Пруссию. Затем он – комендант Мемеля, а в 1759 г., подполковником, попал к Фермору «дивизионным дежурным» – что-то вроде начальника штаба корпуса. С этого первого шага своей боевой службы в качестве офицера Генерального штаба Суворов уже мог широко знакомиться с войной.
В августе 1759 г. – первое боевое крещение Суворова под Кунерсдорфом. Здесь бог войны принял сразу молодого русского витязя под свое особое покровительство, и яркое сияние победы осенило Суворова, а его «глазомер» сразу же обрисовался словами: «На месте главнокомандующего я бы пошел теперь на Берлин». В 1760 г. – новый успех при участии Суворова – известный набег Чернышева на Берлин. Многие начальники уже знали Суворова как дельного и знающего штаб-офицера, в том числе Берг, просивший Фермора «уступить» ему Суворова. У Берга Суворов и получил первое свое боевое крещение как более самостоятельный начальник.
Много раз явил он себя здесь лихим штаб-офицером, особенно у Старгардта, где с горстью конницы напал на целый полк, а будучи окружен, быстро пробился и сохранил взятых пленных.
Взятие крепости Кольберг в ходе Семилетней войны. Полотно А. Е. Коцебу, 1852 год
Вообще, все дела Суворова в эту войну были сплошным подвигом личной храбрости, находчивости и хладнокровия. Он был оценен как отличный офицер Генерального штаба и пехотный, но особенно как выдающийся офицер конницы[3].
Два раза он был ранен, и довольно сильно.
После войны Суворов, посланный в Петербург с депешами, явился императрице и ее приказом 26 августа 1762 г. был произведен в полковники с назначением командиром Астраханского пехотного полка, а вскоре – Суздальского.
Семилетняя война произвела на Суворова сильное впечатление.
Войска наши отличились необыкновенной храбростью и стойкостью, но все остальное было в печальном виде, особенно хозяйство. Суворов, получив полк, начинает его учить и воспитывать на свой суворовский образец: явилось знаменитое «Суздальское учреждение». В нем ясно видно, что, когда даже выдающиеся люди Европы были увлечены слепым подражанием пруссакам, Суворов оставался самобытным, и ничто не могло изменить его личного взгляда на военное дело.
Главная задача Суворова была обучить полк только тому, что необходимо на войне, и так, чтобы он никогда и ничем не был озадачен. Строевые учения велись живо, наглядно. Главное внимание обращалось на тишину в строю, порядок огня и быстроту перестроений. Каждое учение кончалось штыковым ударом. Часто, подняв полк по тревоге, Суворов водил его несколько суток, днем и ночью, вброд и вплавь через реки, без дорог, через густые леса, холмы и овраги.
После учений Суворов делал разбор, высказывая свое требование всегда идти навстречу опасности, всегда наступать, никогда не отступать и не обороняться. Вместе с тем, воспитывая солдата, Александр Васильевич развивал в нем веру в Бога, столь присущую русскому человеку, а укореняя попутно понятие, что невозможного на войне ничего нет, дисциплину он основывал не на страхе наказания, а на сознании людей в ее необходимости. Он почти не прибегал к жестоким наказаниям того времени и никогда не издевался над человеческим достоинством.
В 1765 г. в Красном Селе в присутствии императрицы Суздальский полк резко выделился из 19 других во всем.
В 1768 г. волнения в Польше вызвали Суворова, уже в чине бригадира, туда с суздальцами (входившими в его бригаду).
Суворов выступил к Смоленску из Ладоги в ноябре, в самое тяжелое время. Не оставив дома больных и несмотря на бездорожье, множество болот, сильную непогоду и короткие ноябрьские дни, суздальцы прошли за 30 дней более 850 верст, и за весь поход заболело только 6 чел. и 1 пропал.
В Смоленске Суворов был задержан, так как зимой действия в Польше утихли. Но весной 1766 г., обучив бригаду предстоящим действиям по своим правилам, Суворов вновь двинулся в Польшу. От Минска до Варшавы (Праги[4]) 600 верст он прошел за 12 дней, частью пользуясь подводами.
Немедленно же из-под Варшавы был сделан набег к Бресту и далее, ночью и днем, на 70 верст, против банды Пулавских, к Орехову (400 чел. против 2 тыс.). Один из Пулавских был убит, банда рассеяна.
После этой победы Суворову был вручен Люблинский район, и у него собралось до 4 тыс. чел. Несмотря на трудную местность, Александр Васильевич скоро прибрал край к рукам. Но он все же тяготился своим положением: не мелких действий жаждал он, а крупных, решительных ударов по конфедератам. Кроме того, шли несогласия с главноначальником войск в Польше Веймарном[5] – генералом опытным, но болезненно самолюбивым и немцем в душе.
Но вот в 1771 г. Турция, по наущению Франции, объявила нам войну, а прибывший французский генерал Дюмурье с небольшим числом войск открыл удачно поход, отбросив наши передовые части за Вислу. Суворов воспрянул духом.
С 1,6 тыс. чел. и при 8 орудиях двинулся он из Люблина, на пути разбил несколько партий и в 28 верстах от Кракова, у д. Ландскрона, усилясь до 3,5 тыс. чел., неожиданно напал на конфедератов (4 тыс. чел. на необычайно выгодной местности).
Сражение было выиграно за 1,5 часа благодаря умению Суворова оценивать противника. Конница дерзко сбила врага, главные силы довершили победу.
Ландскронское поражение произвело потрясающее впечатление. Дюмурье уехал во Францию. Но остался еще Пулавский, глава дела, самый смелый и способный конфедерат. Суворов пошел немедля за ним, настиг у Замостья, разбил и горячо преследовал.
Поляки сделали еще усилие. Великий гетман Литовский граф Огинский[6], уклонявшийся до того от конфедерации, открыл в Литве военные действия.
Веймарн приказал Суворову не отлучаться из Люблина до распоряжения, лишь наблюдая за Огинским. Однако Суворов видел, что необходимо скорее покончить с ним. 1 сентября он двинулся, кратко донеся Веймарну: «Пушка выстрелила, и Суворов пошел в поход». 12-го Суворов у Несвижа узнал, что Огинский с 4–5 тыс. чел. у м. Столовичи. У Суворова было всего 822 чел. Он решил взять внезапностью, ночью.
Бой был очень упорным. Лишь к 11 часам утра удалось сломить поляков. Несмотря на помощь Беляка с двумя полками улан, они бежали.
Столовичский поход – за 4 дня более 200 верст и победа – сделал Суворова весьма известным. Фридрих Великий, обратив на него внимание, советовал полякам его остерегаться. Однако Веймарн послал в Военную коллегию донос на самовольство Суворова. Но его не предали суду, как хотел Веймарн, а наградили орденом Святого Александра Невского.
В начале 1772 г. Веймарна сменил Бибиков[7], человек разумный и справедливый. Решено было истребить конфедератов, для чего отобрать у них все их укрепления, где, однако, было немалое число и французов, к коим Франция прислала генерала де Виомениля[8]. Последний, по оплошности русских в Кракове, овладел замком, его оплотом.
Суворов немедленно двинулся к Кракову, осадил замок и, обрушив артиллерией часть его и произведя в городе пожары, предложил во избежание истребления сдаться. Требование немедля было исполнено.
Из Кракова Суворов делал налеты на соседние укрепления, пока не произошел раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией.
Краков капитулирует перед Суворовым
Описанные действия Суворова обращают на себя внимание невероятной быстротой движений и стремительностью нападений. 40–60 верст – обычный переход Суворова, а частью он делает в сутки даже до 85 верст. В итоге внезапность появления и стремительные удары давали даже с ничтожными силами победы над многочисленным, но уже озадаченным врагом. «Удивить – победить», – говорил Суворов. «Быстрота и внезапность заменяют число» – было его же правилом.
Далее все свои бои Суворов начинает головными частями, не ожидая подхода хвоста. «Голова хвоста не ждет» и «Атакуй с чем Бог послал», – говорил он, держась правила, что лучше бить врага хотя бы и малыми силами, но неожиданно, чем идти на него со всеми силами, но дать возможность обнаружить себя. Такие действия не всеми были поняты, и уже здесь успехи Суворова приписывали дерзости и счастью. Так, Дюмурье, осуждая Суворова за Ландскрону, говорил, что русские могли быть жестоко биты по частям. Поляки также порицали Суворова: он не имеет понятия о военном деле, ему драться только с медведями. «Бывало, займешь позицию, ждешь русских с фронта, а он бросается либо с тылу, либо во фланг. Мы разбегались более от страха и внезапности, нежели от поражения».
Еще во время борьбы с конфедератами разгорелась война с Турцией. Она шла 5 лет, с 1769 по 1774 г. Первый год велся нами бесцветно, робко, но в 1770 г. Румянцев победами у Ларги и Кагула почти сокрушил сухопутные силы Турции, а в Чесменском бою мы разбили ее флот. Затем 1772 и часть 1773 г. прошли в бесплодных переговорах, и пришлось снова взяться за оружие, вызвав из Польши и Суворова, с назначением начальником войск у Негоештского монастыря (против крепости Туртукай), для связи дивизии Салтыкова (начальника Суворова) с Потемкиным.
Дабы перейти Дунай нежданно, Румянцев решил мелкими нападениями приучить турок к тревоге. Первое нападение указано было сделать Суворову на Туртукай. У Суворова было всего 500 чел. пехоты; в Туртукае – 4 тыс. чел. Он просил усиления, но ему отказали.
Разведав противника, Суворов отдал приказ, где говорил: «Турецкие набеги отбивать наступательно. Подробности зависят от обстоятельств, разума и искусства, храбрости и твердости командующих».
В полночь 9 мая суворовцы сели в лодки, а в 4 часа ночи все было кончено: турки бежали, потеряв 6 знамен, 16 орудий, 30 судов, 21 лодку и более 1 тыс. чел. убитыми и ранеными. Мы потеряли 68 чел.[9] Суворов дважды был в опасности: разорвало турецкую пушку и его ранило в ногу; позже на него наскочил янычар.
Поиск на Туртукай замечателен еще и тем, что Суворов внес новые начала в действия войск. Несмотря на малое их число, он имеет две колонны и поддержку, и колонны прикрывает стрелками. Такое построение было тогда совершенно новым, и его применили шире лишь через 50 лет после Суворова.
4 июня Суворов, больной лихорадкой, получил приказ Румянцева о втором поиске на Туртукай, где турки, 4 тыс., снова сильно укрепились. Как Суворов ни был слаб, он все же решил снова овладеть Туртукаем и в ночь с 16 на 17 июня произвел нападение. Всего у него было до 3 тыс. чел., в том числе 680 чел. едва обученных.
Приказ для боя был очень прост, в нем сказано: «Командиры частей колонны ни о чем не докладывают, а действуют сами собой с поспешностью и благоразумием». К рассвету турки были обращены в бегство и преследуемы 5 верст, оставив 14 орудий, 35 судов, продовольствие, 600–800 чел. убитых. Мы потеряли 102 чел.
В самом бою Суворов явил образец силы воли: истощенный лихорадкой, он передвигался с помощью двух человек, а для повторения приказаний при нем находился особый офицер. Однако под конец боя Суворов все же сел на коня.
Для изучения тактики оба поиска на Туртукай представляют собой образцы наступательной переправы.
7 июня было произведено новое расписание полков, и Суворов назначен в Гирсово, единственное место, которым мы овладели на правом берегу реки и через которое Румянцев предполагал перейти Дунай. Потому удержание его в наших руках было весьма важно.
В ночь на 3 сентября Суворов одержал здесь блестящую победу, заманив 12 тыс. турок на наши окопы с 3 тыс. чел., а затем нанеся встречный удар и преследуя 30 верст конницей. Потери турок составили свыше 1,1 тыс. чел., наших – 300. Это был образец выжидательного с решительной целью боя.
Зимой 1773 г. Суворов взял отпуск в Москву, где нежданно женился[10], но к началу 1774 г. вновь прибыл к войскам.
Румянцев полагал открыть действия в начале мая. Главные силы собирались у Браилова, западное крыло Репнина – у Слободзеи, восточное Каменского – у Измаила, Суворов – поддержкой у Гирсова. Салтыков оборонял В. Дунай и Журжево. Суворов был подчинен Каменскому[11]; для совместных с ним действий они условились наступать к Базарджику и далее к Шумле.
Это привело к упорному встречному бою у Козлуджи, в котором Суворов, не дожидаясь Каменского, с 8 тыс. чел. обрушился на 40 тыс. турок. Под быстрым натиском Суворова турки начали терять голову. Они рубили для бегства постромки артиллерийских лошадей, убивали своих всадников. Когда же к Суворову подоспели 10 орудий, все 40 тыс. обратились в ужасе в бегство. Суворову досталась богатая добыча – 29 орудий и 207 знамен. Потери турок показываются различно; наименьшие данные – 500 чел. убитыми и 100 пленными, наши – 200 чел.
Несмотря на утомление, Суворов преследовал врага до ночи.
Сражение у Козлуджи было случайным для обеих сторон[12]. В подобных боях и берет верх тот, кто раньше быстрыми, смелыми действиями убедит противника в своем превосходстве.
После победы Суворов подвергся упрекам Румянцева за действия вопреки приказанию, отдельно от Каменского и за уклонение от подчинения ему.
Но вот в чем дело – Суворов и Каменский были упрямы, самолюбивы, не любили друг друга. Совместные действия могли кончиться крупной ссорой в ущерб делу; Суворов и старался этого избежать[13]. Наконец, Суворов чувствовал себя достаточно сильным без Каменского. В общем, самостоятельность Суворова увенчалась успехом, и сам Каменский донес, что признает Суворова единственным виновником победы.
Победой при Козлудже турки так были потрясены, что вскоре Порта подписала Кючук-Кайнарджийский мир на условиях, предложенных русским правительством.
В 1-ю турецкую войну все главные победы были одержаны Суворовым. Обычно принято думать, что турки были противником слабым; что бить их было легко; что их нестройные, хотя и многочисленные толпы готовы были бежать при первой к тому возможности и что «европейское качество всегда побьет азиатское количество», как говорит историк Соловьев.
Однако те же беспорядочные толпы турок били хорошо обученные австрийские войска и вынуждали Австрию подписывать постыдный мир вроде Белградского. Следовательно, наши победы над турками, помимо выучки, качеств войск, одерживались еще и превосходством духа. Попутно Суворов не оставил без внимания и тактических приемов.
Румянцев первым упразднил рогатки и строил войска в несколько каре. Суворов пошел дальше – у него в каре строились даже роты. Это давало большую подвижность, а одно или несколько разбитых каре не мешали остальным, тем более что Суворов строил их в два ряда. Кроме того, суворовские каре всегда могли поддержать друг друга перекрестным огнем. Это его знаменитые «подвижные кареи, не закрывая крестных огней».
В общем, Суворов вложил в свои построения прерывчатость по фронту и в глубину, основав ее на самодеятельности, выучке и вере: вождя в войска, а войск – в вождей, – как это было в Риме, в войсках революции и должно быть еще больше теперь, при здравом понимании глубокой тактики…
После войны общественное мнение указало на Суворова как на надежнейшего усмирителя все еще бушевавшего Пугачевского бунта. За 9 дней прошел Суворов 600 верст, но ему не удалось лично встретиться с Пугачевым, который был разбит и взят в плен Михельсоном[14]. Суворову осталось распорядиться об отправке Пугачева в Москву.
После казни Пугачева Александру Васильевичу было поручено умиротворить край. Менее чем за год Суворов выполнил задачу не силой оружия, к которому старался не прибегать, а умением, человечностью и целесообразными мерами.
По умиротворении восточных окраин – Суворов в Крыму. Однако здесь он пока недолго: попав под начальство Прозоровского, человека посредственного, Суворов отпросился в отпуск в Полтаву и в Крым больше не явился, несмотря на предписание Румянцева.
Чтобы удовлетворить жажду деятельности Суворова, с помощью Потемкина он был назначен на Кубань. За три месяца он сделал больше, чем его предместник за несколько лет. Румянцев, оценив это, назначил Суворова в Крым на место Прозоровского. Здесь Суворов проявил и дипломатический дар, убедив крымцев в необходимости принять наше подданство. Обращением с населением Суворов и его войска приобрели добрую славу. Морское побережье было искусно охранено.
Присоединения Крыма Суворов, однако, не достиг; из-за недоразумений с Румянцевым он просил другого назначения; снова при содействии Потемкина он получил Малороссийскую дивизию и уехал в Полтаву, к жене с дочкой. Однако и здесь он пробыл недолго.
В Петербурге явилась несбыточная тогда мысль: завязать торговлю с Индией через Персию и Каспийское море, для чего тоже понадобился Суворов. Целых два года жил он в Астрахани без дела. «Боже мой, долго ли еще мне в таком тиранстве томиться», – пишет он. Наконец Потемкин вызвал его снова в Крым, где происки турок произвели волнения. Пользуясь этим, мы заняли войсками не только Крым, но и Тамань и Прикубанский край. Надо было привести к присяге новых русских подданных. Хорошо зная дикарей, Суворов прибег к любезности и угощениям, и ногайцы присягнули. Но вскоре, в отсутствие Суворова, изменили и, хотя и были разбиты, ушли за Кубань, не признавая нашей власти. Суворов с 16 ротами, 16 эскадронами, 16 казачьими полками и 6 орудиями выступил за Кубань и настиг ногайцев прежде ухода их в недоступные горы.
Прибегнув к ночным движениям, ложным слухам и усиленным переходам, Суворов ночью 30 сентября перешел Кубань вброд по шею при ширине в 1,5 версты, а утром близ урочища Керменчик нежданно напал на ногайцев и после 8 часов жестокого боя разбил их, вынудив к полной покорности. Крымские татары, боясь подобной участи, начали переселение в Турцию, а Турция в феврале 1774 г. признала подданство России Крыма и Кубанского края.
После Крыма и Кубани Суворов получил на 2 года Владимирскую дивизию. Это время он считал «бездействием», и тут-то разошелся он с женой, отдав дочь в институт, а малютку-сына оставив при матери.
В конце 1786 г. Суворов по старшинству произведен в генерал-аншефы (полный генерал) и по желанию Потемкина поставлен во главе войск в Кременчуге, ибо Потемкину во время волшебного путешествия Екатерины в Крым нужно было представить и войска в должном виде.
А. В. Суворов на портрете кисти Д. Г. Левицкого, 1786 год
30 апреля был смотр войскам Суворова, который произвел свои обычные учения. Все были поражены щегольским снаряжением солдат, их видом и особенно точностью и живостью движений и действий. Спутник Екатерины, император Иосиф II[15], говорил, что не видел лучших войск.
После этого смотра имя Суворова стало достоянием всей Европы и к его боевым подвигам прибавилась слава выдающегося военного учителя. В общем, созрело всеобъемлющее дарование, способное и бить врага в открытом поле, и мирным путем присоединять целые области, и обучать войска истреблению врага, и покорять без выстрела сердца целых народностей…
Присоединение Крыма к России нанесло удар Турции как главе магометанского мира, а в европейских враждебных нам государствах поселило зависть. По наущению Англии и Пруссии Турция потребовала в 1787 г. возвращения Крыма и уничтожения Кучук-Кайнарджийского договора, а получив отказ, 13 сентября объявила войну.
Нам эта война была нежелательна. Дела в Польше ухудшались, назревал разрыв со Швецией и Пруссия была враждебна. Но вызова турок нельзя было не принять, и война началась при полной почти нашей неготовности.
Целью турок было овладеть Крымом и крепостью Кинбурн, которая затрудняла вход в Днепр и прямое сообщение Очакова с Крымом.
У нас были две армии: Екатеринославская, Потемкина, 70 тыс. чел., предназначенная для обороны Крыма и вторжения в Турцию с берегов Черного моря; и Украинская, Румянцева, 30 тыс. чел., для связи с австрийцами (обязавшимися прибыть на помощь) и с Потемкиным, для охраны пространства от Киева до Хотина и прикрытия тыла Потемкина от Польши.
В ожидании общего сбора приказано было Суворову с 30 тыс. чел. оборонять Херсон и Кинбурн и поддерживать наши войска в Крыму. У Суворова, с растяжением от Херсона до Кинбурна, в Кинбурне и окрестностях было лишь до 3 тыс. чел., но здесь был сам Суворов, оценивший значение Кинбурна, который, хотя был малопригодным для обороны, но все же запирал выход из лимана вдоль Кинбурнской косы, где турки могли высадиться лишь с востока и запада.
Турки, уверенные в неготовности нашей, решили нежданно овладеть Кинбурном[16]. Весь день 30 сентября и с рассветом 1 октября они обстреливали с судов крепость, но Суворов приказал не отвечать. В 9 часов утра к западной оконечности косы подошел большой флот и начал высаживать 6 тыс. отборных янычар. На восток от Кинбурна высадились для отвода запорожцы, но были прогнаны.
Под руководством иностранных офицеров турки быстро принялись рыть окопы поперек косы и ставить рогатки, а суда были отведены далеко в море, чтобы янычары не думали об отступлении. Суворов, молясь в церкви, приказал не мешать высадке: «Пусть все вылезут». Было лишь указано спешить к крепости войскам из окрестностей. Когда, при полном нашем безмолвии, турки вырыли 15 рядов окопов и были от крепости всего в 1 версте, Суворов спокойно построил 6 батальонов и 5 рот пехоты в шахматном порядке в две линии, а конницу – южнее, вдоль берега моря (уступ).
В крепости и в обозе за крепостью оставлено по 2 роты.
В 3 часа дня передовые турки подошли на 200 шагов к гласису[17]. Суворов дал залп из всех возможных орудий, а 1-я линия с 2 казачьими полками и 2 эскадронами драгун мгновенно уничтожила турецкий авангард.
Затем, несмотря на огонь 600 орудий с моря, 1-я линия генерала Река[18] отняла 10 рядов окопов, но здесь остановилась: коса очень сузилась, упорство турок, очнувшихся от первого удара, возросло. Суворов ввел 2-ю линию и 2 эскадрона. Но янычары, опрокинув наших, взяли обратно все окопы.
Суворов был в передних рядах, пеший (лошадь была ранена). Несколько турок бросились на него, но рядовой Шлиссельбургского полка Новиков одного застрелил, другого заколол, остальные бежали. Отступавшие гренадеры заметили Суворова; кто-то закричал: «Братцы, генерал остался впереди!», и все как один человек бросились снова на турок. Опять окопы один за другим начали переходить в наши руки. Но и этот успех был непродолжителен: огонь с суши и с судов нас отбросил.
К довершению Суворов был ранен картечью ниже сердца и потерял сознание. Казалось, все было потеряно. Но огонь турецкого флота был ослаблен дерзостью лейтенанта Ломбарда: турки приняли его галеру за брандер и быстро начали уходить, а Суворов скоро пришел в себя. «Я в третий раз обновил сражение, – писал он, – победа совершенная…»
Немедля были двинуты 4 роты из обоза и крепости и тут же прискакала за 36 верст легкоконная бригада, вызванная утром. Свежие войска пошли бурным порывом. Конница рубила в лоб, пехота штыками шла с севера, казаки с юга. Артиллерия картечью била почти в упор.
Спасение генерал-аншефа А. В. Суворова гренадером Степаном Новиковым в сражении при Кинбурне 1 октября 1787 года
В конце боя Суворов вновь ранен в руку пулей навылет, но он не покидал строя, хотя от потери крови и падал часто в обморок.
Из 6 тыс. высадившихся турок осталось живых 700 чел. Мы потеряли до 1 тыс. чел. убитыми и ранеными.
Победа под Кинбурном – следствие руководства боем Суворовым. Необыкновенная настойчивость Суворова, доблесть войск, общий подъем духа дали действительно то, что «наша Кинбурнска коса вскрыла первы чудеса», – особенно когда, по словам самого Суворова, турки были «молодцы – с такими я еще не дрался».
Начало войны Кинбурнской победой удручило турок, а Суворов получил орден Святого Андрея Первозванного. «Чувствительны нам раны ваши», – писала Екатерина. Потемкин не находил слов благодарить Суворова. Но плодами победы не воспользовались: войска не были в сборе; приближалась зима. Военные действия прекратились.
Зиму Суворов пробыл в Кинбурне, плохо поправляясь от ран.
К марту 1788 г. наши армии были почти готовы. Австрия, объявив войну, выставила помощь, но действия все не начинались. Только в июле Потемкин наконец медленно приступил к осаде Очакова. Осада, как всегда, затянулась, появились болезни. Суворов мучился, язвил Потемкина. «Не такими способами бивали мы поляков и турок, – говорил он, – одним глядением крепости не возьмешь. Послушались бы меня – давно Очаков был бы в наших руках».
Преследование вылазки турок без разрешения Потемкина осложнило дело. Потемкин послал офицера за объяснениями к Суворову, у которого в это время вынимали пулю из шеи. Суворов ответил:
- «Я на камушке сижу,
- На Очаков я гляжу».
После этого Суворову пришлось уехать в Кинбурн, где он слег. Лечение шло неудачно: произошел взрыв лаборатории, и Суворов был снова ранен в лицо, грудь, руку и ногу. Пришлось лечиться в Херсоне, а потом до следующего года – в Кременчуге.
Наконец после долгой томительной осады Очаков все же был взят 6 декабря приступом, а следующий год пришлось начать при менее благоприятных условиях. Швеция объявила войну. Польша тоже грозила разрывом. Но война в Турции 1789 г. началась удачно – Дерфельден[19] дважды разбил турок, и еще лучше пошли дела, когда в конце апреля он сдал дивизию Суворову, который получил ее, однако, лишь после личного обращения к Екатерине. Став у Бырлада, Суворов явился ближайшим соседом только что прибывших 18 тыс. австрийцев, принца Кобургского[20], у Аджуда.
Так как мы бездействовали, турки решили быстро двинуть на австрийцев к Фокшанам 30 тыс. Османа-паши. Принц просил Суворова о помощи. Суворов, оставив в Бырладе часть сил, выступил с 7 тыс. чел., известив принца запиской: «Иду, Суворов».
Пройдя за 28 часов 50 верст по дурной дороге, Суворов прибыл к австрийцам к 10 часам вечера 17 июня так неожиданно, что Кобург поверил, только когда сам увидел русских.
Весь день 18 июня пошел на наводку мостов через р. Тротуш, и наши хорошо отдохнули. Утром принц послал привет Суворову, прося свидания. Суворов ответил уклончиво. Второму посланному ответили, что Суворов Богу молится, третьему – Суворов спит. Позже Александр Васильевич говорил: «Мы все время провели бы в прениях дипломатических, тактических, энигматических; меня бы загоняли, а неприятель решил бы наш спор, разбив тактиков».
Штурм Очакова
В 11 часов Суворов послал Кобургу записку: «Войска выступают в 2 часа ночи тремя колоннами, среднюю составляют русские. Неприятеля атаковать всеми силами, не занимаясь мелкими поисками вправо и влево, чтобы на заре прибыть к р. Путне, которую перейти, продолжая атаку. Говорят, что перед нами турок тысяч 50, а другие 50 дальше. Жаль, что они не все вместе, лучше было бы покончить с ними разом».
Кобург согласился не без колебания. Но, во-первых, уже было некогда, а во-вторых, принц невольно подчинился Суворову, хотя и был старше.
Союзники выступили 19-го ночью. За р. Тротуш перестроились в две колонны: западная – австрийцы, восточная – наши. Впереди наших, чтобы скрыть прибытие их, шла австрийская конница Карачая, и остановки наши делали укрыто.
Утром 20-го продолжали идти к р. Путне, где были передовые войска турок. Главные силы их были в укрепленном лагере, у Фокшан. В 4 часа дня турки были сбиты за Путню, и союзники под проливным дождем навели мост. На рассвете 21-го Суворов подошел к Фокшанам.
Австрийцы построились в две линии, конница сзади, Суворов – в пять линий, конница впереди.
Турецкая конница окружила союзников, особенно Суворова. Однако испытанная в боях с турками пехота наша была несокрушима: движение продолжалось. На пути лежал густой лес, занятый турками. Суворов решил его обойти: австрийцам с запада, русским с востока. Турки толпами отступили в главный лагерь. Обойдя лес, Суворов пошел еще к востоку, болотистым камышом, чтобы выйти в бок турецкому лагерю; австрийцы продолжали движение в лоб.
С орудийного выстрела турки открыли сильную пальбу, но союзники, примкнув теперь друг к другу, ускоренно шли на врага. В 1 тыс. шагов от турок артиллерия их открыла огонь, а когда конница опрокинула турецкую конницу и часть пехоты, первая линия союзников под начальством Дерфельдена без выстрела, с музыкой и барабанным боем, бросилась в штыки.
Разбитые наголову войска Османа бежали на Рымник и Бузео. Легкие войска союзников преследовали до ночи. Через несколько недель Осман собрал едва несколько сотен человек.
После победы, которая обошлась всего в 400 чел. убитых и раненых, Суворов и Кобургский впервые увиделись; они обнялись, поцеловались. Принц, совершенно очарованный умом и обращением Суворова, сделался на всю жизнь его другом.
Фокшанский разгром был неожиданен и для нас, и для турок. Мы наступать еще не думали, но вдруг слабые силы Суворова присоединяются к австрийцам, увлекают их и могучим ударом наносят врагу поражение. Турки, шедшие раздавить одиноких австрийцев, вдруг сами терпят поражение. Без сомнения, было чему подивиться. Екатерина заплакала от радости и при милостивом рескрипте пожаловала Суворову брильянтовый крест и звезду к ордену Святого Андрея Первозванного. Австрийский император прислал при рескрипте дорогую табакерку с брильянтовым шифром. Общественное мнение России выражало громко восторг. Суворов был везде героем. Турки начали суеверно бояться Суворова, маленький «Топал-паша» сделался пугалом: в его руках стали побеждать и австрийцы!
Победа вновь была одержана искусством и силой духа. Непреклонная воля Суворова увлекла на победный путь и новых союзников. Полная его уверенность в победе заставила и их смотреть на дело уверенно и спокойно.
Искусство проявилось во встречном ударе, который разрушил наступательный замысел турок.
Оно же видно в напряженности действий, в глубоком построении с умелым сочетанием родов войск, в громовом ударе на поле сражения, в преследовании. Но главное было то, что «Фокшаны зажмут рот тем, кои рассказывали, что мы с австрийцами в несогласии», – как сказала Екатерина.
Однако и плодами Фокшанской победы мы не воспользовались: мы снова не были готовы к общему наступлению. Суворов ушел обратно в Бырлад, Кобург остался в Фокшанах. Великий визирь вновь решил наступать. Искусно обманув Потемкина, он лично с 90–100 тыс. чел. устремился на Рымник, чтобы разбить Кобурга.
Суворов, зорко следя, разгадал намерение турок и перешел из Бырлада в Пуцени, чтобы легче было помочь австрийцам. 6 сентября ночью он получил известие о движении против Кобурга великого визиря и просьбу о помощи. Суворов, не убежденный еще пока, остался наблюдать Галац, но усилил разведку. 7-го явился второй гонец: громадные силы турок всего в 16 верстах от принца. Теперь Суворов уже повел свои 7 тыс. чел. и, сделав за двое суток более 75 верст по отвратительным дорогам при ливне и наводке ряда мостов, 10 сентября соединился с австрийцами[21]. Турки меж тем, остановясь в укрепленном лагере на р. Рымник, ограничились стычками.
Решение Суворова было немедленно напасть самому. Принц не соглашался, говорил, что несоразмерность сил слишком велика, русские войска очень изнурены, позиция турок очень сильна и т. п. Суворов раздраженно отвечал: «Численное превосходство неприятеля, его укрепленная позиция, потому-то именно мы и должны атаковать его, чтобы не дать ему времени укрепиться еще сильнее. Впрочем, делайте что хотите, а я один с моими русскими войсками намерен атаковать турок и тоже один надеюсь разбить их».
Принцу оставалось исполнить волю Суворова. Суворов сделал разведку с высокого дерева. У д. Тыргу-Кукули стояло до 15 тыс. чел. Западная опушка леса Крынгу-Мейлор была занята 40 тыс. чел., в длинном ретраншаменте с засеками, обеспеченными топкими болотами. Остальные 35–45 тыс. турок находились в укрепленном лагере у Мартинешти на р. Рымник.
Вернувшись, Суворов предписал союзникам начать движение ночью; австрийским войскам – на лес Крынгу-Мейлор, против крыла и середины неприятеля; на себя Суворов брал самую трудную задачу: двинуться боком, на д. Тыргу-Кукули, зайти правым плечом на д. Богчу и одновременно с австрийцами ударить на главные силы турок. Связь между русскими и австрийцами обеспечивала конница Карачая. Построение наше – как и под Фокшанами, причем оно указано и австрийцам.
Преодолев (2 батальона фанагорийских гренадер) крутой овраг и отбив яростные удары конницы турок, наши овладели передовым лагерем.
Принц Кобургский двигался на лес Крынгу-Мейлор. Великий визирь приказал всей коннице, свыше 20 тыс. коней, ударить в большой промежуток между союзниками.
Три раза бросались турки, но безуспешно. Наконец они дали тыл и, преследуемые союзной конницей, понеслись на д. Богчу. Заняв д. Тыргу-Кукули, Суворов быстро зашел на восток., на д. Богчу. В 3–4 верстах от леса, пользуясь близостью колодцев, он дал истомленным войскам напиться. Через полчаса, тщательно осмотревшись, вновь пошел на д. Богчу. В это время прибыл великий визирь со свежей конницей.
Земля задрожала от топота 40 тыс. коней, и турецкая конница окружила со всех сторон. Но соперничая с русскими в храбрости, австрийцы мужественно встретили противника, а конница Карачая рубила турок с боков и тыла.
Между тем Суворов овладел д. Богча. Увидев у себя в тылу русских, турки отхлынули частью к лесу, частью к Мартинешти.
Австрийцы скоро примкнули к нашему северному крылу. Теперь предстояло овладеть лесом Крынгу-Мейлор с 40 тыс. бывших еще в бою янычар. Мгновенным наитием свыше, дабы поразить турок неожиданностью и меньше терпеть от огня, Суворов пустил вперед всю конницу и за ней бегом пехоту. В 300 саженях от турок союзная конница через пехоту бешено понеслась на укрепления. Стародубский карабинерный полк с полковником Миклашевским первым перескочил окопы, за ним влетели австрийские гусары. Казаки и арнауты ворвались с тыла. Не успели янычары прийти в себя, как союзная пехота с криками «ура!» и «да здравствует Франц!» хлынула вслед за конницей. Началась страшная резня. Турки бросились к Мартинешти. Великий визирь пытался остановить их, читал Коран, умолял, грозил, стрелял из орудий – ничто не помогло. Только наступившая ночь спасла остатки беглецов.
Гравюра с портретом А. В. Суворова, выполненная в 1870 году, на которой в центре символически изображена победа при Рымнике
Победа была полная. 15–20 тыс. чел. лежали на поле битвы, остальные рассеялись. Великий визирь собрал впоследствии только 15 тыс. чел. Потери победителей не превосходили 600–800 чел.[22] Добыча огромная.
Суворов получил достоинство графа Рымникского, Георгия I степени, брильянтовый эполет, богатую шпагу и ценный перстень; австрийский император возвел его в звание графа Священной Римской империи.
Силой воли Суворов увлек колеблющегося союзника. Так же, как под Фокшанами, решил он действовать самым страшным оружием: неожиданностью. Быстрое соединение его с австрийцами было столь невероятно, что визирь приказал отрубить голову лазутчику, донесшему, что Суворов 7 сентября в Пуцени.
Турки были разбросаны в трех местах, и визирь, ожидавший подкреплений против австрийцев, был разбит по частям.
Боковое движение с 7 тыс., имея впереди 15 тыс. противника, а сбоку 40 тыс., выполнено с поразительным искусством. Распоряжение об ударе конницей на укрепления Крынгу-Мейлорского леса относится к числу блистательнейших вдохновений гения.
Сила духа Суворова, его уверенность в победе передались и в войска, которые проявили необыкновенный подъем, особенно русские. Один из австрийских офицеров писал: «Как ни хороши наши люди, но русские еще превосходят их в некоторых отношениях; почти невероятно то, что о них рассказывают. Нет меры их повиновению, верности, решимости и храбрости. Они стоят, как стена, и все должно пасть перед ними». Рымникская победа была столь потрясающа, что, перейди и мы в общее наступление, война кончилась бы в том же году. Суворов и дал смелый совет похода за Дунай, но Потемкин продолжал бездействовать, и зима опять прервала поход до будущего года.
Все же Потемкин решил до зимы овладеть крепостями по Нижнему Дунаю. Корпус Меллер-Закомельского[23] (10 тыс.) был собран на Нижнем Дунае; корпус Суворова (12 тыс.) – у Галаца. Кроме того, в устье Дуная прибыли содействовать сухопутным войскам гребные суда Дерибаса[24]. В середине октября Меллер-Закомельский овладел Килией, а в половине ноября Дерибас овладел Тульчей и Исакчей.
Вторично (в первый раз в 1787 г.) войска наши подошли к Измаилу и под начальством трех равновластных начальников – Меллера-Закомельского, Потемкина (племянника князя) и Дерибаса – приступили к осаде.
Измаил к 1790 г. был сильно укреплен иностранными инженерами. Вооружение крепости состояло из 200 крупных орудий. Сам город высился уступами; прочные дворцы, гостиницы, мечети способствовали обороне. Число защитников достигало 35 тыс. чел., из них 8 тыс. конницы, 17 тыс. янычар, несколько тысяч татар.
Защитник Измаила, старый, поседелый в боях Айдозли Мехмет-паша, был человеком решительным, твердым и дельным. Султан обещал, что, если Измаил будет взят, оставшиеся в живых защитники будут казнены. Боевых припасов было в изобилии, продовольствия – на 1,5 месяца.
Таким образом, Измаил был крепостью сильной, хорошо вооруженной и снабженной, с многочисленным храбрым гарнизоном и с опытным решительным вождем.
Скорое овладение Измаилом было весьма трудно. Между тем оно было крайне необходимо политически, дабы заключить мир с Турцией, пока враждебные нам державы не успели помочь ей, для чего и надо было закончить войну сильным ударом. Между тем дела наши шли плохо. В сырое, холодное время в войсках появились болезни, не хватало довольствия. 26 ноября на военном совете решено, ввиду неодолимости Измаила, отойти на зиму подальше. Некоторые части уже приводили в исполнение это решение. Дерибас объявил, что уходит к Суворову, в Галац, как вдруг пришло известие, что начальником войск, собранных под Измаилом, Потемкин назначил Суворова. Известие это, как искра, облетело войска. Все ожили, все знали, чем кончится дело: «Как только прибудет Суворов, крепость возьмут штурмом», – говорили все, особенно Дерибас, иначе и не называвший Суворова, как героем.
Суворов отправил из Галаца под Измаил фанагорийских гренадеров, 200 казаков, 1 тыс. арнаутов и 150 охотников Апшеронского полка, 30 лестниц и 1 тыс. фашин, продовольственные запасы, а сам поскакал вперед.
Рано утром 2 декабря, пройдя более чем 100 верст, к Измаилу подъехали два всадника, забрызганные грязью: это были Суворов и казак, который в маленьком узелке вез все имущество вождя. Раздалась приветственная пальба, общая радость распространилась в войсках: в маленьком, сморщенном старичке явилась сама победа!
Суворов немедленно приступил к делу. Ежедневно выезжал с офицерами на разведку, изучая внимательно каждую складку местности, давал указания, где и как вести войска на приступ. Были заложены батареи с целью убедить турок в желании вести осаду. Дерибас выстроил сильные батареи на острове Сулин и учил войска посадке на суда. В лагере были выстроены валы и рвы наподобие измаильских, и ночью под руководством Суворова войска учились преодолевать их; готовились лестницы, фашины.
7 декабря Суворов послал в Измаил письмо Потемкина сдать крепость и к письму приложил свою записку: «Сераскиру, старшинам и всему обществу: я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля; первые мои выстрелы – уже неволя; штурм – смерть. Что ставлю вам на рассмотрение». Сераскир ответил письмом, прося перемирия на 10 дней, а на словах прибавил: «Скорее Дунай остановится в своем течении и небо обрушится на землю, чем сдастся Измаил».
Суворов понял ответ сераскира и сообщил, что, вопреки обыкновению, дает на размышление еще 24 часа. В назначенный срок ответа не было, и на 11-е число назначено взять Измаил. 24 часа пошли на завершение, наряду с вещественной, небывалой по умению и объему, и нравственной подготовки.
Суворов ходил по бивакам, говорил с солдатами и офицерами, вспоминал прежние победы, указывал на трудности овладения Измаилом. «Видите ли эту крепость, – говорил он, указывая на Измаил, – стены ее высоки, рвы глубоки, а все-таки нам нужно взять ее. Матушка царица приказала, и мы должны ее слушаться». – «С тобой все возьмем!» – восторженно отвечали люди. Гордый ответ сераскира Суворов приказал прочесть в каждой роте, чтобы еще больше поднять жажду победы. Казакам с короткими пиками внушалось, что они – оружие, наиболее в тесноте способное к действиям.
Но надо было повлиять и на генералов. Еще несколько дней назад они считали взятие Измаила невозможным и решили отступать. Суворов созвал военный совет и произнес воодушевляющую речь, указывая, что уже два раза русские безуспешно подступали к Измаилу, третья неудача немыслима, надо или взять крепость, или умереть. «Я решился овладеть крепостью либо погибнуть под ее стенами», – закончил он.
Общее быстрое постановление было – приступ. Участь Измаила была решена.
Для внезапности Суворов избрал удар ночью. Кроме того, ожидая упорного сопротивления турок, он хотел иметь возможно больше светлой части дня (рассвет в Измаиле в 7 часов утра, закат в 4 часа дня). Для одновременности были установлены ракеты. По третьей, в 5 часов ночи, войскам идти. Но во избежание недоразумений приказано всем начальникам сверить свои часы, а чтобы «басурманы» не догадались, что означают ракеты, приказано было пускать их в лагере каждую ночь.
Войскам даны подробные наставления: что делать стрелкам, рабочим; как пользоваться лестницами и фашинами; как вести себя по овладении валом, открывая ворота для поддержек, охраняя пороховые погреба и проч. В общем, все знали свои места и обязанности.
Стать в ружье приказано лишь за четверть часа до начала движения, «дабы медлениями не угашать стремления к приобретению славы». Строго запрещалось грабить город во время боя, трогать мирных жителей и особенно женщин и детей.
