Походниада. Том 1
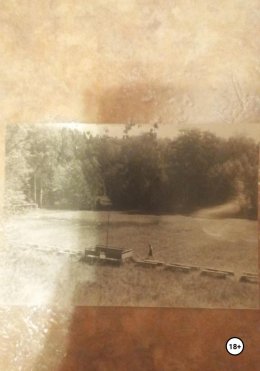
Пролог
Хотелось бы многое помнить. Ну, может быть, не всё, но побольше чего-то хорошего. А то память – такая дрянная штука: мечтается ведь забыть кое-какие неприятности, а они сидят в голове подобно ржавым вековечным гвоздям и не сыскать на них гвоздодёра; и, наоборот, знаешь же, что было много весёлого, доброго, красивого, а нет – тихая вода, штиль. И с этим пока приходится смиряться. Пока. До наступления Христова «воссоздания», о чём ещё пророк Исайя предвещал: «плохое больше не вспомнится и не будет тяготить сердце»; ну а память о хорошем, возможно, обновится.
А так, с чего-то вздумалось мне написать мемуарную книгу о всех-то походах, маленьких и больших, куда я за свою 50-летнюю жизнь наслонялся. Тема приятная. В походах ведь часто иной раз переосмысление жизни случается. Это интересно. А ещё же можно всю жизнь провести в одной и той же железобетонной коробке с кроватью, столом, стулом и санузлом, пять раз в неделю ходя в другую бетонную коробку со столом и стулом, но без кровати, и, коли так, – что памяти-то перепадёт?.. Но и то бы хорошо. А ведь глядишь: некоторые, и даже многие, в телефоне всю жизнь прожить умудряются. То ли дело: отправиться в поход! Разлепить глаза на белый свет, поразмять ручки-ножки, да подумать думу у костерочка. О чём, к примеру, подумать?.. О дружбе, о любви, вообще о людях, о земле, о жизни. Успокоиться. Отанализировать и отсинтезировать то, что в бетонных коробках да в телефоне на́жил. Полезно.
Вот и сел я. На стул. За стол. Открыл в телефоне листок бумаги и написал там голым-пальцем-по-кнопкам список. Выяснилось, за 50 лет я побывал в 41-м походе. Впрочем, думается, 5 или 8 совсем уж мелких просто забылись. Не беда. 41 – и так число немалое.
Родили меня в 1973-м. В России, нет, в СССР. В К…, главном городе области. Тут не очень далеко река Волга течёт. Она здесь и от своих болотных истоков уже утекла далеко, а до Каспийского до морю ещё ей течь и течь. Родили меня в роддоме, в двухэтажной краснокирпичной домушке, а ныне тут, спустя 50 лет, наркодиспансер располагается. Такая вот, почему-то, вышла между этими ЛПУ конкуренция; странно; ведь и то, и то каким-то боком к демографии относится. За откровенного пьянчугу ведь замуж не многие пойдут, стало быть, пьянчугу надо вылечить, чтобы больше детей нарожалось, и демографический график в СССР/России вниз не угнулся. Из роддома меня отвезли в пятиэтажную бетонную коробку. Там, в трёхкомнатной квартире на втором этаже, я прожил четверть века. А мои родители и до сих пор там обретаются в холодный сезон. Пятиэтажка эта у риэлтеров и связанного с ними люда зовётся «хрущёвкой». Хотя в 1973-м СССР-ом руководил уже не первый год Брежнев. В 1980-м меня отдали в среднюю школу № 12, что от моего дома в трёх минутах ходьбы. В 1982-м в наш класс зашёл кто-то из школьной администрации и объявил, что Брежнев умер. Я и мои одноклассники на это мелкомысленно взмолчали. Ассоциативно меня отнесло к сцене, где Брежнев что-то невнятное мурломычал с трибуны в телевизоре, а мама сказала каким-то неопределённым тоном: «Совсем сдал…»
Несмотря на нашу с одноклассниками мелкомысленность, в объявлении том нами чувствовалось что-то важно-тревожно-трагичное. Как будто случился некий конец эпохи, и теперь очень сильно неясно, что будет. А какой-такой эпохи? Советский социализм на излёте? – до перестройки, кстати, всего-то 3 года оставалось. Но это про политику. А если вернуться к походам (о чём, собственно, речь)… От папы, когда-то уже в 2000-х, я услышал, что в те 60–70–80-е была «эпоха романтизма» с символикой наподобие «вершины» Высоцкого, незамысловатой, нестройной гитары Визбора, палаток, костров, с мужественной целеустремлённостью в глазах, чтобы куда-то первопроходить и что-то покорять. Поезда, рюкзаки, «Милая моя», «Еду за туманом» и так далее.
Когда закончилась та «эпоха»? Трудно сказать… В 90-х, на фоне всех тогдашних политических катаклизмов, уже, кажется, всё это начинало становиться атавизмом. Во всяком случае, в эру интернета уже мало кого можно было зазвать в пеший или водный поход с длинным маршрутом и несколькими стоянками. Конечно, в узких кругах всё это сохранялось, но чтобы массово-сознательно, настырно, воодушевлённо, как в те годы…. – нет.
Примерно так у меня и вышло. В конце 80-х активисты (о которых речь ниже, надеюсь) в меня заложили любовь к походам, в 90-х мне посчастливилось побывать в шести-семи длинных туристических вылазках, а дальше это были лишь ленивые пикниково-отдыхательные забавы, хотя в начале 2000-х я ещё брыкался, стараясь привить новым друзьям ту же любовь к странствиям, что была привита мне.
А теперь немножко подробнее и по порядку. Строчки в том моём списке пусть станут наименованиями глав. Нет, не глав, историй…
История 1. Речка-вонючка. Май, 1985
Колонна. Фетис. Рекреация. Лошарик. Кипятков. Куриная слепота. Палатка
Это, собственно, был не поход, а как бы его имитация для школьников. Как-то в мае, под занавес учебного года, учителя решили вывести детей в лес, устроить игры, конкурсы: разбивание палаток, разведение костра, мячики. Все четыре 5-х класса («а», «б», «в» и «г») выстроили в змею-колонну у школы и повели в лес. До леса тут на юг всего два квартала. Потом, за двумя большущими горизонтальными металлическими трубами, ограничивающими всю южную окраину города, – густые сосновые посадки, дальше – прогалина, и после, в юго-восточном направлении, в лес приблизительно на километр врезается канава, в народе именуемая «речкой-вонючкой». Вот, вдоль неё наша колонна и пошла.
Странная эта канава. Вода в ней тёмная, запах от неё, не то чтобы смрадный, но какой-то нездоровый, тяжёлый. Окаймлена она дремучими ивовыми кустами и зловещими травами. А лес по обоим бокам – преимущественно сосновый. Хоть «речка» эта и «вонючка», но народ наш к-ский любит вдоль неё прогуливаться, зимой на лыжах, а летом так, ногами, по коряжистым тропинкам. Канава начинается перед лесом как-то вдруг прямо из-под земли, течение её прямое, и заканчивается она вдруг, слепо, спустя километр.
Я шёл рядом с Лёхой Смуровым по прозвищу «Фетис». В то время, видимо, был популярен хоккеист Фетисов, а Лёха ходил в какую-то непростую секцию футбольно-хоккейную, и прозвищем своим, кажется, даже гордился. Фетис – альбинос. Головёнка у него круглая, глаза красненькие, подвылупленные, волосики мягкие, беленькие, редкие, лежачие. Характер был у него скорее добрый, громкость голоса обычно ниже среднего, и он то и дело этим своим тихим голосом чего-то подшучивал.
– Отгадай, – говорит мне, – Игорь, загадку: приток Дивны из одиннадцати букв.
(Дивна – это наша река городская. Она впадает в постепенно в У…, а У… – в Волгу.)
Я говорю:
– Не знаю.
А Фетис:
– Ка-на-ли-за-ци-я.
И смеётся. И все вокруг смеются. И правда, смешно. Для пятиклассника даже глубоко, с заныриванием.
Когда «вонючка» заканчивается, в лесу вдруг появляются высокие, дощатые серые заборы каких-то то ли дач, то ли огородов. Наша колонна эти заборы миновала. Там, дальше, был не строго геометрический лес и довольно просторная поляна, усеянная едкими жёлто-блестючими лютиками. Здесь нас и расположили, каждый класс – на его отрезке опушки. И на опушке началось завсегдашнее бешенство. И я, как обычно, был в стороне. Рассеянно-трепетно наблюдал. С 1-го по 8-й класс так всегда было: мои одноклассники бесились, а я наблюдал, в страхе как бы не задели. Вероятно, это оттого, что в детский сад ходил я крайне редко, – видимо, был склонен к простудам, и меня предпочитали оставлять с бабушкой; бабушка приносила мне на тарелочке нарезанные яблочки, надевала на ножки тёплые носочки, а я сидел и читал Фенимора Купера. Дружил я с Вовкой Шаховым. Мы ходили в один детский сад, а вот в школы нас отвели почему-то разные. Придя в 1-й класс, я был шокирован, когда на первой перемене оказался в гуще орущих, выпученноглазых, на огромной скорости носящихся по непредсказуемым траекторям, сшибающихся, падающих, хохочущих и во всём этом абсолютно неистощимых ровесников. Меня отнесло к батарее отопления и, кажется, я там простоял все 8 классов. Меня сразу же прозвали «Лошарик», видимо, по сходству с героем соплеточильного советского мультика – унылой цирковой лошадкой, состоящей из разноцветных шариков; звали это нечто как раз Лошарик (думаю, понятие «лошара», производное от «лох», то есть наивный, легко поддающийся обману человек, ещё не было в ходу). Но эта кличка долго не продержалась. Позднее меня называли «Трясунчиком» из-за того, что у меня мелко дрожали руки, когда я волновался (дрожат, впрочем, и до сей поры). А волновался в школе я часто.
В своём классе в то время я ни с кем не дружил. Впрочем, нет. Был один. Женя Кипятков. Потомственный «водила». Скромно-серьёзно-конопатый, невысокий, обстоятельный, не из интеллигентов, в отличие от Шахова. Простой. Однажды я побывал у него в гостях, – он жил в частном секторе, в доме, последнем в ряду, у самого леса, у труб. И ещё мы однажды были на футбольном матче «Т…» – «Металлург». «Т…» (к-й клуб) проиграл, кажется, 1:2. (Опыт. Много вместе пивокуренных мужчин, стоящих, смотрящих, монолитных, иногда чьим-то ртом что-то смешное выкрикивающих про кого-то из футболистов. Да, там, в к-ской команде, под вторым номером был некий Юрий, видимо, этакая фирменная «тёмная лошадка», нападающий, выдающий себя за защитника; всё время матча он делал по правому флангу внезапные соло-рывки, и кто-то из толпы вдогонку кричал вычурно-визгляво, со знанием, по-хозяйски: «Ю-юзик! Давай! Ю-ю-юзи-ик!»)
Но, в целом, на этом дружба наша с Женей исчерпала себя. Мне хватало Шахова; Женя же Кипятков был для меня каким-то слишком поверхностным и душевно-неказистым, несмотря на его простую доброту. Ещё, наша классная руководительница Ольга Сергеевна Тимашова загнала меня вместе с ним в группу ЮИД (юные инспектора движения). Надо же! В долговязом тощем мальчике-тихоне, прижимающемся к батарее в школьной рекреации во время перемены, думающем при этом только о том, чтобы не быть этими бешеными хулиганами случайно убиту в их разболтанно-ревуще-безмозглом, всесносящем карусельном порыве, кто-то усмотрел потенциального ГАИшника. Чудно́.
Так вот, когда класс расположился на опушке, началось у моих однокашников их обычное «переменное» носящееся, дерущееся и вопящее помрачение разума. Как будто перемена просто была вынесена из стен рекреации под голубые небеса. Да, кто-то устанавливал палатку, кто-то играл в мяч под солнцем на поляне, девочки что-то кашеварили. Я же, как всегда, был не у дел, всеми огульно пренебрегаемый, отстранённый, в полупрострации. Кто-то из одноклассников почему-то заговорил со мной о лютиках, мол, если долго смотреть в солнечный день на «куриную слепоту», то ослепнешь. У меня были сомнения, но благоразумие приказывало поверить. И я стал настороженно смотреть на траву; не давал, по крайней мере, взгляду застыть, скользил им. Кто-то менее робкий высказал свое сомнение вслух. И завязался обычный детский спор, без аргументов:
– Не ослепнешь!
– Ослепнешь!
– Откуда ты знаешь?!
– Знаю, и всё!
В таком режиме переходило к матюкам. Где-то за спинами раздавался зычный одёргивающий голос учительницы, и спор закономерно сворачивался. Лютики ведь не были чем-то важным.
Залезть в палатку дали не всем. Мне было немного завидно: хотелось самому уметь её собирать. Казалось, всё это растягивание верёвок и втыкание колышков – чрезвычайно сложная и ответственная вещь. Я всегда был нерасторопен на всякое творческое рукоделие. Поэтому и тут стоял в стороне.
Весь этот пикник продолжался, кажется, не более часа. Когда колонна миновала на обратном пути исток «вонючки», учителя её расформировали, и мы разбрелись по домам веером.
Таков был мой первый скучный опыт приобщения к походной жизни.
История 2. Вужиха. Июнь, 1986
Рудневы. Прокат. Искусство упаковывания рюкзака. Бармаков. «Москвич» – «Жигули». Первый лагерь. Хворост. Бережнёвы. «Очко». Весёлое ныряние в Вужиху. Глубокий сон Мишки Руднева. Шумерин. Грустный футбол. «Парфюмерные» эпилоги (Кипятков, Бережнёв, Шумерин).
В моём классе (до 9-го) учился сын одного выдающегося человека, известного в К… барда. Мишка Руднев. Он был небольшого ростика; хоть и худенький, а складный. Носик слегка курносенький, сам – смазливый. Шутил довольно часто, но как-то зло шутил, сатирически, с горьким смехом, издевательским. Обычно же хмурной и неприметный. В какой-то момент, однако, проявился в классе, обозначив недюжинные музыкальные способности. Помню, в начале 6-го класса, когда нам предоставили учебную комнату с пианино, Мишка воскликнул: «О! фортепляс!»; уселся проворно за инструмент, нисколько не скромничая, и сбацал популярную в то время итальянскую песенку «Felicità». Наша толстая отличница Таня Шамрина тут же начала подпевать в русском – пожалуй, кустарном – переводе. Весь класс уважительно хмыкнул.
В конце же того учебного года в школу пришёл папа Мишки, тоже Михаил и тоже Руднев. Большой, энергичный, значимый, солидный, с морской бородой, брызжущий в мир проницительным, жёстко-весёлым взглядом. Детей он, как видно, не боялся, что также внушало уважение. Он либо самопригласился, либо был приглашён кем-то из учителей к нам на классный час. Намерением Руднева-старшего было собрать желающих детей и даже желающих родителей в однодневный поход с ночёвкой на речку Вужиху. Некоторые заинтересовались (человек восемь). Про себя не помню: то ли я сам заинтересовался, то ли кто-то толкнул меня локтем, мол, «пойдём, классно».
Руднев-старший продиктовал нам список необходимых вещей, и велел прийти к нему домой с собранным рюкзаком накануне похода дабы получить дальнейшие инструкции и советы.
Дома я в тот же день объявил, что иду в поход с ночёвкой. И предоставил родителям Рудневский список продуктов, одежды и снаряжения. Родители почесали затылки. Металлическая кружка у нас, конечно, имелась, рюкзачок какой-никакой – тоже, а вот по поводу спального мешка и надувного матраса мгновенно обозначилась проблема. В то время, однако, в городах Советского Союза существовала масса пунктов проката. Один такой пункт был совсем недалеко от нашего дома, в углу одной из длинных пятиэтажек, входящих в «пентагон», не совсем правильный пятиугольник с большим двором посередине. Лесенка, белый кирпич и вертикальная надпись на уровне второго-первого этажей: «ПРОКАТ». Мы с папой посетили это заведение, и нам за небольшую сумму предоставили спальник и матрас (изрядно, впрочем, потёртые, «из остатков») – на двое суток. В «Прокате» также была масса всевозможного снаряжения, разбегались глаза. Всем этим заведовал, как-то неуместно, угловато помещаясь за прилавком, «неформальный», джинсовый, бородатый, худощавый мужчина с рассеянным взглядом. Я недоверчиво взглянул на предоставленные нам вещи: на спальнике не застёгивалась молния, а матрас был подозрительно бабулькино-мелкоцветочечно-пёстрым. Впрочем, выбирать не приходилось.
Мы пришли домой. Папа стал показывать мне, как упаковывать рюкзак. Я понял: дело хитрое. Папа распластал его «спиной» на полу и, стоя на коленях, стал пластообразно, последовательно помещать в него предметы. Спальник, одежду, кухонные принадлежности, сваренную мамой картошку и прочее.
Мои родители родом из деревень (жертвы деревне-городского дрейфа индустриальной эпохи?): мама из-под Пионерска, папа из-под Раздолья всё той же К-ской области. Познакомились в техникуме, переехав в К…, и поженились. Сначала родился мой брат в 1969-м. Его нарекли Вадимом к страшному огорчению моего деда, маминого папы. Дед хотел, чтобы его внук непременно носил имя Игорь. Потом дедушка умер. Спустя год или два родился я, и меня, понятно, назвали Игорем.
Так во́т. Сугубо по-деревенски, мой папа – герой. Плюс токарь, рукастый парень. Но вот странная вещь: «деревенские» ребята почему-то не «фанатеют» от природы (в смысле хождения в природу, покорения природы), им подавай мотоциклы, «выжать сотенку» и прочее. И, напротив, «городские» ребята навздирают на себя многокилограммовые рюкзаки, и-и-и-и да-авай взбираться на Эльбрус какой-нибудь.
Вот и вышло то, что вышло. Пришёл я к Рудневым с тем рюкзаком. Руднев-старший взошёл в комнату, в которой я сидел благоговейно в ожидании обещанных «дальнейших инструкций» – комната уже была завалена всяким барахлом и уплотнёнными рюкзаками тех, кто приходил до меня – нахмурился. Пощупал мой рюкзак. Сказал резко:
– М-м-ммм. Да в этот твой рюкзак можно в два раза больше вещей впихнуть!
И интенсивно и искусно в минуту раздраконил всё папино старание. Поставил рюкзак вертикально, и на фокусничий манер упихнул мои вещи настолько компактно, что я подумал: «Неужели мой папа так не рукаст?» И это запомнилось навеки. Навроде опыта-осознания: одни люди делают что-то лучше других. Казалось бы, ерунда: есть рыбаки, строители, походники; а есть газовщики, агрономы, космонавты, – почему проблема, если одни в своей области управляются искуснее прочих? Но я был юн, странно юн. Одноклассники вечно подавляли меня своим брутальным превосходством, и я спроецировал эту разность и на мир взрослых.
Каждое шевеление Руднева-старшего было для меня чем-то мегазначимым. Его взгляд (или невзгляд), его слово (неслово), его движение-жест (недвижение-нежест).
Он выдержал мой юно-оценочный микроэкзамен. Руднев, отец моего одноклассника, был мужествен, хваток, умел, полубогоподобен. А также весел, сквозлив, резок и широк. Сейчас я думаю: Рудневская же альмаматерь – КЭИ; он-таки, хоть и интеллигент, а не гуманитарий. Я же – худой, молчаливый, стоящий в углу потомок токаря, читающего Горького, и экономистки, читающей Некрасова. Что со мной делать? Как со мной общаться? Ну, как минимум, просто дать понять, что рюкзак следует более компактно утрамбовывать.
Я получил урок и ушёл домой.
Поход был назначен на следующий вечер.
Я снова пришёл к Рудневым; мне был вручён мой рюкзак, и я отправился на остановку транспорта с некоторыми одноклассниками.
Лёха Бармаков. Уверенный в себе, невысокий, крепкий паренёк. Он ходил в борцовскую секцию. Никогда не шутил, был значим, неприступен, тоже как Руднев-младший смазлив, круглолиц, – мальчик-картинка. Видимо, в семействе Рудневых его хорошо знали. Это я вывел из следующей ситуации. Мы вошли в троллейбус с рюкзаками, сбросили их на задней площадке и рассортировались вдоль окон. Тут отвернувшегося к окну Бармакова Руднев-старший вдруг ухватил за бедро сзади и резко взревел крупной, злой собакой. Поразительно, но Лёха-борец не только не упал-в-обморок-схватился-за-сердце, но и даже почти не дрогнул. «Мы привыкшие», – иронично молвил он в мою сторону. Мне, как и от многого другого, связанного с этим моим первым походом, сделалось фундаментально-задумчиво: вот, Бармаков, мой одноклассник, мой ровесник, – а такой взрослый, с большими значимыми дядями на «ты»; я же такой ущербный, ка́к вот тут «вписаться в компанию»?
«Тройка»-троллейбус неспешно крутил свою пыльно-асфальтовую восьмёрку по К…, пробираясь к ж/д-вокзалу, тому самому, что Руднев-старший воспел в одной из своих лучших песен. Бармаков с Рудневым-папой затеяли игру «жигули-москвич». Это когда едешь в советском троллейбусе и считаешь мимо едущие легковушечки. Поскольку в Советском Союзе было, в основном, только 4 машины: «москвич», «жигули», «волга» и «запорожец», играть было легко. Один игрок – за «москвич», другой – за «жигули». Руднев выбрал «москвич». Это был проигрышный вариант, – как если бы в имбецильной игре «Крестики-нолики» нолик по прямой, а не по диагонали поставить, – ибо «жигулёнков» в природе почему-то всегда существовало больше. Когда «тройка» выруливала по кругу к ж/д-вокзалу, Руднев, проигрывающий к тому времени примерно на 20 очков, начал жульничать. «Во, видишь, синий «москвич», 46!» – указывая на синий «москвичонок» стационарно притулившийся одесную вокзала. Через 5 секунд: «О! «москвич» лазурного цвета! 47!». Бармаков брезгливо загнул угол рта: «Вы ж его уже считали!». Руднев жалобу проигнорировал: «Да не, брось! Вон, смотри ещё: «москвич» цвета морской волны! 48!». Бармаков осклабился: «Всё равно проиграли!»
Всем было весело.
ПП 0.2 (так я буду впредь обозначать в сей Походниаде «провалы памяти, приблизительный интервал в сутко/часах»).
Добирались поездом. Как? – не помню. Потом – маленькая, хливкая станция. Какое-то время брели по тропинке назад. Слева – высокий сосновый лес, справа – железнодорожная насыпь. Тропинка – медленно, полого вниз. Ребятишки-одноклассники валили гурьбой, чего-то галдя, облепив взрослых. Я, как всегда уныло-невзрачный отщепенец, плетусь на запятках караванчика. Шли как будто долго, без передышки. Затем замаячила неширокая река, тропа сразу же юркнула влево. Недолго. И вдруг как-то сразу все поскидывали на землю рюкзаки, сгрудились. Стало быть, пришли. Вот тут и лагерь будет наш на сутки.
Детей почти сразу отослали в лес за дровами-хворостом. Как-то долго я бродил, волочась недалеко от других, складывал в охапку сухие веточки, приносил и сбрасывал набранное в общую груду в лагере. Было не жарко. И скорее пасмурно. Наша полянка-пятачок у самой почти речки. Лес не редкий, но и не густой, кусты.
Как-то незаметно для меня вздыбились палатки. Нам, детям, поставили большую, просторную, уквадратили её пол по самый притык надувными матрасами, настелили сверху покрывало, уложили спальники: спите, мол, – там детишек восемь могло разместиться, – собственно, как раз столько нас и было.
Я наблюдал за взрослыми. Жена Руднева – жутко красивая (мне тогда показалось) женщина, стройная, ладная, иногда сдержанно смеющаяся, но чаще полунадменно молчащая, одинаково спокойно взирающая как на нас, детей, так и на взрослых. Её спутница, возможно – тоже из родительниц, но скорее – именно её, Рудневой, подруга, сторонняя. Сам Руднев, пара его друзей, а из родителей моих одноклассников – Бережнёв, папа Лёни Бережнёва.
С этим Лёней я приятельствовал в младших классах. Дружба наша не клеилась. Так-то мы жили в соседних домах, на физкультуре в строю по росту стояли рядом, учились оба на «четвёрки», частенько возвращались домой вместе. Но он был мне не то чтобы неприятен, а как бы отторгаем нутром. Нос у Лёни с внушительной горбинкой, губы крупные, глаза малоподвижные. Сложения он был могучего, грудь держал колесом, – казалось, вечно на высоте вдоха, и был серьёзен и степенен, – как бы отвергал детство, и видом своим, и повадками. Шутить у него не получалось. А голос какой-то приглушенно-гнусавый, не ладящийся к его крупной фигуре. Я знал, что у Лёни необыкновенно суровая бабушка. Однажды он мне поведал, что она не гнушается иногда бить его ремнём. Ближе к старшим классам, по секрету, Лёня мне рассказал, как видел ночью своих родителей, занимающихся любовью. Не помню точно своей реакции на данное откровение: то, что родители детей на такое способны, скорее всего, уже не было для меня сюрпризом, а вот то, что Лёня не погнушался со мной, не настолько уж близким ему другом, такой интимностью поделиться, в моих глазах его, кажется, слегка уронило.
Помню ещё одно приключение с этим Лёней (то был класс четвёртый-пятый): блуждали мы зачем-то однажды в школьном дворе в осенне-мглистое время, – кажется, что-то там с пионерским металлоломом возились. И провалился Лёня одной ногой в лужу глубоко и вымочил напрочь подкладку у сапога. А сапоги были особенные: жёлтые, необычные, подкладка эта целиком наружу выворачивалась. Так вот, Лёня этот сапог как раз вывернул, допрыгал на одной ноге до полутораметрового металлического заборчика, что школьный двор огораживал, и развесил сапог на этом заборчике. Сушиться. «Меня дома убьют», – мучился Лёня, с тоской, напряжённо вглядываясь в электрические окна своей пятиэтажки, как будто оттуда всё уже увидели и всё знают. Я чувствовал: Лёне нелегко. Но помочь ничем не мог. Молча стоял рядом. То, что сапог в имеющейся осенней мгле высохнуть не смог бы и до утра, было очевидно. Но Лёня долго ещё страдал, периодически угрюмо повторяя: «Как же мне домой-то идти?» В конце концов напялил-таки мокрый сапог, и мы медленно, траурно отправились по своим квартирам.
Я видал Лёнину маму. Лёня был в неё. Такая же крупная, прямая, с почти атрофированной мимикой, внушительная, бесстрастно-монотонная. Она работала врачом-психиатром. Однажды, на 4-м курсе института, я частным образом обратился к ней за консультацией. За два дня до того я за полночь закончил свой третий роман. Концовка книги была страшной, и я слишком ушёл душой в своего героя. На следующий день с однокурсниками изрядно злоупотребил разнообразными напитками. А ночью со мной сделался психоз: в голове, как гигантские черви зашевелились неудержимые, непрошенные, внезапно выпрыгивающие из-под брюха некоего глобального контроля, визжащие, абсурдные мысли. Я пришёл в ужас. Выпил имеющуюся дома таблетку реланиума. Не помогло. Позвонил в «скорую». Дама на телефоне посоветовала выпить ещё одну реланиумину. Уснул. На другой день позвонил Бережнёвой и попросил проконсультировать. Пригласила к себе домой. Усадила на стул за маленький столик, напротив себя. Сама же осталась в тени, в серо-синих очках, справа от окна, брызжущего мне в лицо жаркими закатными лучами. Неохотно собрала мой дырявый анамнез. Рассказал про книгу. Про алкогольный эксцесс умолчал. Бережнёва округлила всё это: мол, глупости, ничего серьёзного, ступай домой, отдохни и впредь так не перенапрягайся. Безэмоционально, сухо, плоско, едва ли не с презрением. Такова была Лёнина мама.
Папа же Бережнёв был комично, выпукло, почти гротескно иной. Невысокий, плюгавенький, неуместный, стеснительно-неброский. Зачем он вообще пошёл в этот поход? Мне думалось: наверное, затем же, что и я… Посмотреть, какова бывает ещё эта жизнь. Кроме школы (работы) и четырёх стен в бетонной коробке. Одновременно страшно и интересно.
И вот, все эти взрослые ходили вкруг костра и о чём-то непонятном для меня перешучивались, балагурили. Руднев и его друзья, мне показалось, витиевато подтрунивали над дамами, а дамы с брезгливым достоинством подтрунивание это гасили либо отталкивали. И было странное впечатление: все они как будто ничего не делали, этак шутливо, неритмично, разнотонально и разногромково общаясь, и в то же время каким-то чудом – незаметно для меня, что ли, на манер иллюзионистов – постоянно пребывали в бурной деятельности: заготовляли дрова и готовили обед. Их взрослый мир не передавал моему разуму почти ничего осязаемого. Ощущались лишь настроение и энергия. Каждый взрослый источал одновременно веселость и грусть. Причём, весельем как будто больше бравировали, а грусть искусно прятали. Им было одновременно и нетерпеливо, и привольно, и запретно, и самим тоже ещё почему-то загадочно.
От мужчин (Руднева и его друзей) исходила некая богатырско-бородатая энергия мужественно-интеллигентской лихости. От женщин же шёл дух эдакой сдерживающей ехидной власти. Всё это было внове для меня. Мой папа день изо дня являл задумчиво-молчаливую мудрость, мама – телефонную болтливость, и существовали они как бы слегка параллельно.
На природу, как мне казалось, никто вовсе не обращал внимания. Я видел неширокую речку, противоположный луговой плоский берег, заканчивающийся под обрывом с теми же соснами наверху, но во всё это не вглядывался, – оно существовало где-то сбоку, не било в лицо.
ПП 0.1.
Обед не помню. Как, впрочем, и ужин. В преддверии сумерек случилась игра в «очко». Незатейливая такая игра. Мальчики по очереди набивают (чеканят) мяч на ноге, потом на колене, потом на руке, и, наконец, – на голове. По десять «набиваний». Мяч не должен коснуться земли. Набил на ноге 4 – дальше жди своей очереди, тебе остаётся ещё 6 на ноге, и – перейдёшь на «колено». Кто первый всё это прошёл, тот герой, – кто последний, тот зажимает мяч между бёдер и идёт на всеобщую потеху прямо по тропинке столько шагов, сколько он «не добил». Если совсем не умеешь набивать – так и ковылять тебе от этой ивы до той берёзы враскоряку с мегаяичком, которое тебе нормально идти не даёт. Смешно. Очень. Что тут сказать?..
Я плохо набивал. На каникулах в деревне тренировался по целым дням, но мой максимум набивания на ноге был 11, – кроваво-потовый максимум.
И вот в эту сволочную игру зачем-то ввязался папа-Бережнёв. Видимо, ему было всё равно: встать в один ряд с несмысленными мальчишками, уравняться с ними. «Ну давай», – мыслят грозно-ехидно мальчишки, – «глянем на тебя». В смысле, каков ты? – свой-не свой? Либо дашь поиздеваться над собой, уронишь себя перед нами, либо вовеки-веков героем нашим станешь. Впрочем, и так видно: нести тебе «яйцо» до самой железной дороги, спорнём?!
Так и вышло. Бережнёву объяснили правила игры. С ним играли Бармаков, Шумерин и кто-то ещё, не помню. Всех «сделал» Бармаков. Шумерин его «на голове» быстро догнал, а папа Бережнёв так «в начале колена» и застрял.
– И что теперь мне делать? – спросил Бережнёв.
– Вставляете мяч между ног, – бойко-неторопливо-надмевательски отчеканил Бармаков, – и идёте двадцать восемь шагов вон в том направлении. Если мяч уроните, всё снова – возвращаетесь к исходной позиции.
Бережнёв-старший выглядел смешно. Жалко как-то. Если бы он шутил с нами, был бы с нами единым целым, то это не выглядело бы жалко. Выходило: мальчик Лёха Бармаков, набравшийся глупо-серьёзной напыщенности в своей борцовской секции, этак надменно издевается над взрослым человеком, отцом семейства, советским инженером (или кто он там был?) Глупая история. Зрелище это производило во мне какую-то странную, извращённую работу: если бы происходящее являлось сказочным гротеском, изящной иронией, спектаклем на банальное ха-ха, я бы понял и принял. Но всё было как бы всамделишное, и мне ничего не оставалось, как презирать их обоих: и Бармакова за незрелый снобизм, и Бережнёва за абсолютно неоправданно принятое на грудь унижение. Что тяжелее всего, – мне кажется, Лёня (Бережнёв-сын) стоял чуть-чуть в сторонке и наблюдал за происходящим с какой-то восковой полуусмешкой и полуприщуренными глазами, стойко и недвижимо.
Бережнёв-папа ещё, как на зло, раза четыре ронял «яйцо» и заново принимался за этот свой унизительный раскоряченный путь. Все как будто даже устали от происходящего. Я вскользь наблюдал за лицами Бармакова, Руднева-младшего, Шумерина и прочих своих одноклассников. Жалость там, в оттенках, где-то глубоко, возможно, и присутствовала, но преобладала отчётливая, значимая, молчаливо-садистская полуусмешечка.
Ситуацию разрядил явившийся неожиданно, как снег на голову, Руднев-старший.
– Чем занимаетесь? футбол?
– Играем в «очко», – в обычной своей развалисто-ленивой манере полунадменненько рёк Лёха Бармаков.
– А-а. Это на ноге надо набивать? Кто больше набьёт?
– А вы что, как будто умеете набивать? – лениво вскинул взор издевательский Лёха.
– Ну, не знаю. Может и умею. Ты чего, Лёха, ас в этом деле, что ли?
– Ну ас – не ас, а набью, – так же лениво, как перекормленный кот, промурлыкал Лёха.
– Давай, кто быстрее до 100 добьёт, – безапелляционно рыкнул на Бармакова, по-царски сидящего на зелёном горбыльке, Руднев.
Лёха привздёрнул презрительно к глазу правую скулу:
– Дава-айте, коль не шутите.
– Ты первый.
Бережнёв-старший передал своё любимое «яйцо» Лёше Бармакову.
– Смотрите все, как это делается! – возгласил Лёха на пол-леса и треть реки.
Он стал набивать. Шло ровно. Вообще, техника у этого дела загадочная: в некий вдохновенный момент ощущаешь, как будто угол между голенью и стопой выбран оптимальный, тело тебя слушается и мяч тоже, – тогда процесс выглядит однотипно и просто: ты как будто повторяешь одно и то же движение, мяч поднимается ровно, не вихляет, сантиметров на 40, легко и мягко возвращается, и кажется, что ты можешь набивать бесконечно, на манер фантастического футбольного робота, почти не переступая и не сходя с места. Но вдруг!.. Мяч идёт вверх немного косо, и ты вынужден переступать, менять силу, угол и направление, и вот тут может пойти абы как: обычно начинаешь дёргаться, нервничать, и, в конце концов, мяч улетает на землю. На 13-м ударе у Лёхи как раз случилось это обычное: мяч пошёл не так, как надо. Затем – два отчаянных, догоняющих из последних сил касания, и всё, земля. 15. Неплохо. Мне и Бережнёву-старшему, к примеру, так вот, с ходу, и не снилось!
– Ну давайте! – промяукал весело-флегматичный Бармаков Рудневу.
Руднев взял мяч. Дальше случилось нечто необычайное и для меня незабвенное.
С первого удара стало понятно, что футбольная техника у Руднева никакая. Не сказать, что «нулёвая», но очевидно – никакая. Тем более, на нём были не уютные Бармаковские беленькие кроссовочки, а какие-то странные, изношенные коричневые башмаки. Угол между стопой и голенью варьировался как придётся, до смешного, и всё это, в целом, напоминало некую насильственную фантасмагорическую клоунаду, а не футбол. И, тем не менее, на наших глазах свершалось чудо! Ударе на двадцатом я подумал: «как?! неужели это возможно? как долго он так протянет?!.» Руднев скакал, бегал, носился по всей поляне. Казалось, не он управляет мячом, а мяч управляет им. Иногда он ударял по мячу не изгибом стопы-голени, а едва ли не носком своего уродливого ботинка. Тогда мяч летел отчаянно куда-то далеко вверх и вбок, но упрямый Руднев его настойчиво догонял, умудрялся выравнивать ударов на пять, таких же безыскусных, разболтанных, и вновь: мяч летел невесть куда, в дальние кусты, но Руднев и там догонял его. Вся наша братия благоговейно притихла. Только дамы у костра ухмылялись, как всегда ехидно, с глубоко-потаённым чувством власти над всем подобным, с нашей, детской, точки зрения неимоверным.
Ударе на 70-м кого-то из нас, включая меня, начал разбирать смех. Зрелище было величественным, невообразимым и комичным. Как будто Руднев одновременно преподносил нам урок, смеялся с нами и над нами, учил жизни, показывал, что значит быть взрослым и при этом смотреть на жизнь так же свежо, как ребёнок.
Иногда казалось, что это просто невозможно: мяч шёл по такой траектории, что принять и выровнять его уж никак не получится, даже у заправского футболиста, не то что у этого нескладного бородатого комика в неспортивных ботинках. Но Руднев неизменно догонял и выравнивал. Мы перестали смеяться и наблюдали вновь благоговейно. Было как будто Руднев ритмично зациклил нас. Как будто на 120-м ударе мы бы вновь принялись смеяться.
Тем не менее, до самого конца, до 100-го удара, ни одного из зрителей не покидало удивительное в своей закономерности ощущение, что мяч так долго удерживается в воздухе именно случайно; было очевидно, что Руднев кто угодно, но ни разу не футболист. Всё это – исключительно его целеустремлённость, борьба и… случайность!
Но вот, 99-й удар. Руднев подбросил мяч немного повыше обычного. Сотым ударом он отправил его высоко-высоко, за пределы верхушек сосен. Мяч ненадолго там завис и отправился падать куда-то в лес.
Руднев повернулся к Бармакову и засмеялся легко-бородато, мол, вот так, смешно, да?!
Бармаков флегматично улыбнулся, но промолчал. Кто-то из нас, ребят, помчался за мячом в чащу.
В некий момент на другом берегу, вдалеке, на обрыве показались тоже какие-то походники. Руднев с друзьями скричались с ними. Какие-то знакомые. Руднев с одним из друзей отправились на тот берег. Кажется, к тому моменту взрослой компанией было «употреблено»; взрослые были веселы и как-то по-особому эмоционально интенсивны.
Под занавес сумерек Руднев с другом вернулись, заливисто, наперебой хохоча. Выяснилось, что, переходя Вужиху по деревянному мостику, Руднев споткнулся и упал в речку целиком. Дамы поддержали веселье. Журили виртуозного футболиста, бородача, во-всей-одежде-незадачливого-ныряльщика. Почему-то именно этот инцидент был для компании особенно весел. Наверное, если папа-Бережнёв и был здесь заодно с компанией, то уж мама с бабушкой точно сие загадочное веселье не поддержали бы.
Потом сделалось темно. Детей отправили спать, но не сказать, что жёстко отправили. Мол, не хотите спать – не спите, только взрослых не утомляйте.
Взрослые же уселись вокруг костра на больших горизонтальных брёвнах и стали беседовать, разрисованные оранжево-чёрными костровыми бликами. Иногда смеялись чему-то не надрывно, аккуратно, отстранённо от нас, детей. Поднимали иногда кру́жки, выпивали, брали гитару и пели негромко. Потом снова о чём-то беседовали.
Лёха Бармаков затесался во взрослую компанию и был там благодушно принят. Я видел, стоя у палатки, как он сидит там, маленький, такой же оранжево-костровый под Рудневским крылышком, одесную. Крутит веточкой в костре, иногда подключается к разговору. Взрослый круглый малыш. Я не то чтобы ему завидовал, – просто не понимал, как можно так легко сновать из мира детей в мир взрослых и обратно? Остальные шесть моих одноклассников решили жить в этом походе своей детской жизнью и к взрослым на манер Бармакова не подлизываться. Я предпочёл оставаться с большинством. Мир взрослых у костра казался мне странен, я не чувствовал ни тяги, ни побуждения быть единым с ним.
В детском мире было интересно подпалить в костре конец веточки до ало-жёлтого угля, а потом крутить ею в темноте, следя за формирующимися инерционными огненными кругами, восьмёрками и зигзагами, а потом закрывать глаза и наблюдать те же фигуры в темноте глаз.
Интересно было и залезть всем в ночную палатку. Не затем, чтобы спать, а чтобы переговариваться в загадочной темноте, прислушиваясь, как по левую руку со стороны костра доносится невнятное бормотание взрослых. В какой-то момент было обнаружено, что Мишка Руднев (сын) не включается в разговоры. Уснул, «салага».
Компания решила над ним подшутить. Шутка была, мягко говоря, глупой. Все вылезли наружу, подошли гурьбой к тому боку палатки, где, завернувшись в спальник, сладко сопел Руднев-младший и пнули его в бок избранной ногой. Мишка сонно выматерился, угрудился в другую сторону и снова засопел. Будить Мишку перестало быть интересно.
Мы пришли всей толпой к костру и расселись в разных местах на брёвнах. Взрослые переключились на нас.
– Что, дети, не спится?
– Не-а, – мы лезем длинными тонкими палочками в угли.
– А Мишка где?
– А он спит.
– Он знает… – глубокомысленно протянул Руднев-старший. Другие взрослые подхихикнули.
Меня щёлкнул его ответ.
Кто-то из детей спросил:
– Чего он знает?
– Ну он-то в большие походы ходил. Уже знает, что значит перед переходом не выспаться.
– Да уж, – поддакнули другие взрослые и ударились в какие-то малопонятные воспоминания.
Я представил себе маленького, курносого Мишку, который с этими страшными взрослыми ходит в дальние загадочные походы, знает, что это значит. И ничего такой, вполне обычный паренёк. Спит вон в палатке, плюнул на всех. Странно. Какие разные кругом люди, занимаются загадочными вещами. А с виду вроде обычные.
ПП 0.7.
Как ушёл спать и как засыпал, не помню. Утром – светлая внутри палатка. Всё же свет снаружи ею глушится и трансформируется во что-то почти уникальное: тихое, одиноко-комарино-пищащее, осторожно-тусклое, обманчивое, в высшей степени уютное.
Народ снаружи как-то по-другому, не по-вечернему, бубнил, кто-то из детей что-то визгливо выкрикивал. Голоса были многочисленны, распределены в пространстве неравномерно и как бы непредсказуемо.
Я лежал в палатке вдвоём с только что, как и я, проснувшимся Серёгой Шумериным. Покинутые прочими одноклассниками матрасы и спальники валялись круго́м в досадном беспорядке. Я посмотрел на хмурого Серёгу: голова отчаянно взлохмачена, лицо угревато-угрюмо-припухшее. Он был светло-рус, почти до блондинности. Черты лица какие-то грубо-округло-желвачные, как будто приобретённый алкоголизм родителей передался ему по наследству. Что-то во всём виде головы его было бывало-шофёро-забулдыжное, несмываемое, как печать. Сам он тоже плотненький, среднего роста, эдакий бульдожек. Как раз с этим вот пареньком я просидел за одной партой 6-й и 7-й класс. Интересный такой сосед, неординарный.
Про его родителей я точно ничего не знал и не знаю. Казалось только, что там было явно что-то не особо благополучное; и об этом даже и в классе кем-то из учителей во всеуслышание объявлялось. Не уверен, являлся ли Серёга однозначным хулиганом. Скорее, его на эту стезю затянуло, – сказать что ли «отчаянно-обречённо»? – ну да, так, видимо, как-то. В нашем классе были и другие хулиганы, не такие как он, – действительно, какие-то грязные, злые, почти подло-опасные, двое-трое таких. Они смотрели на жизнь «умно́», по-зверячьему, как будто они знают уже ей цену, изучили её и поняли, что теперь стоит только поступать с жизнью и со всеми теми, кто наполняет её, так же подло, зло и бездушно, как жизнь поступает с ними.
Серёга Шумерин был не совсем такой, а может быть, и совсем не такой. В нём ощущалось гораздо больше простого тепла и душевности, он вовсе не был глуп, и порой смотрел на меня, своего умненького очкастого соседа по парте, не просто как на того, у кого можно списать, а и как на того, с кем можно порой поделиться чем-то тёплым, душевным из той-самой мизерной «сокровищницы» тепла и душевности, что сохранялась в нём. Например, делясь со мной подробностями своей ранней половой жизни, он, я видел, не хотел просто щегольнуть передо мной на манер Сашки Маслова («Маслухи»), который со вкусом и оттяжкой щеголял этим перед всем классом. И не издевался. Он просто как этакий бескорыстный «змей» тепло завлекал меня. Нашёптывал мне на ухо на каком-нибудь уроке физики: «А ты знаешь, это правда приятно с бабами. Поставишь бабу рачком, вот так», – он делал странную конфигурацию из указательного и среднего пальцев и ладони, как будто его правая пухлая, покрытая угрями и бородавками, жёлтая от курева кисть стоит на коленях на нашей парте, – «вот так поставишь рачком», – он как будто смаковал эту нелепую, такую, видимо, на его взгляд, вкусную фразу, – «вставишь, и это так хорошо, так приятно!» Поэт от жизни, Серёга Шумерин! Ни дать, ни взять.
И всё время покрывали его эти прыщи, крупные, налиты́е. На быковой шее, на щеках, подбородке, лбу. Он был всегда как будто облит потом, и каждый раз мой взгляд примагничивала эта желтизна его бородавчатых, слоящихся пальцев. Мне казалось странным, что вот, существуют же «бабы» на свете, которые вполне охотно позволяют такому мужикообразному, нечистоплотному, как бы без вони даже воняющему Серёге Шумерину «ставить их рачком», в то время как я, его ровесник, такой чистенький, умненький, опрятненький, хоть и худой как глиста, даже помышлять в этом направлении боюсь.
А так, да. В основном, я был нужен Серёже Шумерину, чтобы списывать у меня. Он не хотел учиться. Видимо, в жизни ему было достаточно сигарет, податливых, небрезгливых «баб» и общения с кем-то себе подобным. Однажды, на уроке музыки нас заставили писать сочинение о наиболее понравившемся музыкальном произведении из тех, что нам ставили тут, на уроках, в течение четверти или полугода. К счастью, кроме классики и «Пети и волка» нам прокрутили Мирей Матье «Ciao Bambino, Sorry» и «Битлз» «Because». Я стал писать про битлов. Мне было приятно иметь сию скудную возможность излить свою любовь где-то вот тут, в советско-школьной рок-н-ролльной пустоте. За пять минут до конца урока Серёга Шумерин стал наскоро передирать моё сочинение. Я покосился на его грубые, округлые, алкоголически-дрожащие, паретически спускающиеся к концу строчки на нижележащую строку каракули. Я прочёл первое предложение: «Я люблю групу Битлас». Почувствовал что-то вроде содрогания от поругания над святыней в трепетном сердце моём. Но что ж тут поделаешь?..
Оклемавшись от сна и выкарабкавшись из спальника, Серёга Шумерин почему-то стал бороться со мной. Он сделался какой-то полувменяемый. Вначале мы просто весело прыгали и перекатывались на этом просторном воздушно-матрасовом лежбище. Но потом Серёга стал толкаться, наваливаться на меня и душить. Я отбрыкивался. Упорно отбрыкивался. Смотрел на Серёгу и никак не мог взять в толк: это у него сейчас обычное шутливо-детское бузение или он серьёзно намерен помериться силами со своим доходягой-соседом. И эта глупая возня продолжалась мучительно долго, пока не раздался снаружи задорный клич к завтраку. Только сейчас, в момент пробуждения старой памяти, мне пришло в голову: а не было ли это со стороны Серёги чем-то вроде неумелой гомосексуальной игры, кто ж теперь скажет? Но мне было в очередной раз жутко не по себе тогда, как всегда, как почти во все эти восемь лет в 12-й школе.
После завтрака рассветился летний день, и устроился детский футбол. Никогда не любил играть в футбол, и мне было неприятно наблюдать, как носится, куражится-бесится Бармаков, как орут, ссорятся и сцепляются другие одноклассники. Я всего этого понавидался на уроках физкультуры и предпочитал подобного сторониться. Очарование походной обстановки от такого рода повседневщины стухало, тускнело и даже становилось таким же обыденным, фальшивым. Это было воистину неприятно.
Подметил я, что и супруги Рудневы впали вдруг в некую мрачно-молчаливую конфронтацию. Женщины поутру сделались более говорливы, мужчины – попритихли. Возможно, вся эта «взрослая» дисгармония сыграла и на том, что футбол вышел таким невесёлым, глупо-драчливым, и солнце, растворясь в нём, сделалось каким-то почти городским, жарко-пыльным, квадратным, а девственная, застенчивая Вужиха едва не превратилась в ту самую «речку-вонючку».
ПП?.?.
Обратную дорогу в город не помню.
На этом бы данную историю и закончить. Но я вот о чём подумал. Поступлю-ка как авторы книгофильма «Парфюмер». Там, если некие знакомые главного героя переставали быть в его жизни актуальны, уходили из его жизни, то они «уходили красиво» (кто знает – знает в чём ирония). Вот и в этих двух историях случились кое-какие персонажи, которые впредь, в новых походных историях фигурировать не будут. Ну так скажу, что с ними сталось и поведаю вкратце о некоторых других наших встречах.
Об обоих Рудневых и Бармакове, уверен, речь впереди ещё польётся. Хотя в «полноценные» походы ни с кем из них я в дальнейшем не ходил.
А вот, Женя Кипятков из прошлой истории. Он, сдаётся мне, стал «водилой», по стопам родителя, и, думаю, до сей поры проживает в том домике у леса, отграниченного от города гигантскими горизонтальными трубами. Я году в 2015-м, 8 лет назад, оказался на его улице. Соседи сказали: та́м он. С женой и детьми. Меня почему-то смущало идти к нему. Всё же я позвонил. Вышел кто-то из детей, сказал: «папы нет дома». Я не стал приходить второй раз.
Я виделся с Женей последний раз году в 1995-м. Мне было 22, я был женат тогда на Полине, мы жили у моих родителей. Пришёл Женя. С чего бы? В 1988-м он ушёл в свой техникум водительский, а я доучился в старших классах и поступил в медицинский институт. Мы вышли с ним в подъезд на площадку, туда, где почтовые ящики. Я курил, он – кажется, нет. Какая-такая вдруг ностальгия его пробила? Мы и друзьями-то были сомнительными, условными. Рассказал, что Маслуха женился. Родил сына, и Женя был на «обмывании ножек». Тогда я в первый и единственный раз встретился с таким наименованием постродовой пьянки, – наверное, у нас, «институтских», «интеллигентов», подобные простонародные жаргонизмы были не в ходу, презирались. Мне было не по себе, но я не показал виду, покуривая и скупо, ровно отвечая на вопросы Жени о моей жизни. «Не по себе», потому что женой Маслухи сделалась Дина, моя первая отчаянная любовь. И сначала Юра Стеблов, а теперь вот и Кипятков пришли с вестью, что Дина вышла замуж за Маслуху, чтобы «отомстить» мне. За то, что я отказался жениться на ней и ушёл. Юра прямо сказал об этом. А Женя как бы между делом намекал. Было неприятно. Как будто это сама Дина подослала ко мне их обоих, мол, скажите ему, а потом передайте мне, каким было выражение его подлого лица. Я выкурил пару сигарет, пожал Жене руку, и он ушёл. Всё о нём.
Лёня Бережнёв. В старших классах он ушёл в «Б», «педагогический» класс, а я из-за отсутствия инициативы был отправлен в «А», где почти не оказалось моих бывших одноклассников, чему я был несказанно рад. Лёня тоже сдал экзамены в медицинский институт. Только я, Шигарёв и Вестницкий поступили на лечебный факультет, а он – на педиатрический. Помню, однажды, в 1989-м, мы катались с ним в институт на подготовительные курсы. По дороге, в троллейбусе, Лёня рассказывал мне про то, что ныне крутят в видеосалонах – я в то время ещё не был приобщён к этой новой «культуре». «Тутси», интересный фильм, а так, в основном «боевики» (на тот момент – новое для меня слово), «Том и Джерри».
В институте я с Лёней почти не соприкасался. Позже узнал, что он работает на «Скорой помощи». В 2002-м ко мне на приём в 8-ю поликлинику (я в то время работал физиотерапевтом) пришла девушка по фамилии Бережнёва – его жена, как выяснилось, – тоже, кажется, из медиков. Довольно красивая, стройная. Я расспросил, мол, как дела у Лёни. Оказалось, что они разводятся. Жена Лёни выглядела печальной и удручённой, но как бы крепилась и со мной была открыта, жива и едва ли не доверчива.
В какой-то момент 2010-х я неожиданно повстречал Лёню в продуктовом магазине на проспекте Строителей. Его было трудно узнать. Он стал каким-то радостно-ожиревшим, обрюзгшим и парадоксально раскрепощённым. Лицо Лёни сделалось акцентированно уродливым, поверх были дополнительно пугающие серо-голубые очки. Голос же остался всё тот же – гнусавый, странный, полуженский, как бы потусторонний, – более того, сделался даже утрированным в этих смыслах (я по-врачебному связал это с давлением жира на шее на гортань). Сказал мне с припо́днятой, довольной интонацией, что распрощался с медициной, работает в рекламе. Нравится. Женился на Ларисе Сёмгиной, единственной красавице нашего старого «В» класса. У Лёни не срослось с его первой женой, у Ларисы – с Максимом Мальковым – необычным, но добрым с виду парнем, с которым Лариса все старшие классы просидела за первой, центральной партой, постоянно, неразрывно и влито́ держась с ним под партой за руки. А теперь вот – всё хорошо. Дети, правда, сводные, по двое, от предыдущих браков, но это ничего. Всё! (про Лёню).
Серёга Шумерин. С ним проще. Он иногда скрипозубуче бурчал мне, что родственники, учителя и прочие милиционеры собираются отправить его в «дурку». Потом он что-то там серьёзно набедокурил и исчез. В тюрьму-не в тюрьму, я не уточнял. В 8-м классе со мной за партой сидел новоприбывший мальчик по прозвищу «Киргиз». Но здесь о нём, пожалуй, не буду.
История 3. Дача Андрея Полозова. Октябрь, 1988
С этого момента начинается введение героев, которые будут более значимыми и постоянными в этой моей Походниаде. А посему сия история выйдет пространной, хотя сам-то этот недопоходец убог, малозначим и даже нехорош. Впрочем, именно поэтому его и следует особо упомянуть, для контраста с общей эстетикой повествования. И подразделю-ка эту историю, на «подыстории», ибо да, длинно́, длинно́ слишком в перспективе всё выглядит.
3.1. Старшеклассники
Начало 9-го класса ознаменовало для меня крутой поворот в смысле самопознания и самоопределения. Как уже упоминалось, в младших и средних классах в школе у меня не было друзей, в старших – они появились. Получилось так: я взял и не пришёл на перекличку, даже не помню из каких-таких соображений. То ли мне было страшно, то ли всё равно, то ли даже брезгливо, не помню. А там состоялось масштабное перераспределение четырёх средних классов в два старших. «Б» собирался какой-то специальный, как бы с педагогическим уклоном, стало быть, нацеленный в дальнейшем на университет. Классным руководителем там назначили уважаемую мною учительницу биологии В. Н. Выделкову. «А» классом руководила О. С. Тимашова – простодушная, умеренной строгости учительница математики. И в то время, как мои одноклассники из 8-го «В» (Бармаков, Руднев, Бережнёв, Маслов) ринулись к педагогам, меня, так сказать, «по умолчанию» упихнули в «А» класс, костяк которого составили «гэшники» (Андрей Венчук, Влад Сотов, Дима Васин, Андрей Полозов и Саша Данилов) и «ашники» (Тимофей Вестницкий, Миша Шигарёв, Миша Бородин и Андрей Ржановский). Из «В» был я один. Из «Б» – Макс Мальков (который все 2 года просидел за партой, прилипший к Ларисе Сёмгиной, как уже упоминалось) и ещё один странный парень, который походил в школу первую неделю, а потом передумал – единственное, что он успел внести в «наследие» 9-го «А» до своего исчезновения, – указание на группу «Ария», от которой он «фанател»: «Жанна из тех королев» с её пронзительно-ритмичным «рубиловом» и подобное.
1-го сентября я оказался за третьей партой в ряду у окна с Владом Сотовым, высоким, стройным, красиво-угловатым парнем с обозначающимися чёрными усами из бывшего «Г»-класса. Познакомились. Влад отнёсся ко мне нейтрально-дружелюбно и даже любознательно. С прежними одноклассниками подобного отношения к себе я не испытывал. И меня сразу согрело. Зародилась в груди искра надежды, что я не буду здесь презираемым «дистрофиком», как раньше. Выяснилось, что Влад увлекается фотографией, и на этой труднообозримой ниве у нас завязалась беседа. Потом Влад спросил:
– Ты Андрюху Венчука знаешь?
– Нет, – сказал я (хотя я слышал о нём однажды; мой сосед из квартиры снизу, Дима Молочников, тихий, уверенно-флегматичный, крепкий парень, ныне следователь, сказал мне однажды, что «дрался с Венчуком»; этот Дима тоже был из «Г»; я видел однажды, как он дрался с кем-то «отшибнутым» из «А»: уверенно, спокойно, жёстко, не суетливо; поэтому мне думалось, что Венчук – парень суровый и жёсткий).
– Он послезавтра придёт. Он руку сломал. Ходит с гипсом, послезавтра гипс снимут. Классный парень! Тоже любит фотографию.
– Здо́рово, – сказал я.
«Гэшники» были более активны и монолитны, нежели прочие перешедшие в 9-й «А» ребята. На второй день ко мне, как будто к старому знакомцу, в вестибюле подошёл Андрей Полозов. Некрасивый, среднего роста, с тихим голосом, но странно смешливый. Смеялся он беззвучно, глядя при этом на собеседника (смеётся ли он?), и если собеседник был невозмутим, спрашивал: «А ты почему не смеёшься?». Тогда собеседника рефлекторно разбирало на ха-ха. И Полозов, всё также беззвучно, смеялся уже на собеседника, показывая на него пальцем. Полозов спросил меня:
– Вчера по телевизору фильм «Кин-дза-дза» показывали, смотрел?
– Нет, – ответил я.
Полозова согнуло в беззвучном хохоте.
Он отвёл меня в сторону, придерживая за плечо:
– Слушай, я тебе расскажу. Два чувака оказываются на другой планете. Идут по пустыне. Вдруг перед ними приземляется такой странный космический корабль. Из него выходят два других чувака. И говорят тем, другим: «Ку!!»
Полозова опять согнуло.
Разогнулся, посмотрел на меня:
– А те им тоже отвечают: «Ку!» И так весь фильм, представляешь?!.
Я почти ничего не понимал, и мне, конечно, хотелось солидарно посмеяться, но я никак не мог выбрать, на каком моменте.
– А ты почему не смеёшься? – весело-оценивающе спросил меня Полозов.
Я широко, глупо улыбнулся и неуверенно пожал плечами.
Андрей махнул на меня рукой и побежал к кому-то другому пересказывать «Кин-дза-дзу».
На третий день в школу пришёл Андрей Венчук. Высокий, складный, широко-покатоплечий. Лицо какое-то неожиданно весело-дружелюбное, в любой момент готовое к смешинке. Волосы аккуратной копной с прямым пробором. Подбородок узкий, щёки умеренно-круглые. От всей его позы и от лица веяло чем-то тёплым, простым и стабильным. Я крепко пожал ему руку, и он ответил так же крепко. Думаю, Влад рассказал ему про меня.
Мы договорились с Владом, что он придёт ко мне после уроков домой показать свои фотографии. И Влад пришёл с Андреем Венчуком. Я удивился, и мне было волнительно и приятно. Я чувствовал, что Андрей будет лидером в нашем классе, и для меня была честь, что он пришёл ко мне, как к другу. Однажды потом он признался мне, что роль в этом сыграло то наше первое крепкое рукопожатие. Андрей был уверен, что тот, кто крепко пожимает руку – хороший человек.
Я напоил Влада и Андрея чаем, смотрели фотографии. Влад говорил о проявочном искусстве. Чувствовалось, что Андрей техническими вопросами интересовался меньше, ему была важна душа во всём. «О, гитара! Класс! Умеешь?» – Я изобразил что-то из Макаревича, как мог, что-то неуместное для девятиклассников, задумчиво-ностальгически-философское навроде «Кузнецкого моста» или «Музыки под снегом». Андрей и Влад не стали акцентироваться ни на качестве моей игры, ни на избранной мною тематике. Влад чего-то собезьянничал на струнах ужимистое. Андрей покатился на диван от смеха. Было как-то просто, раскованно, по-дружески.
И они вдвоём стали частенько заходить. Я обычно бывал дома один: моя парализованная бабушка (мамина мама) тогда находилась под присмотром тёти Риты (маминой старшей сестры), родители были на работе, Вадим (мой брат) – в армии. Моё гостеприимство тоже сыграло не последнюю роль, я думаю, в том, что мужская половина нашего класса сделалась такая сколоченная. Позже ко мне стали захаживать и другие ребята: Тимофей Вестницкий, Мишка Шигарёв, Дима Васин; раза 2 даже Мишка Руднев забегал.
Помню наш футбол, тогда же, в сентябре, в боярышниковую, тихосолнцевую пору на поле перед школой. Играли не так, как в средних классах. Не с бешенством, подкалыванием, полудраками и выпендрёжной злостью, «по-Бармаковски», а весело, смешливо, почти грациозно «по-венчуковски». В ту пору Андрей больше всего сошёлся с Андреем Полозовым. Он дал ему прозвище «Чи́та», а тот Венчуку – «Чи́на». Понятия не имею, откуда они взяли эти имена, откуда-то из телевизора-поди. Но звучало смешно, по-доброму. Полозов играл в футбол неплохо, Венчук – тоже, остальные, как могли, подстраивались. «О, Чина, лови», – кричал Полозов. «Чита, на ход», – голосил Венчук, прыгая размашисто, по-тигриному, пародийно. Когда кто-нибудь из них падал или мазал, другой валился на землю и пронзительно хохотал. «Чина, ты меня ухохатываешь», – надрывался Полозов, катаясь по земле. При этом нельзя сказать, что в целом футбол превращался в комедию. Просто игралось весело, душевно. Я был в футболе незаметен, но мне было приятно там быть.
С Тимохой Вестницким и Мишкой Шигарёвым, своими главными будущими товарищами по институту и походам, я подружился далеко не сразу. Они перешли из «А»-класса с Андреем Ржановским и Мишей Бородиным: вся эта компашка, в отличие от вечно над чем-то смеющихся шалунов «гэшников», была какая-то скорее отстранённая и «неродная». Вестницкий был с виду преимущественно угрюм и как бы молча жизнезнающ, Шигарёв – взбалмошен, вздорен, громок и неприкаен. Я даже не сразу понял, что эти двое – товарищи с детства, чрезвычайно крепко друг от друга зависящие. Впрочем, о них – после, постепенно.
3.2. Баськов и баскетбол
В то время в 12-й школе появился новый физрук. Баськов Александр Владимирович. Между собой мы называли его «Шурик», а в лицо «Саныч». Он не возражал. Возраста он был неопределённого. Что-то между 30 и 35, но может и старше. Пышненький, невысокий, блондинисто-кучерявый, с добрым, круглым, пшенично-усатым двуподбородочным лицом. Он был как будто и этакой квинтэссенцией трёх васнецовских богатырей, и одновременно – каким-то ручным, мягким и домашним. Голос – гладкий, не «физруковский», задушевный. Походка вроде бы и сосредоточенно-медвежистая, мужественная, но при этом опять же – какая-то округлая, мягкая.
Баськов был из тех немногих людей, которые умеют быть наравне с детьми, но при этом не выпускают из рук свою гладкую, мудрую власть над ними. Помню, на выпускном, когда учителя приглашались на подиум по одному, все (включая мужчину-историка) заслужили сдержанные аплодисменты у зала. Когда же был приглашён Баськов, взорвалась овация.
Спортзал превратился для многих из нас в подобие «второго дома». Мы заходили в физруковскую каморку по одному и гурьбой, чтобы потрепаться о том – о сём, сыграть с Шуриком в шахматы, просто молча посидеть в этом душевном, гостеприимном Шуриковом «облаке». В шахматы Шурик играл на книги. Проиграл – неси книгу. Историческую. Первый ход делал почему-то всегда уверенно от слона. Партии получались напряжённые. Проигрывал Шурик редко. И был принципиален (вот это, как раз важное для детей, – принципиальность в чём-то не особо для взрослых серьёзном, но для детей – наоборот). К примеру, несу ему за проигрыш книгу «Томек у истоков Амазонки» – что-то такое подростково-естествоиспытательно-приключенческое. Саныч вертит книжку в руках:
– Это чего?
– Принёс. За прошлый проигрыш.
– А про что тут?
– Как парень задорный путешествует по Амазонке. Крокодилы там, туземцы, опасности. Пираньи ещё.
Саныч брезгливо морщится:
– Гоньша, ты же знаешь, что я такое не читаю. У тебя разве дома ничего исторического нету?
Начинаю ныть:
– Са-аныч. Это же, правда, интересная книга. Берите скорее, и пойдём следующую партию играть.
– Никаких партий, пока нормальную книгу не принесёшь. Ты же знаешь, про что я люблю. Про Петра Первого, например.
– Я вам приносил, а вы не взяли.
– Это Толстого-то? Я уже читал. Ищи внимательнее. Нет про Петра Первого, ищи про Бориса Годунова.
– Такого у меня нет.
– Ищи, Гоньша. Всё, не приставай, – и лыбится в свои пшеничные усы дружелюбно-ехидно, глядя на меня, огорчённого, искоса.
Продолжаю ныть, но он отмахивается. Делается суров. Из мягкого Поповича в грозного Муромца игрушечно трансформируется с палицей пупырчатой с запястья свисающей. Отлепляюсь.
Наибольшая «заслуга» Баськова перед нами в том, что наши старшие классы прошли под эгидой баскетбола. Он организовал баскетбольную секцию, которая проходила дважды на буднях по вечерам и утром в какой-то из выходных. Секция существовала и до него, но какая-то бестолковая, – под надзором другого физкультурника, Карасёва Станислава Михайловича; «Стас» был грузен, криклив, в крике даже злобен, и вовсе не душевен. На секцию приходили абы кто и организовывалась она абы как. «Стас» выбрасывал в зал три-четыре мяча и уходил в каморку, мол, играйтесь, как хотите.
При Баськове всё составилось задорно, с умом, взаимопониманием, и дверь в каморку распахнулась. Если моя квартира объединила троих-четверых, то баскетбол объединил всю мужскую половину класса. Даже Мишка Шигарёв, совершенно неспортивного склада парень, приходил посидеть на лавочке, под бочок к уже находящимся там девчонкам-болельщицам. Смешливый Венчук под всем этим баскетбольным соусом присвоил кое-кому прозвища. К примеру, из «ашек» в наш класс перешёл Андрей Ржановский, чрезвычайно странный субъект, сын одной из учительниц начальных классов. Был он уродлив, несуразен, тихоголос, беспричинно улыбчив и малоконтактен. Так вот, ему Венчук присвоил звание Спонсора нашей баскетбольной команды (слово, только-только входящее в моду в те времена). Прозвище «Спонсор» необычайно крепко легло на Андрея Ржановского; сам он был не прочь его принять на себя, несмотря на то, что кто бы и в какой ситуации с тех пор ни произносил слово «спонсор», это вызывало раскат весёлого смеха – видимо, Андрей привык, что над ним перманентно потешаются во все времена. Как ни странно, это вовсе не выглядело как издевательство; напротив, Андрей как будто воспринял прозвище, как нечто странным образом возвышающее его статус в компании, – это было одновременно и смешно, и, непонятно почему, действительно растепливало наше отношение к чудно́му Ржановскому.
Не столь благоприятно, к сожалению, сложилось с Максом Мальковым – тоже сыном уважаемой учительницы младших классов. Макс был какой-то узко-«правильный», не вписывался он в компанию. К тому же, кажется, эта его демонстративная романтика с Сёмгиной многих слегка раздражала. В результате Саша Данилов, «гэшник», чернявый, с крупной родинкой над углом губы, маленький, шустрый, крепкий и смешливый (по жёсткому, прямолинейно-смешливый) пару раз задирал Максима в мужской раздевалке спортзала. (К слову, дрянное место эта раздевалка. Почему-то именно там снимается с людей тот некий налёт приукрашивания себя, делания; как будто бы открываются какие-то карты. Слишком близки тела, слишком перемешивается энергия этих разных тел и разных личностей, кому-то неуютно, кто-то испытывает необходимость в низменной искренности. Это место грязных анекдотов и мерзких поступков. К примеру, именно в раздевалке в 8-м классе Маслуха демонстрировал нам со своей енотовой улыбочкой засосы на своей спине, – экий он герой! И именно там, на предыдущем, «добаськовском» баскетболе хулиган Колесов (не помню его имени) помочился в зимнюю меховую шапку Жени Лаврентьева и аккуратно поднёс её к нему, как бы извиняясь, как бы это вышло случайно. «Лаврен, извини, Лаврен, я, кажется, пос. л в твою шапку», – и улыбается, и смотрит, смотрит на Женю, как будто он его близкий друг, как будто он действительно извиняется, как будто ему неудобно. «Зачем ты это сделал?» – голос Жени с логопедически-навеки-невправляемыми грубоватыми дефектами придавлен, тих, требователен. Но это его край. Лаврен умеет драться, и хорошо умеет (я это видел), но с Колесовым он бы не стал драться. Колесову всё равно. Он из тех, кто убьёт и сядет. И поэтому Женя повторяет на одной ноте: «Зачем ты это сделал?». А Колесов глумится дальше: «Ну извини, извини меня, Лаврен», – и всё держит, держит перед ним эту идиотскую шапку. А нас вокруг человек шесть, все притихли, смотрят. Игра на нас ведь, и мы смотрим.)
И когда Саша Данилов «нарвался» в раздевалке на Макса Малькова, мне стало зверски не по себе. Как напоминание! Мне же уже почудилось, что оно осталось позади, в средних «ПТУ-шных» классах, вот всё это: издевательства, пренебрежение, агрессия, соревнование, глупость, мерзость. А оно и тут… Но обошлось. Без драк. Мимолётно. И так и осталось, – вернулось всё к статус-кво. Саша Данилов до выпуска остался таким же по-«гэшному» смешливым (мы вместе ходили к репетитору по физике), а Максим так и просидел оба класса, вцепившись в Ларисину руку…
У нас действительно сформировалась неплохая команда. Андрей Венчук с Владом Сотовым были высокие, крепкие и прыгучие, при этом Андрей неплохо попадал. Он как-то интересно выгибался корпусом назад от ставящего блок и из такого положения бросал мяч, удивительно метко. У Влада тоже была своя манера. Немного дубовая и однообразная. Он любил по-лосиному проходить от центра едва-едва за 6-метровую линию по правому флангу и почему-то именно оттуда делать бросок. И обычно мазал. С игры он неплохо попадал, но вот въелся в него этот его фирменный проход, и он не собирался от него отказываться. Кажется, Андрей даже однажды прямо сказал ему: «Влад, чего ты упираешься? Ты же не попадаешь! Лучше разыгрывай мяч». На что Влад едва ли не обиделся, и упорно продолжал свои лосиные забеги.
Я был одного роста с ними, но тощ, не прыгуч и глистообразен. Впрочем, я года два до этого уже плотно занимался баскетболом и усвоил какую-никакую технику, любил водить мяч и довольно часто попадал с игры, то есть, в целом, для команды был более или менее полезен.
Димка Васин (ещё один весёлый «гэшник») был умеренно крепок, невысок, но по-своему техничен, и из-под кольца почти никогда не мазал.
В какой-то момент к команде примкнул Тимофей Вестницкий. Комплекция у него была занятная. Ростиком с Димку Васина, но ручки у него какие-то нежные. Сам крупненький, но почему-то не скажешь, что толстый. Попадал он хорошо примерно от штрафной линии, водить мяч не любил. Играл в пас. Тимоха, видимо, комплексовал из-за этой своей непонятной фигуры. Поэтому, когда нам вздумалось сделать всей команде одинакового покроя майки с номерами, Тимоха от майки решительно отказался и продолжал приходить на игры в какой-то своей излюбленной продольно-полосатой синей олимпиечке.
Мне же мой 12-й номер был люб. Я впервые в жизни ощущал себя значимым в коллективе. Не тем, кто на перемене осторожно идёт по стеночке, чтоб случайно не быть увиденным кем-то из хулиганов и не быть побитым с размаху портфелем за то, что неосторожно попался в поле зрения одного из хозяев жизни.
Ближе к концу года Баськов затеял общешкольный баскетбольный турнир. Каждому младшему классу была дана фора в 10 очков. Выглядело это страшновато. Получалось, к примеру, играя с пятиклашками, мы должны были забросить двадцать мячей, не учитывая их игры против нас. Мы собрались командой в рекреации и стали продумывать тактику. При этом Венчук был серьёзен, что случалось нечасто.
– Короче, – сказал он. – Дима будет бегать у них под кольцом, а все мы будем ему пасовать. Прямо сразу, с центра. Дим, сможешь?
– А чего бы не смочь? – шмыгнул носом Димка Васин.
Тактика всем приглянулась.
Впрочем, вышло всё гораздо проще. Очков до шести следовали тактике. Димка успешно забрасывал. Но потом все поняли, что пятиклашки нас не догоняют и до нас не допрыгивают, и мы просто взяли их в осаду. И игра получилась в одно кольцо.
Примерно так же бодро мы преодолели 6-й и 7-й классы. А вот с 8-м всё оказалось не так просто. У них была пара-тройка знатных игроков, и они вцепились в эту свою фору, и уступали медленно-медленно, по очку в 5 минут. Кажется, нам еле-еле удалось сравнять счёт только к самому концу игры. Мы всё-таки победили с минимальным отрывом, но удовлетворения от победы не было. Мы задумались: если с 8-м классом так тяжело, что же с 10-м будет?
Потом играли с 9-м «Б». Это оказалось просто. Там было три или четыре неплохих игрока, но в росте и сплочённости они нам явно проигрывали. К тому же играли без форы. Наконец, случилась финальная битва с 10-м классом. В той команде играл ранее обозначенный Женька Лаврентьев, сильный баскетболист, и ещё трое крепышей, прессинговать против которых мне, к примеру, совсем было невмочь. Тут случилась обратная ситуация. Мы ухватились зубами за нашу фору и дрались, как тигры за каждое очко. Все были в ударе, особенно Венчук. И мы выиграли!
Шурик вручил, помнится, нам грамоту, одну на всех. Каждый из нас расписался на ней сзади. Вечером мы шли по ранневесенней слабо-электрической темноте, счастливые и лёгкие, единые. Расходиться не хотелось. Было так, будто мы вгрызлись в жизнь, оторвали от неё сочный, пахучий кусочек и теперь вот смакуем, балуемся, как бы не желая его полностью проглатывать. Хорошо!..
Впрочем, мы не были такими уж героями. Баськов составил сборную школы по баскетболу. Добавил к нам Женьку Лаврентьева из 10-го и двоих парней из 8-х. Андрей Венчук был, конечно, главарь. Баськов называл его ласково «Анджей». Мы играли со сборными других школ и не сказать, что оказались на высоте. Кажется, дважды удалось победить 44-ю, один раз 20-ю (а они трижды побеждали нас) и один раз 61-ю. Думаю, соотношение побед к поражениям за всё время было 5 к 10. Таков, говорят, спорт. Побеждает сильнейший. А я, к примеру, был сопля-соплёй. Саныч говорил мне своим как всегда сказочным голосом, но таки с недовольно-наставительной интонацией: «Гоньша, ты – студень!» Думаю, он подразумевал не столько мою физическую немощь, сколько явный недостаток бойцовских качеств. А я, действительно, мог прессинговать только играя против таких же дохлых, как я. В баскетболе, конечно, важна техника и командная игра, умение играть в пас, но и прессинг тоже абсолютно необходим. Видя слабость в нашей команде таких как я, Шурик за два года так и не решился перевести нас из зонной защиты в персональную.
В одном из матчей – не помню, какая школа играла против нас – два плотных парня, видимо, нащупали во мне нашу слабость и всю игру били вдвоём в мой фланг, и хотя мы были одного роста, я ничего не мог поделать и чувствовал себя как кролик под их напором. Так и проиграли.
Однажды почему-то ни Андрей, ни Влад на игру не пришли, и я остался самый высокий в команде. На разминке я выпендривался-техничил под кольцом. Противники, наблюдая, видимо, решили, что я самый «крутой». В игре ко мне приставили персонального опекуна. Он хоть и был ниже меня, но отбирал почти все передаваемые мне мячи. В той игре нас «сделали» почти всухую.
Правда, иногда на меня находило баскетбольное «вдохновение». И водилось, и обводилось, и бегалось, и пасовалось, и принималось, и подбиралось, и забивалось. Порой даже наплывало ощущение, что я задаю тон всей команде, но такое случалось редко.
Ещё была проблема с попаданием в кольцо. С игры это получалось лучше: в прыжке, в том числе и крюком; пару раз даже лёг трёхочковый бросок. На тренировках же я часто уходил в скуку и отчаяние от своей несносной мазилистости. Баськов говорил мне: «Надень очки, ты просто не видишь». Однажды я натянул на дужки очков резинку и попробовал играть, но очки так больно вдавились мне в нос, что я плюнул. Когда играли с 62-й школой, мне выпали решающие штрафные броски. Достаточно было забросить один из двух мячей, и мы бы выиграли. С нами пришли девчонки-болельщицы, одна – тихо, до помидорового покраснения, влюблённая в меня маленькая Вика из 8-го класса. Почему-то в тот момент я подумал об этих девчонках. (Вот, сейчас я могу сделаться героем.) Со штрафным броском всегда как-то непросто. Иногда поймаешь движение, и оно идёт, попадание за попаданием. Но видимо ответственность и избыточный контроль над техникой всё портят и начинаешь мазать. Если напрячься и изо всей силы задуматься именно над техникой, верняк, – будет мимо. И вот, тогда я подумал о девочках, подумал об ответственности. А потом подумал: «Такому не быть. Я никогда не был героем. И невозможно, чтобы сейчас им стал». И я оба раза промахнулся. Мы не подобрали. В последней атаке противники забросили решающий мяч, и мы проиграли.
Меня тянуло быть разводящим. Но по росту мне следовало стоять в защите в задней линии зоны, а в атаке быть под кольцом на подборе. Но прыгун во мне умер ещё до рождения, и в прессинге я обычно проигрывал.
Радостно, что за все эти «косяки» мне не доставалось от команды. По крайней мере, я не помню, чтобы кто-то серьёзно мне выговаривал. С Андрюхой Венчуком всё текло как-то по-шутейному, просто, без нагнетания. Был, пожалуй, только один не очень приятный для меня момент. На тренировки иногда приходил низенький, хлюпкий, уродливый восьмиклассник с чудно́й фамилией Граус, – естественно, сразу переименованный Венчуком в «Градуса». Я в тренировочной игре проходил по флангу и решил в прыжке бросить по кольцу. Граус – ниже меня на полторы головы – поставил мне блок, и я досадно упал. И Андрей громко засмеялся: «Не могу. Градус Игорька свалил!» Мне сделалось кисло. Да, я «дистрофик». Сполна хлебнул из-за этого в младших классах. И вот уже настроился, что всё позади… А тут… Но такое случилось лишь единожды. Тем более, это действительно выглядело комично. Почему Андрей или кто-то другой так уж сильно должны ради меня – тайно закомплексованного в виду многолетней эмоциональной травмы – сдерживаться?
Я уверен, для Андрея, Влада и других баскетбол сам по себе не был чем-то главным. Главное нам представлялось в нашей дружбе, единстве. Ну и просто похахалиться, конечно. Наблюдать жизнь, видеть в ней те моменты, за которые жизнь можно поднять на смех, засмеяться первому, и если компания тоже смеялась, то это, видимо, и есть – дружба. Например, мы впятером шли договариваться на игру с 20-й школой. Пришли на школьный двор, там кругами бегали малыши. В сторонке стоял дедушковидный, но молодцеватый человечек в олимпийском костюме. Мы закономерно решили, что это физкультурник, а стало быть, возможно – баскетбольный тренер. Подошли.
– Здравствуйте, – сказал Андрей. – Мы из 12-й школы. Пришли договориться поиграть в баскетбол с вашей командой.
Дедушка-тренер внимательно и, кажется, немного испуганно оглядел нас.
– Так. Это понятно. А с кем вы играть-то будете?
Мы переглянулись. Видимо, Влад решил, что сможет выразить мысль более чётко – хотя дикцией он владел хуже, чем Андрей – и повторил всё то же самое с расстановкой:
– Мы из сборной команды по баскетболу из 12-й школы. Хотим договориться с вами о товарищеском матче.
Коричневый в тонкую полосочку тренер внимательно смотрел на Влада.
– Так. Это понятно. Вы ребята из 12-й школы?
– Да.
– Старшие классы?
– Да.
– Команда по баскетболу?
– Да.
– А с кем вы играть-то будете?
Андрюха Венчук беззвучно согнулся пополам. Влад, широко улыбаясь, продолжил беседу:
– У вас же в школе есть баскетбольная команда?
– Есть.
– Ну вот. Хотели договориться.
– Это понятно. А с кем вы играть-то будете?
Влад, видимо, «пошёл на принцип» и продолжил беседу. Но Андрей не мог. Умирая от беззвучного смеха он отбрёл в сторонку, и все мы, кроме Влада, отбрели вместе с ним. Влад продержался ещё минуты три и, попрощавшись с удивительным человеком, присоединился к нам. Мы шли обратно по асфальтовой дорожке между 44-м и 42-м детскими садиками и хохотали. Периодически кто-то из нас слегка толкал другого и, делаясь серьёзным, спрашивал: «А с кем вы играть-то будете?». И снова – полуистерический смех всей компании.
В конце концов, об игре договорился сам Шурик. Мы в тот раз проиграли, и крупно, с разрывом очков в двадцать. Матч вышел тяжёлый, вязкий. Там было четыре парня размером с Андрея и один маленький, меткий. Четверо нас прессовали, а маленький забивал, почти не промахиваясь. Именно тогда я забросил из-за 6-ти метровой линии. В нашей команде тогда играл восьмиклассник по фамилии, кажется, Бышев. Он был двухметровый, молчаливый, квадратноголовый и амимичный. В фирменной алой майке. Казалось, его родили специально, чтобы он стал баскетболистом – после 8-го он ушёл в спортивную школу, по-моему. Так вот, этот Бышев, когда я вёл мяч, встал аккурат на 6-метровой линии, расставил в стороны руки с размахом тоже метра в два, оттесняя защитников, и крикнул мне: «Бросай!» И я бросил. И попал. Было гордо. Хотя на той игре я принёс от силы ещё только очка четыре. Зато Андрей Венчук учудил: ему дали далёкий пас под кольцо, а он применил верхний принимающий воллейбольный приём в две руки, и – мяч в кольце! – Таков был Венчук: он всё старался перевести в смех. Это подняло нам настроение, но не спасло от крупного проигрыша.
Мы шли с игры домой. Было смурно́. Осень. Пустынные, полутёмные перестроечные дефицитные улицы. Народу на улицах – только мы; остальные – одиночные, закутанные, случайные, мрачные. После победы легче ощущать мир, дружбу и единство. А тут…
Вяло говорили об игре.
– Всё-таки мы старались, выложились, – сказал Венчук.
Мы лениво поугукали.
– А вон Игорь даже 3 очка забил, – напомнил Васин.
Народ поддакнул.
– А Андрюха-то, Андрюха! – вдруг захихикал Влад.
Воззрились на него. Влад спародировал тот Венчуковский волейбольный заброс. Все засмеялись. Смеялись минуты три. Потом перестроечная осень надавила, и мы, выходя на улицу Афанасьева, снова приугрюмились. Тем для разговоров у нас было не много.
3.3. Дина
Хотя этот персонаж имеет крайне отдалённое отношение к моей походной жизни (как, собственно, и многие другие, здесь уже названные) проскользнуть мимо него повествованию не удастся при всём старании.
Думаю, именно 5-го сентября, в понедельник, мы постояли около моего дома с Лёней Бережнёвым (надо же, я его в этой книге уже-было похоронил, а он знай воскресает; и думаю – и ещё воскреснет).
– А ты чего в наш класс не пошёл? – спросил Лёня.
– Да я на перекличку не явился, меня и сунули в «А» без спросу.
– Ясно. А у нас 3 новые девчонки.
– С чего бы они к вам повалили?
– А из других школ. Мы же «педагогический» класс.
Я кивнул кверху подбородком.
– Ну и как девчонки?
– Нормальные, – спокойно сказал Лёня (почему-то, когда задаются такие вопросы и даются такие ответы, собеседники умудряются владеть полнейшим взаимопониманием, без всяких оговорок). – У одной уже дочь годовалая…
– Ничего себе!..
– Ага. Мама-девятиклассница.
– Странно. Ну что ж, бывает, видимо. Другие две, надеюсь, ещё не мамы?
– Не-а, – усмехнулся серьёзный Лёня. – Они обе из 3-й школы. Подруги. У одной фамилия Пьянкова, у другой – Ежова. Мы их прозвали втихаря «Пьяный ёжик»* [* – для непосвящённых, «Пьяный ёжик» – это одна из русскоязычных адаптаций композиции «One Way Ticket» диско-группы «Eruption», что-то о том, как «пьяный ёжик влез на провода», и там его по-матерному ударило током].
– Весело там у вас, – кинул я вбок брови эмпатично.
– Да, Игорь. Так что зря ты не в нашем классе. Вот, планируем уже, в какой день дискотеку устроить…
На дискотеку меня Лёня не позвал. Может быть, потому что не имел полномочий.
На самом деле, я не считал, что в «Б»-классе «весело»: вот почему «нормальным» девчонкам необходимо присваивать такие похабные кликухи? – всё это попахивало пережитками младших и средних «хулиганских» классов, тем, от чего я отчаянно надеялся уйти и, кажется, уже начинал видеть, как сбывается эта надежда (не в «Б», а в «А» классе). К слову, у нас девчонки были «так себе». Какие-то чрезмерно тихие и преимущественно чопорные. Как будто они в школу пришли учиться, и до всяких там венчуково-полозовских веселящих «гэшных» инфантильных энергий им дела нет. И общение с женским полом в нашем классе «не срасталось». Но нам, ребятам, это отнюдь не мешало веселиться, возможно, даже наоборот. Красивых девочек было только две. Лариса Сёмгина, в которую, как уже дважды упоминалось, вцепился мёртвой хваткой Макс Мальков, и Света Безъязыкова (надо же, ведь не так часто в русских фамилиях бывает твёрдый знак). Света знала себе цену. Под стать другим девчонкам нашего класса, она как задрала свой милый носик с 1-го сентября, так два года и не опускала его ни на миллиметр. Конечно, она была очень и очень миловидна, и даже красива. Но голос ровный, не особенно выразительный, с надменцой.
3.3.1. То, что в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо» все, кроме мудрого Министра-администратора, называли «любовью», или анамнезис морби
До той поры эта штука два с половиной раза робко касалась меня своим мозжечково-атаксичным, непредсказуемым фредди-крюгеровым пальцем. Вкратце.
Эпизод 1. Между 6-м и 7-м классами в летние каникулы я был отправлен в некий пионерский лагерь. Там с 21.00 до 22.30 (времени кефира) едва ли не еженощно проходили дискотеки. Крутили Дассена, «Снег кружи́тся, летает и тает» и странную песню «Квадратный человек с квадратной головой». Популярны были именно медляки. Как будто специально, чтобы пионеры приглашали на танец пионерок и, вместо того, чтобы думать о карьере строителя коммунизма со всем, что к этому прилежит, позволяли соскальзывать своим мыслям к зыбким плотским удовольствиям и становились незрелыми и неблагонадёжными с точки зрения морального кодекса того же Строителя. Все приглашали девочек. Следовало приглашать и мне, – как минимум, дабы не прослыть и вовсе никчёмным. Под этим ли давлением или сам по себе, но я немного заскучал по одной не особо взрачной, но, кажется, довольно миловидной девочке. Имени, конечно, не помню. Однажды она дала себя пригласить, и мы молча танцевали. Дальнейшие мои попытки были решительно отвергнуты. По слухам, она имела иной предмет… (Иной предмет, хм.) Для чего там у пошлых классиков бывают «предметы»? Для «воздыхания»? Кажется, так. Всё это прошло мимолётно и почти безболезненно.
Эпизод 1.5. То было апрельской порой в 8-м классе. Мы ехали с мамой в троллейбусе по улице Узбекистанской, – возвращались из своего (вынесенного, как положено, ровно на противоположную месту постоянного проживания окраину города) социалистического садика-огородика. Я сидел у окна и смотрел в окно. На остановке «7-я гор. больница» стояли в ожидании, видимо, какого-то другого троллейбуса две – три девчонки. Я стал гипнотизировать одну из них, белокурую. Она очень быстро это уловила и посмотрела на меня. Я не отводил пронизывающего взгляда. Девочка без малейшей тени недоумения, смущения, неудовольствия, раздражения или улыбки наиплавнейше влилась в этот вызов. Она смотрела на меня серьёзно, дерзко. Её глаза говорили твёрдо, чеканно: «Ага. Вот такой ты, да? Да нет, ты слабак, я уверена! Ничего не стоит этот твой псевдоромантический гипноз. Вот смотри, как ты сейчас соскочишь!..» Я продержался секунд 15. Белобрысая, жёсткая, энергичная, исполненная невероятной силы девчонка продолжала с диким вызовом смотреть на меня. Меня прошиб пот. Я отвернулся и сделал вид, что вслух смеюсь. Бросить беглый взгляд обратно на ту девчонку я не осмелился бы и под пытками.
– Чего смеёшься? – спросила мама.
– Да так, – всверлил я одним только языком куда-то себе в живот.
Троллейбус тронулся, но наблюдательная мама успела оценить обстановку. Хмыкнула.
– Что? Пробуешь, клюют ли? – слегка толкнула меня локтем и подхихикнула.
Я подумал: надо же, мама подобрала вот такое вот название этой ситуации! Ну что ж, может быть, так и есть. Может быть, я созрел, и есть во мне эта сила «того-са́мого»?.. Не зря же эта девчонка так вмагнитилась в меня глазами своими фантастическими под белым-белым тугим круглым лбом! Скорее всего, – обманывал я себя, – она сказала своим подругам, как только мой троллейбус отчалил: «Я только что одного слабака в гляделки сделала!» Но суровый голос жизни нашёптывал нечто страшное, сюрреалистичное и неподъёмное: нет, ничего она им не сказала, а если и сказала, то только так, чтобы отбрехаться. Вы прожили целую вот эту, что называется, «любовь» в этом 15-минутном взгляде. Плохо то, что ты не выдержал и отвернулся, подлец!
Эпизод 2.5. Ну, хорошо. Выходит, я созрел. И что с этим делать? Как раз к концу 8-го я вдруг обнаружил, что в нашем классе есть Света Шамова, тоже с миловидным лицом, к чему добавилось и то, что она вдруг гармонично и изящно огруди́лась, белокуро окудрявилась и фигурно изогнулась. Сама она была тихо-среднеклассовая, не отличница, но при этом и не сверхпростушка. Всё это вызвало во мне к ней чувство нигде не высокое, а жадно-похотливо-надменное. И я даже, чтобы обозначить это своё к ней чувство, послал ей странную открытку грубо-иронично-скабрёзного содержания. На другой день я увидел, как она, брезгливо глядя на меня, что-то коротко шепнула своей соседке по парте.
Тут же я обнаружил и то, что я не один приковался к ней этой похотью. Однажды, проходя мимо пустой майской рекреации, я увидел, как Женя Линьков пристаёт к Свете, называя её «козочка», а она откидывает возмущённо его руки, но убежать не пытается и даже как бы невольно подсмеивается на высоте своих протестующих возгласов. «И всё-таки она простушка», – подумалось мне с каким-то мстительным чувством, направленным на себя, на неё и на Линькова. И ещё я подумал: «Да уж, это тебе не твои открыточки. У некоторых получается действовать прямолинейнее».
Тот Линьков, кстати, был одним из трёх наших хулиганов. Худой, удлинённый и ехидный, как волк; он не был безобразен, как тот же Дропыч, а строил из себя утончённого хулигана. Казалось, у него железные нервы. Я однажды наблюдал сцену, как наша классная, англичанка, что-то сказала при нём о нём его интеллигентно одетой, высокой, строгой матери. Услышав сказанное учительницей, мама Жени влепила ему тяжёлую, на всю тяжесть целой ладони пощёчину; голову Жени даже уметнуло в сторону. Я смотрел. Вся троица стояла у дверей класса в рекреации. Женя не сказал ни слова. И не изменился в лице; в нём была только молчащая жёсткость. Он повернулся и твёрдо пошагал по рекреации прочь в сторону коридора.
Однажды я ехал на велосипеде, а Линьков с каким-то ещё хулиганом из другой школы на своих велосипедах «затёрли» меня. Тот, другой, хотел отнять у меня деньги, но Женя сказал: «Ладно, это Игорь Разумов из моего класса. Оставим его, он списывать даёт. Поехали дальше». Когда-то потом, лет через 6, я встретил Линькова случайно на автовокзале. Он сказал, что находится сейчас «на химии». Что до Светы Шамовой, то, наверное, после 8-го она отправилась в своё какое-нибудь «ткацкое ПТУ», и я мгновенно забыл о ней.
Вот ведь, на волне всех этих воспоминаний всплыло ещё два эпизода про мой гнусный 8-й класс на эту тему.
Эпизод 3.5. Женя Штиц, красавчик, научил меня «мацать баб». Дело оказалось нехитрое. Просто подходишь и «мацаешь». Понятно, что к каждой это не применишь, а то ведь и морально, и физически по шее можно получить. Но Женя указал мне на одну. Таню Смирнову, – как бы она не против. И я раза два это применил. По шее не получил, но меня оттолкнули с негодованием. И, благо, я отстал от этой практики.
Эпизод 4.5. Была ещё (Света?) Михайлова. Простая, неумная, полутолстая, но развесёлая двоечница. В 8-м классе было несколько маленьких дискотек, и она, видимо неровно ко мне дыша, приглашала меня на «белые» танцы. Причём для неё каждый медляк был «белым». Я танцевал, но ничего Михайловой этой не обещал, и, скорее, пользуясь её задорной глупостью, издевался над ней. Она издёвки принимала весело, как, видимо, и всё остальное в своей простой жизни.
3.3.2. Первая встреча
Да, Света Безъязыкова была красивой девчонкой. Это признал в нашей случайной приватной беседе и весельчак Саша Данилов, видимо, в определённой степени приплюснутый её красотой. Красота привлекает… Привлекает-то привлекает, а вот чувство выходит какое-то скорее эгоистично-самоутвержденческое. Мол, а я ведь, небось, тоже неплох. Она курица, а я – петух. О́на какой хвостатый! И ежели такова красавица обратит на меня внимание, то пусть же все знают, каков я петух! Какое-то такое чувство. И как-то так я смотрел на Свету Безъязыкову. Однажды, на уроке литературы я бросил взгляд на неё сбоку (мы тогда сидели на третьих партах, я – в среднем ряду, а она – у окна) и увидел, как она, что-то записывая в тетради и периодически поднимая внимательный взор на учителя, вряд ли осознавая это движение, почесала попу. Даже не попу, а вот этот изящный, гладкий переход попы в поясницу. Слева, левой рукой. Увидев это, я почти мгновенно перестал испытывать к Свете то чувство, чем бы оно ни было. Красавицы не должны чесать попу. Тем более так буднично, между делом. Им этого нельзя!..
Хотя, нет. Что-то такое оставалось. Ибо чесание попы – хоть и шокирующий эпизод, но бытовой и доступный для возможности игнорирования. Полное охлаждение произошло несколько позднее. После одной из дискотек 9-го «А», той же осенью, в поздне-вечерней темноте мы провожали некоторых девчонок до их домов. Света жила на Новосельской, в одной из пятиэтажек у леса. Когда мы подходили к её подъезду, я поравнялся со Светой и спросил:
– Так ты здесь живёшь?
– Да, я здесь живу, – просто ответила Света.
– И это твой лес? – показал я рукой.
– Да! – сказала Света с нетерпеливым ударением, – это мой лес.
Вот тогда я и остыл окончательно. Её интонация говорила примерно следующее: «Нет! Вот это – обычный лес. А это – обычный дом, в котором я живу. А ты – выпендрёжный, глупый, никчёмный романтик, и меня если не воротит от таких, то уж я точно не позволю себе вестись на такую дешёвую незрелость. Ибо я вполне себе серьёзная, стоя́щая обеими моими красивыми ногами на земле девушка. Усёк примерно?» Я усёк. И после этого эпизода больше ни разу о ней не думал в романтическом смысле. Помню только, встретил её на остановке Прокопьевской лет через 5. Её красота стала более искусственной и, соответственно, менее тревожащей, а надменность – более отточенной. Со мной она поговорила в высшей мере сухо. Если она и улыбнулась мне, то в улыбке была точно та же пренебрежительная, лягающаяся интонация.
Всё. Всё вышеозвученное в этой главе – всего лишь блёклая предыстория, вялый, тусклый фон того, что случилось со мной буквально на другой день после разговора у подъезда с Лёней Бережнёвым.
У «Б»-класса основной резиденцией являлся кабинет биологии. У нас как раз тогда должен был быть урок здесь, и на перемене мы заходили, а «бэшники» выходили. Я в толпе подошёл к своей третьей парте у окна, а новая девочка как раз встала из-за этой парты уходить, и мы посмотрели друг на друга. И меня накрыло. И она это сразу увидела. Потому что я ошалел. Я не собирался играть с ней в гляделки, но взор у меня сделался парализованным. Меня подстрелили. 15 секунд, конечно, мы друг на друга не смотрели. От силы две-три. Потом она осторожно и слегка отстранённо обогнула меня и пошла прочь, медленно. Немного опустив голову. Как бы задумчиво. Тогда я не представлял себе, как трактовать ту задумчивую медлительность, когда она уходила после нашего первого обмена взглядами. Я, пожалуй, робко льстил своей надежде, что её серьёзно зацепило моё ошарашенное внимание, и она прониклась чем-то вроде признательности (почему-то грустной). Но позже, намного позже, мне почему-то представилось с чрезвычайной ясностью, что она тогда каким-то дивным образом прочитала в моём взгляде всё, всю нашу дальнейшую пятилетнюю историю, и именно оттого она тогда ушла тихо опечаленная.
Когда я через пару лет рассказал об этой встрече, и о моей реакции на неё, о том, как меня убило на месте, Якову Берману – уверен, эта фигура непременно всплывёт в данном повествовании, – Яков тихо ухмыльнулся во всю свою сметанно-кошачую зубасто-остро-подбородочную еврейскую физиогномию и молвил блаженно: «Феромоны!» Мы, как всегда, распластались на кроватях в его комнате в общаге, с сигаретами, в сигаретово-дымном облаке, и я курил, чтобы уяснить-таки свою взрослость, а Яков просто кайфовал, как это ему свойственно…
Уж не знаю, как там с феромонами, но с той минуты в кабинете биологии я стал другим.
Дина Ежова была обычной девчонкой. У неё была астма, колит и себорея на голове, и всё это попеременно обострялось. Папа у неё был невзрачный, некрасивый, невысокий то ли слесарь, то ли сантехник, мама – кажется, бухгалтер на Текстильной (живой ещё тогда) фабрике имени Фрунзе. Она (мама) как раз была красивая и мягко-прямая женщина, только почему-то жутко задыхалась при подъёме на их пятый этаж. Жили они в 20-й квартире 5-этажного белокирпичного дома как раз недалеко от фабрики Фрунзе. Ещё у Дины была старшая сестра Елена, ей было уже за 20. У Елены «не срослась» любовь с каким-то восточным парнем, и она как раз в то время вышла замуж за разведённого тёмно-кудрявого молодца по имени Артём. Елена с Артёмом жили отдельно в 20-м микрорайоне. Елена внешне походила на мать, Дина – на отца. Объективно Дина не была красивой. Но от неё исходила какая-то такая убийственно-привлекательная сила, что сначала упал Маслуха, потом Юра Стеблов, потом Бармаков, потом – я. Впрочем, упали-то, видимо, все одновременно, но именно в таком порядке она по очереди нас поднимала и аккуратно усаживала рядом с собой.
Дина была как бы комсомольской активисткой, намеревалась стать педагогом и готовилась поступать в универ. Хотя, опять же, не являлась объективно в должной мере ни интеллектуальной, ни эрудированной, ни даже, кажется, усидчивой. Она была невысокая, с круглым лицом; слегка подшепелявливала. Русые, не очень длинные волосы, серо-голубые глаза, круто-выпуклый невысокий лоб. Фигура – гармоничная с ростом, наверное, «оптимальная». Единственный недочёт в фигуре: слегка круглились кнаружи голени, но на это мне указал спустя несколько лет Шигарёв, – сам я никогда не усматривал в этом изъяна. Она танцевала, умеренно заигрывала с мальчиками – как бы старалась изысканно язвить. Характер Дина имела, в целом, оптимистично-задорный, но всё же сквозь него проглядывала в серьёзные и полусерьёзные минуты плохо заретушированная мамина тётечность. Её же подруга, Таня Пьянкова, источала в мир как раз именно безоглядную, простую веселушность, под стать своему папе – я однажды его видел, и мы даже коротко пообщались. Таня жила в перпендикулярной к Дининому дому длинной 9-этажке, и эти две девушки-веселушки были что называется «не разлей вода».
В любом случае, с точки зрения разума, в этой Дине невозможно было бы усмотреть ничего, отчего не совсем простые ребятки (каковыми, каждый в своём смысле, являлись все мы четверо, – плюс неизвестно сколько их осталось в 3-й школе) падали штабелями. Разве что, виной всему была вот эта её, незаметная невинному глазу, если так можно назвать, «эротическая харизма».
Пару дней после того нашего первого взгляда, я ходил тускло, совершенно не представляя, что мне делать с обрушившимся на меня чёрно-золотым удушливым чувством. Но потом случился урок физкультуры, на который почему-то загнали оба наших класса. На том уроке каждый делал, что хотел. Я, к примеру, просто сидел на скамейке. А Дина бегала кругами по спортзалу. Я не знал, естественно, тогда, что она несколько лет занималась бегом. Я смотрел на неё не отрываясь, и меня прижигало, коагулировало и растворяло всё сильнее и сильнее. Бежала Дина грациозно и гармонично, уверенно, по-спортивному, широко, бесстрастно и раскрепощённо. В тот день, придя домой, я отправился в душ. Смывая с себя свой юношеский пот, долго, долго, я формулировал, невнятно вывербаливал наружу всё это неимоверной силы нечто, ворвавшееся в меня.
Папа в детстве (мне было лет семь) однажды задал мне вопрос: в чём смысл жизни? Впрочем, задал он его, конечно же, не мне, а пространству, солнечно-знойно-вечернему. Мы брели тогда по пылевой неровной дорожке с чёрно-слюдяными бликующими камнями среди пыли. Солнце садилось. Нас было двое. Мы брели к нашему саду-огороду, меж двух серых заборов.
Папа вопрос этот в воздухе том так и оставил. А я положил этот воздух в карман, и продержал в кармане 20 лет, пока Библия передо мной не открылась. Библия открылась, когда мне ударило 27. Это было в Просцово (я ту историю описал уже в других мемуарах).
А тогда, в 1988-м, мне было 15. С половиной. Я слушал на катушечном магнитофоне, который мне оставил брат Вадим, уходя в армию, оставленных им же Депешей Мод, и они пели: Little 15. (Впрочем, там что-то про несчастную погибшую девочку, кажется.) Да, 15. И в эти свои маленькие 15 я сформулировал тогда, стоя под душем: смысл жизни – это Дина Ежова. Вот та́к вот! – для меня сегодняшнего, понятно, это глубоко-ироничное восклицание, для тогдашнего – иронии не было ни на 0.0000001 %. И это трудно анализировать. И этому трудно дать оценку. «Феромоны», – промурлыкал надмевающийся своей еврейской псевдомудростью гедонистический Яков. Но даже Яков тогда в моей жизни отсутствовал. Не к родителям же идти с этим!
И что мне было делать со своим новообретённым смыслом жизни? Отправиться «мацать» Дину как Таню Смирнову? – даже краешек подобной мысли представлялся для меня кощунственным. Попробовать пробраться к 9-му «Б» на дискотеку и пригласить её на медленный танец? Наверное, где-то отдалённо это возможно, но как же, как это страшно! – по всем пунктам, начиная даже с того, как пробраться. Там, в этом 9-м «Б», такие ребята-герои… Маслуха, Юрик Стеблов, Мишка Руднев, Лёха Бармаков! А кто я? Тот самый Лошарик, над которым издевались все, включая вот этих четверых хотя бы, за то, что он, будучи «дистрофаном», на перекладине ни разу подтянуться не может! И все-то они, как Женя Линьков, уже кружком своим похабным её окружили, а мне, если я нос свой суну, сделают на моём носу «сливку»* [* – для непосвящённых, гематома, образующаяся на кончике носа в результате его плотного сдавления между межфаланговыми суставами II-го и III-го пальцев кисти]. И Дина, кстати, не исключено, в этом процессе уродования моего носа первая в очередь клокочущую встанет.
Может, попытаться поиграть с ней в гляделки, как с той белобрысой на троллейбусной остановке?.. Только, видимо, и остаётся.
Главное, непонятно, даже в случае положительной реакции, что с этим делать? Целоваться с девочками (не говоря о том, чтобы сексом с ними заниматься) я не умею и боюсь. А Дина – она же богиня. К ней даже пальчиком тихонько прикоснуться страшно. Такая вот случилась со мной… (беда? не беда? горе? не горе? радость? не радость?)… (любовь?) Да, обычно люди этим словом и называют эту вот штуку.
И это, конечно, сладко. Даже ревность светло-печальна. Благосклонность – пляшущий, взрывной, ликующий восторг и щекочущая пряность в душе́. Пребывание в «храме» – чарующее таинство. «Храмом» сделались места её пребывания. А пребывала она для меня в основном в 12-й школе, в том самом месте, которое я никогда особо не любил, поскольку оно было местом нелюбви, пренебрежения, человеко-звериной глупости, порой опасности и унижений, отчуждённого многоглоточного детского шума, тусклой повседневности. Знания я любил, но не до такой степени, чтобы благосклонно сносить всё остальное. Теперь же это место сделалось «храмом», ибо тут ступала её нога, витал незримо её дух и предметы освящались её даже случайными прикосновениями.
Однажды осенним вечером я каким-то образом оказался один в пустом спортзале. Я стоял с баскетбольным мячом напротив кольца, чуть дальше штрафной линии справа. Я прислушивался к звукам школы. Вечером классов было меньше, детский шум случаен, отдалён, сдавлен. Во всё это прокралась позднесентябрьская пахучая змеиная осень, прокралась и расплылась, надавила. Её прохлада мною воспринималась как теплота крови, тихая, слабо-аукающая. Я был поражён изменениями, произошедшими во мне. Всё стало восприниматься иначе. Вот эта осень, к примеру, стала «священной». Её теплота – загадочно-благородной. Я испытывал единение с этой доброй осенью. Под электрическим светом фонарей вяло шевелились её жёлтые берёзовые листья и передавали мне свой тихий восторженный секрет: твоя богиня была здесь сегодня, она проходила под нами, и мы шелестели ей. Я двигался медленно и слушал, слушал, внимательно и зачарованно слушал звуки «храма». Потом я ударил мячом о зелёно-красно-белый пол спортзала. Мяч издал свой банальный звеняще-резиново-деревянный звук и снова оказался в моих руках. Я ударил ещё раз и посмотрел на кольцо. Пребывая в сладостном гипнозе, я молвил вполголоса в пространство «храма»: «Сейчас если попаду, то…». Я не знал и сейчас не знаю, что значило то «то». Посвящение жизни этой «богине любви»? Постановление точки под всем тем, о чём я подумал и сказал тогда, стоя в ду́ше? Просто обозначение, принятие того, что всё это правда, материализация Чувства в виде какого-то вот такого знака? Пожалуй… С одной стороны, я понимал всю смехотворную неопределённость и этого придуманного мной обряда, и значения этого моего «то». С другой, я испытывал некую зубосдавленную решительность и ответственность, как попать-не попасть в грудь противника на дуэли. Я бросил и попал, чисто, гладко. Моё тело спружинило легко, как у сильной большой дикой кошки. А мяч в сетке победоносно сказал: вшшШ.
Я положил мяч в Шурикову кладовку, и отправился наружу, на дорожку перед школой, под берёзово-жёлтые фонари, слушать их магический заговорщический шёпот про меня и мою богиню.
Дина при встрече со мной в разных школьных коридорах вела себя по-разному. Иногда игнорировала этот мой однозначный и в то же время в высшей степени неопределённый взгляд; часто, если случалось перекинуться словами, весело язвила в своей манере; но иногда её ответный взгляд делался тяжёл, печален и вопрошающ. Когда такое случалось, меня охватывала волна бешеной эйфории. Я приходил домой, блуждал по своей комнате, как будто бы пребывая в счастливой, забывшей обо всём на свете невесомости. Видимо, это и было целью моего «поклонения», моей тогдашней любви: ответный понимающий и вопрошающий о конкретике взгляд. О моей любви знают и каким-то миниатюрным краешком принимают её! Вот он – верх счастья! Не нужны никакие поцелуи, слова, общение, обещания, объятия, подавно – секс, а только это: ответный печальный, открытый взгляд.
Всё это, конечно, было глупо. Но ничего иного со своей любовью я поделать не мог. Приходил в школу, каждый день надеялся её встретить; если меня игнорировали – расстраивался, если привечали – приходил в восторг, если не удавалось повстречаться или увидеть – тихо грустил.
3.3.3. Разгар болезни
Досконально помню лишь несколько более-менее конкретных эпизодов/встреч, случившихся в тот год. (Собственно, для Походниады нюансы всей этой тоскливой истории размазывать тонким слоем, действительно, совершенно не нужно. Но мне «под мантию попал»* [* – цитата из фильма «Обыкновенное чудо»] мой колючий перфекционизм. Поэтому, придётся всё-таки всё это изложить. Постараюсь, насколько это для меня возможно, лаконично.)
Эпизод 1. Блок
В смысле, Александр Блок. В том же сентябре приставленной к нашему классу на педагогическую практику потенциальной выпускнице универа пришло в голову провести памятный вечер, посвящённый Блоку. Собралось человек 15 старшеклассников почитать вслух его стихи и даже что-то сынсценировать. Пригласили и меня, и тоже поручили некое задание. Мне было это скучно, Блока я не читал, и, если бы не прознал, что там будет Дина, пожалуй, не пошёл бы. Мероприятие прошло тихо и возвышенно. Дина присутствовала в качестве пассивного зрителя. Я со своим заданием покрасовался, как мог. Универская практикантка ахнула: «Игорь, да ты же настоящий Блок! Просто копия!» Не то чтобы констатация этого сходства мне польстила – я, как и всякий «нормальный» человек, предпочитаю быть похожим исключительно на самого себя, – но деваться некуда: я, подобно Блоку, сплюснутолиц, глазами несколько одухотворён и в то время был изрядно кудряв. После вечера Дина, под ручку с своей подружкой-веселушкой Таней, плавно прошествовала мимо меня и рекла: «Игорь, ты настоящий Блок!» Она, конечно, преимущественно издевалась, трунила, но и где-то как будто по игрушечному заигрывала. Это был наш первый обмен словами после того взгляда в кабинете биологии… Внутри меня сделалось сладко и восторженно, с придыханием.
Эпизод 2. Лямой саженец
В какой-то из октябрьских вечеров по просьбе/принуждению учителей некоторые из нас собрались в школьном дворе, дабы рассадить по периметру саженцы тополей (кажется, ныне эти тополя сделались настоящими: высокими и даже старыми). Я не люблю всё это копание-сажание-окучивание-перекапывание. Выделенный командующий учитель руководил процессом. Я искоса наблюдал за Диной. Она была активна, даже интенсивна – видимо, как положено комсомолке. Я же не был комсомольцем, лопату держал неумело и от октябрьской сумеречной промозглости мучился вялостью. Щегольнуть физической силой и не свойственной мне (особенно в то время) компанейской активностью я не мог, а потому было скучно, буднично и зажато. И тем не менее мы все вместе рыли лунки, втыкали саженцы, сваливали в лунки землю и поливали из вёдер. В некий момент я услышал Динин голос, буднично произносящий: «Какой-то лямой саженец!» Мне кинулось в мозг: ««лямой», надо же!» Как оттенок отрезвления. Подобно тому как Света Безъязыкова попу почесала. Что-то редко-жаргонное, но во всяком случае явно не то, что богиня (даже комсомолка окуджавская) своими устами может произносить. Но, понятно, в отличие от Безъязыковой, применительно к Дине все эти отрезвевательные* (* – полуцитата из фильма «Осенний марафон») взбульки были капле-в-моревными. Напротив, это делало изваяние богини рельефнее, набрасывало изящных теней на изначальный тотальный блеск-сияние, приближало её ко мне, человеку, подобно тому, как к Мартину Идену пришло-таки осознание плотскости Руфи, когда он заметил на её нижней губе сок от вишен.
Эпизод 3. Ласковый май
Мы шли из школы с Сашей Даниловым. Нас догнали Дина с Таней. Они были возбуждены и по обыкновению смешливы. Саша с дамами умел быть лёгким на контакт. Мол, о чём, девчонки, смеётесь? Меня с Диной разделяли Саша с Таней, я был на пять восьмых в нейтральной зоне. Что-то там про посещение концерта «Ласкового мая», то ли бывшего, то ли грядущего. От их с Таней балагурения у меня в голове звенело, и я плохо воспринимал. Сугубо, кажется Таней, было добавлено, что данная группа уже почти вышла из моды, но всё же… Шатунов такой… м-м-м-м-м (ха-ха-ха). Выпалив всё это, Таня с Диной пошли на ускорение и оторвались от нас с Сашей. Что ж. «Ласковый май». Чем плохо? Не требовать же от девиц, потомиц бухгалтеров и слесарей, метящих в педагоги, знания андеграундного русского рока! А представление о том, как их липкие пальчики* (* – Sticky Fingers – альбом группы The Rolling Stones) тянутся к штанине выпендривающегося на сцене Шатунова, трогало меня лишь по касательной. Не дотянется. Хоть и богиня. Шатунов, он всё-таки – бог иного порядка. Будь он на моём месте, возможно, Дина Ежова тоже была бы богиней для него, кто знает?.. Я больше завидовал Саше Данилову. Как это он так легко, без микроноток содрогания даже, с богинями может общаться?
Подэпизод 3а. Таня Пьянкова
Впрочем, с Таней я не просто мог общаться, но и мог позволять себе даже шутливый полуфлирт. Ибо Таня была проста. Почти как та-самая (Света?) Михайлова из моего 8-го «В», что то и дело вызывала меня на белый танец и дышала на меня сопящим жаром банальной двоечницы. В пионерской комнате стояло пианино. Я заходил туда и каждый раз проигрывал «Собачий вальс» – единственное, что умел соорудить на этом инструменте. Однажды туда ворвалась-влетела Таня и сбацала с разгону – и даже спела – «На улице дождик, на улице ветер». Играла она легко. Сама была прыгуче-легка. Фразу «а ты меня любишь? – ага» она исполняла задорно, но при этом чуть ли не серьёзно. Как будто все эти «детишки-зонтики-дождики» – и есть вся её жизненная, хоть и шутливая, философия. Вокал у Ани был простой. Она, кажется, даже говорила так же, как пела.
Потом был День учителя. Меня почему-то засунули в библиотеку вместо библиотекаря выдавать книги и учебники. В некий момент ко мне влетели Таня-Дина. Дина пробарабанила пальцами по столу:
– Так, что у нас тут по-чи-та-тьЬ?
– Да. Что у нас тут почитать? – подхватила хохотушка Таня.
Я заговорил с Таней бойко и удачно, делая вид, что Дина вне моего поля зрения. Но подружки не задержались. Почти тут же упорхнули куда-то там ещё чего-то смотреть.
Ближе к ноябрю была общая дискотека в одной из рекреаций на третьем этаже. Я пригласил на медляк Таню Пьянкову. Видимо, хотел продемонстрировать Дине, на что я способен, – только опосредованно. Танцуя, мы болтали. Таня сказала, что ненавидит Depeche Mode, и в жизни не стала бы под них танцевать.
– Да? Странно, – сказал я. – А я их люблю.
– О-о-о, нет! – протянула задорная Таня. – Какая тягомотина, не надо мне этого!
Через какое-то время включили A Question Of Lust. Полтора куплета мы танцевали молча. И я сказал Тане на ухо:
– Тань…
– А? – она откликнулась приглушённым осторожным голосом, как будто ожидала, что я вдруг скажу ей что-то нежное и интимное.
– Нравится песня?
– Да-а.
– Это Депеш Мод!
Таня отскочила и со смехом стукнула меня ладонью по плечу.
– Эффектно ты меня надул, – сказала Таня, когда мы опять соединились в танце.
Дина позже призналась мне, что после того случая они серьёзно засомневались: в которую же всё-таки из них я влюблён?
Эпизод 4. Свадьба
Зачем-то в пионерской комнате собрались активисты/полуактивисты. Что-то организационное про школьно-комсомольские глупости. Вокруг большого прямоугольного стола. Я тоже каким-то образом затесался. Дина пришла с запозданием и села на стул рядом со мной. Мне сделалось больно-блаженно. Она вдруг оказалась слишком рядом. Тут же был её запах. Понятно, от духов, но сладкий, упругий, убийственный. Ещё у неё что-то приоткрывалось, и я увидел её кожу. Кожа, действительно, была, как у богини. Увидел грудь. Гармоничную, «оптимальную», правильную, невозможную в своей гармоничности. Совсем рядом со мной. Впрочем, всё то время я ни разу не пытался вглядеться в неё в порнографическом, плотском смысле. Но тут это было мне предъявлено, как бы даже насильно. И я вовсе одеревенел. Она ещё больше отдалилась от меня. Для такого плюгавого «дистрофика», как я, быть с девушкой с такими безупречными грудью и кожей было никак не возможно. Это заоблачно. «Так что мечтай дальше». Вдруг Дина сказала:
– А у меня в эти выходные – свадьба!
Она сказала это вслух для всех, но почти сразу с улыбкой повернулась ко мне. Меня резануло. Я вспомнил, что Лёня Бережнёв сказал тогда про «маму-девятиклассницу». Это что, про неё?!. «Свадьба». Приехали. А ты губу раскатал!
Я был внешне спокоен, но внутри обескуражен и подавлен. Одна из её одноклассниц буднично подхватила эту новость, как уже известную, просто теперь прояснилась дата. Дина в таком же будничном режиме продолжила говорить с ней. Из разговора не было понятно ничего по существу. Потом их перебила основная повестка.
Гораздо позже я узнал, что за свадьба подразумевалась. Выходила замуж старшая сестра Дины. Но эта её формулировка: «у меня свадьба»… Я склонен думать, что то был укол в мою сторону. Поддразнить. Подзадорить.
Эпизод 5. Всё!
Впервые я позволил себе намекнуть Дине вербально на свои чувства довольно скоро. Но изливался сей прорыв влюблённой души столь комично и столь уродливо, что и описывать подобное затруднительно и неловко. Мы оказались вместе с некоторыми немногими в кабинете НВП* (* – начальная военная подготовка). Военрук тогда устроил в кабинете что-то вроде тира с ружьями, стреляющими маленькими пешкообразными пульками. Пока остальные шумели, мы с Диной встали друг напротив друга через парту (не помню, как это случилось). Кажется, повернувшись к прочим присутствующим, Дина высказала некое своё наблюдение и закончила его фразой-междометием: «Это всё!» (В смысле «вот это да!», «подумать только!», «ничего себе!», «прикиньте!» и подобного.) Я вдруг отважился и тихо подхватил-слегка-поддразнил:
– Всё?
Дина обернулась на меня:
– Всё!
– Всё, – смиренно кивнул головой я.
– Всё, – согласилась Дина.
– Всё, – мягко покрутил ушами в разные стороны я.
– Всё, – приподняла брови и принаклонила голову она.
– Всё, – покивал я.
Мы повторили это «всё» раз по 50 каждый, каждый раз слегка варьируя мимику и интонации. Интонационно перевести тот наш диалог можно, при желании, было как угодно. К примеру:
– Ну и обороты у тебя, девушка!
– Вот такая я. Не нравится?
– Ну почему же?
– Говори конкретнее. Не нравится?
– Нравится. Но ты видишь, я парень умный, парень себе на уме. Я в тебя влюбился, как последний дурак, но ни за что тебе в этом не признаюсь.
– Но ведь ты же уже признался, не так, что ли?
– Давай, не крути меня, как тряпку. Не скажу тебе ничего.
– Ты думаешь, я слепая и дура?
– Понятно, что ты не дура. Но ведь и я не дурак.
– И что ты хочешь сказать? Сказать, что ты умнее меня?
– Я ничего такого не говорил, но если ты хочешь продолжать в таком духе, то давай. Чего ты ещё хочешь спросить?
– Спросить ничего не хочу. Все эти игры с тобой мне может и нравятся, а может и нет. Но, в любом случае, знай: я переупрямлю. И в гляделки со мной играть не рекомендую: дохлый номер.
– Может быть, ты меня тоже любишь?
– Что-то я не расслышала, чего ты там сказал.
– Я сам не понял.
– Интересно, кто из нас дольше продержится?
– Мне тоже интересно…
И так далее.
Потом кого-то из нас призвали стрелять. Из ружья. По мишени. Пульками.
Эпизод 6. Юные цензоры
Интересная случилась той осенью вещь. Нас, девятиклассников, в довольно большом составе пригласили на предварительный показ некоего художественного фильма про детишек, дабы мы высказались по поводу увиденного, и это якобы даже могло повлиять на то, будет ли пущен фильм на широкий просмотр. Меня, как всегда, весь этот фон мало интересовал. Меня интересовала Дина. И узнав, что она идёт, я тоже пошёл. Смотрели в каком-то минизальчике, в неизвестном мне дотоле здании где-то на московской трассе, – нас туда доставили на автобусе.
Фильм был, действительно, нестандартный, «перестроечный» (вскрывающий некую правду). В большом летнем пионерском лагере затевают игру по типу «Зарницы», – причём военный уклон преобладал над спортивным. В какой-то момент игра стихийно перестаёт быть игрой, и детишки взаправду начинают убивать, избивать и калечить сначала противников, а потом и друг друга. И даже, как будто, взрослые оказываются азартно вовлечены в эту развязную всамделишность. Впрочем, голливудской кетчуповой кровавости и постсоветской чернушности в фильме не было, а были даже элементы юмора, что не позволяло воспринимать фильм серьёзно. Да и вообще, кино показалось мне тогда абы как сляпанным и недостойным.
Потом вышла тётя с микрофоном и попросила нас поделиться впечатлениями. Мне хотелось быть искренним, опосредованно через ситуацию провербалив себя перед Диной. Я высказался в том ключе, что фильм для широкого показа нехорош, ибо преподносит правду, которую и так все отлично видят, и от которой каждому уже и без всяких там дополнительных фильмов тошно. Высказывались и другие, но скупо. Я не помню, о чём. Я был сконцентрирован на себе и на Дине.
Когда собрание было распущено, ко мне подошла Дина. С язвительной (и даже на сей раз не юморной) усмешкой она спросила меня, где же это я в жизни такую-то вот «правду» углядел? Я растерялся. Ни слов, ни даже более или менее оформленных мыслей для ответа я не смог тогда подобрать. Видя, что я молчу, Дина с той же презрительной усмешкой развернулась, отыскала глазами Таню и удалилась.
Да, Дина была комсомолкой. Видимо, на жизнь смотрела просто, без философского глубококопания. Если, к примеру, мальчишки дерутся, то это лишь естественный гормонально-энергопотребный процесс, в котором было бы глупо отыскивать признаки злокачественных социальных язв. Ибо мальчишки дрались всегда, в этом – их простая петушиная природа. В фильме показаны реальные убийства. У нас же мальчики друг друга не убивают, а просто дерутся. Да, у нас сейчас перестройка, но пока, по-прежнему, социализм, а при социализме в «Зарницу» играют правильно, и никто никого реально не убивает.
Я подумал: да, девочкам, наверное, проще. Их, конечно, без спросу «мацают» всякие Жени Штицы, но это, может быть, не так опасно, а кому-то, возможно, и льстит. Девочек не останавливают на людных и на пустынных улицах (с почти 50 %-й вероятностью) незнакомые ровесники с неизменным вопросом: «Откуда?», за которым как бы ты ни ответил, следует пространный дальнейший допрос, отъём карманных денег, унижение, описание потенциальной витиеватой расправы и прочие «радости». Об их лица не разбивают в кровь кулаки, против них не используют перстни с шипами и кастеты. Перед их глазами не стоит плачущий в рекреации Киргиз, сосед по парте в 8-м классе. Он, конечно, дрался с этим безмозглым убийцей Шорниковым упорно и мужественно, но его кулаки в крови и слёзы его кровавые, и он жалок, несчастен и брошен в этой своей детской безутешности.
Всего этого я Дине в ответ на её вопрос конечно же не мог высказать.
Впрочем, я не обвинил тогда Дину в своём сердце за это её презрительное непонимание. Напротив, подумал: а может быть со мной что-то не так, и я чего-то недопонимаю в мироустройстве? Очевидно было, что живём мы с ней в разных мирах, но в этом никакой для меня новости не было, ибо по умолчанию она богиня, а я – простой, немощный смертный.
Эпизод 7. Рот в чернилах
Мы играли в баскетбол с 61-й школой. У них. И Дина-Таня пришли болеть. В баскетболе, по крайней мере, мне было что показать, и я старался изо всех сил. Когда-то позже Дина сказала обо мне в той игре, что я «прыгал, как кузнечик». Я тогда везде таскал с собой гитару (да и не только я, пожалуй; это в то время было не зазорно и едва ли не почётно). В раздевалке мы пели свежеподобранную «Скованные одной цепью» «Наутилуса».
В игре я был в ударе, хотя и не всё получалось. Чтобы блеснуть перед Диной техникой, вначале я водил в центре. Но тот плотный, невысокий, добрый восьмиклассник (не помню имени), что был в нашей сборной, напомнил мне, что разводят они с Димкой Васиным, а мне следует идти под кольцо на подбор (я же длинный). Кажется, в той игре мне удалось первому забросить мяч, с угла. Ещё Дима с длинного паса ушёл в отрыв и промазал, но я, пылая рвением, скакал за ним следом; подобрал и добил, кажется, даже – в одно касание, с лёта. Наверное, я, и правда, напоминал тогда кузнечика.
Думаю, мы тогда выиграли. А потом провожали девчонок. Таня с Диной в тот раз громко не веселились, были молчаливы и сдержаны. Прислушивались к нам. Но беседа не клеилась. Андрей Венчук в присутствии дам слегка пасовал и был зажат и аккуратно тих; его обычное смехотворство то ли пробуксовывало, то ли было откинуто на задворки. На кольце Афанасьева Дина с Таней сказали, что отсюда до их домов рукой подать, и они дойдут сами. Но мы для приличия постояли этой своей небольшой кучкой ещё минут пять. Начиналась зима.
Дина сказала:
– А мы видели вчера Игоря. Он шёл и курил.
Я не растерялся:
– Это была ручка.
– Ага! «Ручка»!
Андрей вставил:
– Такой затянешься…
– …и весь рот в чернилах, – мгновенно среагировал я. Все рассмеялись.
Было приятно, что за один вечер мне удалось продемонстрировать Дине свою курительную «взрослость», бойцовско-прыгучие качества, чувство юмора и находчивость. Я не был уверен, что она всё это по достоинству оценила, но надеялся.
Эпизод 8. Рука на струнах
Зимой во всей этой истории случилось что-то вроде кульминации. Я после уроков сидел в кабинете биологии на второй парте, лицом к кафедре и тренькал что-то навязчиво на гитаре. Как-то так вышло, что мы оказались с Диной вдвоём в кабинете. Она уже была одета в пальто своё, чёрное, с искусственно-меховыми оторочками. В кабинете биологии она чувствовала себя как будто по-хозяйски: то заглянет в лаборантскую, то ходит за кафедрой, молча, деловито. В конце концов, она подошла ко мне. Резко. Нас разделяла первая парта. Она протянула руку и положила ладонь плотно на струны. Гитаре наступили на горло. Это было эффектно. Было страшно, и было сладко (апогей сладости). Я оторвал глаза от гитары, от Дининой маленькой, решительной руки и посмотрел Дине в лицо. Она молча смотрела мне в глаза. Время всех этих игрушечных «всё!» было отброшено назад, роковая девушка молча и твёрдо требовала от меня слов. Я молчал. Я не выдержал её взгляда и опустил глаза. Попробовал пару раз бренькнуть. Глухо. Глупо. Дина не отнимала руки́ и ждала. Наверное, полминуты или минуту. Смотрела на меня. А я бессильно опустил голову… Потом так же резко отпустила руку, повернулась и быстрым, твёрдым шагом вышла из кабинета.
Кажется, я продолжил своё треньканье с той же громкостью ей вдогонку (но не уверен, возможно – нет). Спустя минуту я отставил гитару и подошёл к окну. Я хотел увидеть её. Но из кабинета биологии не было видно той части дорожки перед школой, по которой она обычно уходила домой.
После этого я пробыл в кабинете биологии, наверное, ещё час или два. Я переходил от окна к окну и смотрел на зиму. Белую, без чёрного пальто, с тихими воро́нами и отчуждёнными редкими младшеклассниками с цветными ранцами. Опять в этом своём одиноком, покинутом «богиней» храме. Со своей нелепой сладко-тоскливой грустью. Мне было сладко от осознания и от чувства, что я спровоцировал её на эти «серьёзные» жесты. Но то был край, предел моей любви. Что я мог сказать ей по этому её требованию?
Думается, после того случая Дина почти перестала реагировать на мою «холостую», вздыхающую тень. Любовная игра сделалась зажато-односторонней, а в сердце моём пронзительная неприкаянная сладкая тоска стала нещадно доминировать над восторгом.
3.3.4. Маслуха
В какой-то момент Саша Маслов стал особенно не в себе. Он то не ходил в школу неделями, то приходил неформально одетый, развязный и даже в шляпе. В один из таких его приходов, я увидел их с Диной в рекреации. Я вышел из класса во время урока то ли по нужде, то ли по неясному, но сильному зову сердца, и услышал из глубины рекреации Маслухин как всегда немного издевательский, гладкий, весело-играющий, масляный голос. Я тихо прошёл по тёмному коридору и выглянул в рекреацию. Они стояли вдвоём у батареи отопления. Маслуха говорил громко, паясничал, как обычно, держа руки в карманах и легонько попинывая лавочку рядом. На нём была шляпа, узкий, длинный шарф. И общий вид он имел такой, как будто только что ввёл себе в вену максимальную дозу «гормона взрослости». Дина же стояла неподвижно, скованная, говорила отрывисто и серьёзно, краткими фразами. Меня ни он, ни она не заметили. Были увлечены друг другом. Общая атмосфера в рекреации была такая, как будто там разыгрывалось что-то детско-взросло-судьбоносное, чуть ли не киношное по своей нереалистично-отвязной напряжённости. Как будто Маслуха и Дина стояли у батареи, а в остальном пространстве рекреации невидимые голубой Купидон и розовая Венера не на жизнь, а на смерть бились на мечах. Я отошёл скромно по коридору в центральный холл возле лестниц и некоторое время ещё прислушивался к звукам разговора в рекреации. Было дико и беспокойно. Меня вдруг ужаснуло (вероятно, не в первый раз, но теперь особенно сильно): куда я ввязался? Тут такие нешуточные «взрослые» страсти кипят, а кто такой я? – домашний, тихий, зашуганный ребёнок с амбициями, подобными новым гвоздям, но вбитым так глубоко и надёжно, что ни одним гвоздодёром не подковырнуть.
Голоса в рекреации сделались вдруг более громкими и резкими. Дина даже пару раз, кажется, оборонительно вскрикнула. Из кабинета математики, где занимался в тот момент 9-й «Б», выскочила Таня Пьянкова и энергично прошествовала мимо меня, не замечая меня, на поле боя – видимо, её тоже сердце из класса вытолкнуло. Спорящих голосов в рекреации стало больше. Мне показалось недостойным тут долго стоять, и я, пребывая в тоскливом отчаянии, удалился в свой класс. (Ну вот, опять эти проклятые рекреации! Я вспомнил Линькова, как он обхаживал Свету Шамову в рекреации; теперь вот – Маслуха туда же. Все как будто так и норовят насмехнуться надо мной, мол, Гоша, ты там люби, люби, а мы тут в наших рекреациях разберёмся по-мужски с твоими зазнобами.)
Спустя несколько дней прошёл достоверный слух, что Маслуха исчез. Примерно через месяц выяснилось, что он в Ленинграде, где-то в андеграундных катакомбах, с наркоманами и гопниками. И вернулся он, кажется, только к маю.
Я не знаю достоверно нюансов этой истории, промоченной столь интенсивно столь неожиданно-жизненной театральщиной. Подозреваю самое простое и самое очевидное: Маслуха, с глубокого отрочества избалованный вниманием неких аморальных дам, склонял Дину к сожительству, а может быть даже к бегству. Но Дина же была не просто комсомолкой, а у неё была и мама, строго внушившая ей доктрину недопустимости досвадебных половых сношений (на каком основании базировалась данная доктрина, я не знаю: то ли на моральном кодексе строителя коммунизма, то ли на житейской предково-завещательной мудрости, то ли и на том, и на том). Достоверно знаю лишь то, что Дина, как как будто бы частичная виновница несчастья, пока Маслуха канул в Ленинград, чуть ли не ежедневно полгода ходила к Маслухиной маме плакать с нею и её успокаивать. Душещипательное вышло положение.
А что сказать про этого Маслуху? Невысокий такой парень, сложения вовсе не богатырского, смазля́венький. Достаточно хитрый, чтобы не быть ни банальным хулиганом, ни презренным отличником. Там что-то не так было с его папой. Странный папа. Однажды я видел его. Мы играли во дворе в дворовый футбол с дворовыми ребятами дворовым мячом на пустырчике. Дело было классе в 6-м. Мимо идёт Маслухин папа. Невысокий, умеренно пьяненький и как будто бы какой-то нонконформистский на всю голову. А у нас как раз в футболе вышел перерыв, и кто-то хвастался реально стреляющим, любовно изготовленным пугачом: бело-деревянная ручка, медная блестючая трубка-ствол, резинка от гимнастического «жгута» телесного цвета: все «причандалы» в почти безупречном сиянии новизны, холы и добротности. Вдруг Маслов, услышав похвальбы хозяина, развернулся к нам и подошёл. Стал интересоваться качеством, устройством и достоинством пугача. И у них с пугачевладельцем вышел спор, мол, прострелит тот Маслову ладонь с пяти шагов или нет? Спор решили сразу же разрешить. (Чем стреляла эта самодельная штука, не помню: то ли металлическими шариками, то ли обслюнявленной бумагой, то ли пластилином.) И Маслов отошёл на 5 шагов, а тот парень, не будь дурак, выстрелил. Ровно из середины ладони Маслова потекла полоска алой крови. И даже закапало с руки. Маслов равнодушно посмотрел на рану, ничего не сказал, опустил руку вниз как ни в чём не бывало, повернулся и пошагал от нас прочь по той деревенской, пустырной Прокопьевской в сторону своей пятиэтажной Новосельской. Мне показалось, он повёл в тот момент себя так буднично исключительно ради бравады. Впрочем, возможно, он был гораздо сильнее пьян, чем казался. Непонятно, кто в той ситуации, с точки зрения скопившейся малышнёвой публики, из этих двоих горе-дуэлянтов оказался дураком, а кто героем. Кажется, героем никто не был, а вот Маслов – точно был дурак.
С самим же Маслухой у меня отношения складывались какие-то неровные. Он, как и Бармаков, то ластился ко мне, то открыто презирал. В младших классах мы ходили к нашей школе кормить через дыру в стене живущих в подвале бездомных кошек. Наблюдать за кошками было интересно: по подсчётам их жило в подвале шесть или семь; две – рыжие. И было очень интересно: какая из кошек в этот раз выглянет из дыры покормиться из подставленного нами блюдечка. Мы давали кошкам имена.
Но мы не дружили.
В средних классах Маслуха не то что испортился, не то чтобы стал тяготеть к хулиганству, а вылезло вот что-то в нём такое: выпендрёж под эгидой «я взрослее, а значит и умнее всех вас; посмотрите, какие засосы на спине мне бабы наставили (и прочее)». И всё это с тем же детским, несерьёзным, синусоидным смехом. Однажды он с противоположной параллельной лестницы с силой плюнул по параболе в моём направлении и попал гайморитной обильной, зелёной соплёй аккурат мне в лоб. Было обидно, а Маслуха от души громко потешался над комичностью случая, незатейливо при этом превознося свою талантливую меткость. И извинялся передо мной точно так же, как Колесов извинялся перед Лавреном тогда в раздевалке.
В 8-м классе я старался дать кому мог отпор и раза три дрался со всякими мелкими агрессорами. Однажды по дороге в столовую Маслуха (не помню, как) меня физически унизил, и я более-менее сильно ударил его кулаком по скуле. Маслуха не стал со мной драться, а даже похвалил и тут же, как всегда, со своей смеющейся, гладко-волнистой громкостью отчитался кому-то мимоидущему: «А Игорёк-то Разумов у нас драчливым стал!» В конце 8-го класса он пришёл ко мне домой и попросил помощи в подготовке к какому-то экзамену. Я помог.
Не помню точно, когда Маслуха вернулся из своего подпольного Ленинграда. Насколько я знаю, он наклёвками продолжал просить сердца Дины (впрочем, непосредственно сердце, подозреваю, интересовало его в Дине всего менее).
Я вообще с трудом понимаю, что побудило его идти в старшие классы. Если он не стремился в техникум и ПТУ, то в институт и подавно не собирался – не по его мозгам и не по его усидчивости это было. Странно. Ему хотелось девочек, более утончённых и менее доступных, чем ПТУ-шницы? Всё во имя того же лелеяния чувства собственной значительности? Что ж, это вполне можно понять. Ведь так действуют и во имя этого живут многие. Да ведь вот и я же носился столько лет со своею любовью к Дине, по сути, во имя того же самого. (Просто у Маслухи было побольше любовного опыта.)
3.3.5. Затяжное течение
Тут представлены эпизоды дальнейшей любовной тоски.
Эпизод 1. Циркуль
Всё это было очень сильно. Копилось внутри и нуждалось в каком-то выходе. Я качался каждый день под альбом «Metal Heart» группы «Accept». Но этого было мало. С агрессивными струнами моей лопающейся и кровоточащей любви нашли гнетущее, усугубляющее созвучие кривляющиеся песни «Наутилуса». В этих песнях я выделял интонации и сочетания слов, которыми я проговаривал Дине, себе и всему жёсткому, несправедливому бытию свои тяжеловесные, невыразимые эмоции. К примеру, рубленные интонации песни «Казанова» транслировали наружу мою злость на Дину, за то, видимо, что она не ждёт меня и не подстраивается под меня, незрелого, а вместо этого «мутит» со всякими Маслухами и, возможно, ещё много с кем. В этих интонациях меня грели вырванные из контекста фразы: «ты моя женщина, я – твой мужчина», «если нет любви в твоих проводах», «ты повесишь на стул позабытую тень моих присутствий и влажных приветствий». Что значит «город женщин, ищущих старость», мне было непонятно, но в этом затаилось что-то от злорадства, как и в заключительном пророчестве: «каждый день даст тебе десять новых забот, и каждая ночь принесёт по морщине». Конечно, желать Дине подобного я не хотел; но и желать Дине успеха с её ухажёрами тоже не мог, поэтому нелепому, но объяснимому злорадству было вполне просторно в моём сердце. Насмотревшись тогда в пионерской комнате на её кожу и грудь, я уже осознавал, что элемент вожделения в моём чувстве тоже-таки присутствует, поэтому из очередной зловредной фразы: «ты шпионишь постыдно за собственным телом» я вычленял заворожённо слово «тело» и погружался в ещё более сильнейшую тоску. Наконец, всё это покрывало пронзительно-визгливое, гармонично-величественное центральное саксофонное соло, как материализация отчаяния, темноты и, тем не менее, возвышенности моего чувства.
То же было с «Доктором твоего тела»: я понятия не имел, что это что-то про наркотическую зависимость; надменное сочетание слов «твоё тело» гипнотизировало и усредняло до пьянящего абсурда все другие слова.
Песня «Всего лишь быть…» на содержала злости, но лениво намекала на опытную, обречённую обыденность плотской любви, что успокаивало вожделение, приподнимало меня над глупостью Чувства, помогало посмотреть на всё свысока и слегка остужало тоску. В то же время слова: «мужчина», «твой мускус, свой мускул», «до утра вместе», «свет интимной лампы» действовали противоположно, и тоска снова поднимала голову.
Но всё это работало по касательной. Застреливала и клала на лопатки песня «Я хочу быть с тобой». «Комната с белым потолком, с правом на надежду» и «с верою в любовь» была едва ли не материальна, плавая где-то в печальном, тёмном, электрическом пространстве той дикой осени, когда я, в очередной раз вслушиваясь в эту песню, лежал у себя, в своей комнате на полу, глядя на буквальный, непосредственный белый потолок и невольно совмещая его с потолком той загадочной «комнаты», где я однажды буду с ней. Электрические огни отсвечивали на стенах, я косился на эти отсветы и всё сильнее прилаживал ту «комнату» к этой. И я действительно попадал в мир надежды на осуществление моей любви, и мне делалось тепло, волшебно; я мирился со своим чувством, даже тихо ликовал оттого, что мне посчастливилось его иметь.
«Я пытался уйти от любви», – красиво затягивал вступительные слова Бутусов. Я не пытался уйти от своей любви, но лирического героя Бутусова понимал очень отчётливо, потому что, хотя любовь – это и сладкая му́ка, но всё же Мука с большой буквы. «Ремни, стянувшие слабую грудь» – это было как раз об этом. Фраза «я смотрел в эти лица и не мог им простить того [тут Бутусов надрывно хрипел], что у них нет тебя и они могут жить» ёмко и красиво говорила почти о том же самом, что я сформулировал тогда, стоя под душем. Дальше речь шла о членовредительстве, как методе борьбы с силой чувства. Резать пальцы «за то, что они не могут прикоснуться к» ней казалось вполне логичным в этом смысле. У меня не было «острой бритвы», и я не хотел «ломать стекло как шоколад в руке». Зато у меня был обычный циркуль. Однажды на волне этого всего я взял его в руку и на тыльной стороне левой кисти нацарапал довольно крупно, отчётливо и уродливо слово «ДИНА». Мне нисколько не казалось это нелепым. Это был очередной бросок в кольцо, как тогда, в пустынном спортзале; некая точка, некое заверение самого себя, некая жертва «богине», некое унижение, как акт поклонения ей; некий обет.
Надпись, уже покрытую пунктирными полосками струпьев, заметил Венчук. (Это было в марте. Было солнечно, и лежал яркий снег.) Андрей не стал меня громко высмеивать, но и не почёл нужным соединяться со мной в моей трагедии и усиленно сопереживать мне. Он высмеял меня потихоньку, «как положено», не выходя за некие рамки. Он назвал меня в присутствии наших друзей «Гошей Динь-Доном». Я не обиделся на него. Ведь объективно я, и правда, поступил глупо.
(Венчук, кстати, высмеивал и песни «Наутилуса», как высмеивал почти всё. К примеру, в словосочетании «пьяный врач» из песни «Я хочу быть с тобой» он не видел ничего трагического или возвышенного, а видел только нечто банально-комическое. Вместо фразы «глаза навсегда потеряли свой цвет», Андрей пел «глаза навсегда потеряли очки». Таков он был.)
Эпизод 2. Комсомол
Я не собирался становиться комсомольцем и уж тем более комсомольским активистом. Но я стал комсомольцем из-за любви к девушке. Хотя она никогда не просила меня об этом. Там ведь надо было выучить какие-то бюрократические глупости, кому-то отчитаться, куда-то вписаться. Это было скучно, несуразно, и для меня, далёкого по духу от всякого рода кутерьмы с красными галстуками, клятвами Ленину и комсомольскими собраниями, даже противно. Но я всё выполнил.
Потом у этих комсомольцев в их городском «дворце» рядом с площадью Тургенева случился какой-то городской съезд-не съезд. Как всегда, вечером, в зимних, тоскливых сумерках. Зал был большой и тоже мрачный. Я уселся, неприкаянный, на третий сбоку стул в среднем секторе, ближе к «галёрке» и принялся наблюдать за гудяще-жужжаще-неторопливо-переходящими от стула к стулу комсомольцами. Периодически потихоньку взглядывал на Дину. Здесь она держалась серьёзно, официально, по-деловому. Завидя меня, она не позволила себе ни колкостей, ни лишних фраз, ни улыбок. Сухо. Пришёл, мол, и пришёл. Вслушиваясь в разговоры комсомольцев, я видел, что здесь они не треплются за жизнь, а говорят о материях хотя для них и будничных, но при этом серьёзных и официально-ответственных. Я в этих их разговорах ровно ничего не понимал. Прозвучала пара невнятных, не особо пространных докладов, после чего собрание было распущено. Покидая зал, я обратил внимание, что Дина встала в кружок с какими-то, видимо, особо близкими ей комсомольцами (возможно, из бывшей 3-й школы; их было человек 10, парней и девушек), – они обняли друг друга за плечи, склонились к центру кружка и спели что-то короткое, гордое и единящее.
Обратно мы ехали с ней в одном автобусе. Народу было довольно много. Мне казалось, она не замечает меня. Я тоже притворялся, что равнодушен к её присутствию.
Вся эта демонстрация отстранённости на мрачном, сухом зимне-комсомольском фоне ещё больше отдаляла меня от Дины, делала мою любовь к ней более утрамбованной, замёрзшей.
Эпизод 3. Венчук, лом и солнечный лёд
В конце марта или начале апреля нас с Андреем Венчуком попросили уйти с какого-то праздного, малозначимого урока, чтобы расколоть наледь на околошкольной дорожке. Андрею вручили лом, а мне что-то мотыгообразное. Мы занялись наледью. Андрею нравилось демонстрировать свою мускулистую молодецкость. Он поднимал и опускал лом, делал это степенно, знаючи. Солнечный ручей облизывал отколотые ледяные куски. Мы с Андреем были в школьных костюмах, таких, какие носили все парни-старшеклассники: тёмно-синих поверх белых рубашек, с синими же галстуками на резиночке; пиджаки с полами, а не курточки, как у мелюзги. На лацкане у Андрея – маленький, серьёзный красно-золотой комсомольский значок. (Девушки, кстати, в те времена носили все, как одна, коричневые платья с черными – в праздник белыми – передничками; Дина же с Таней в этом смысле «выпендривались»: Танино платье было сероголубым, а Дина своё каким-то образом загадочно огипюрила, за что ей почему-то именно от старика-военрука с дивной фамилией Крутой порой попадало.)
Когда прозвенел звонок и из школы по домам постепенно потянулся народ, мы с Андрюхой стояли в солнечных ледяных осколках. Андрей отдыхал, опершись на свой лом, и даже сквозь костюм было видно, как он играет бицепсами. Тогда мимо нас прошла Дина. Она была печальна. Прошла мимо молча. Мы с Андреем проводили её взглядом. Март. Золото марта. А она – в своём демисезонном, в широкую серую вертикальную полоску дымчатом пальтишке. Идёт медленно, задумчиво глядя под ноги. Я всё же думаю, она внимательно рассмотрела нас с Андреем, – Андреевы мускулы и мою тупую, постылую влюблённость в неё во всё лицо.
Март всегда усугублял эту сладостную, тоскливую тягость во мне. Я не ведал причины Дининой печали, но мне мнилось, что её печаль сейчас почти наверняка связана со мной, – что задумчивость её – суть производная её реакции на мои чувства к ней. И я не то что верил, а даже почти и ощущал, что это так и есть, и мне опять стало радостно. Я не захлебнулся в ту же минуту от восторга, но восторг этот тихо, тихо, неуклонно поднимался во мне. Подобно золотому мартовскому половодному ручью.
Андрюха снова возвышал и опускал свой молодецкий лом, куски льда отлетали и весело блестели, талая вода журчала, солнце вжиралось в умирающую белизну снега, а невидимый тёплый восторг медленно подползал к моему горлу.
Эпизод 4. Четвертков и «валеты»
Как-то ближе к маю на баскетбольную тренировку в выходной пришли только мы с Андрюхой и Владом. Но пришёл ещё Максим Четвертков, хулиган из старого «Г» класса. Говорят, покинув после 8-го класса школу, он занялся какими-то обогатительными махинациями и, как выразился в то время Мишка Шигарёв, «поднялся». Как я понял, в отличие от прочих хулиганов 12-й школы этот Четвертков был непрост, скользок и значимость свою выбивал не столько кулаками и быдловостью, сколько псевдоинтеллектуально-эмоциональным давлением на окружающих.
Поскольку нас было мало, стали играть в волейбол. Уж и не знаю, какая-такая ностальгия привела этого Макса на баскетбольную тренировку в 12-ю школу. Я заметил, что Андрей с Владом пасуют перед Четвертковым. Он был крепкий, невысокий; вёл себя развязно и каждого из нас невесело подкалывал. Андрей не шутил с ним. Влад тоже сделался каким-то чрезмерно серьёзным. Когда я попытался заговорить о преимуществах баскетбола над волейболом, Влад посмотрел на меня как-то тяжело и сказал, что обе игры по-своему неплохи, и я говорю глупости. Мне сделалось грустно от этого замечания Влада, ибо я считал, что именно баскетбол так чудесно объединил нас, сделал командой. Влад как будто бы брезгливо пренебрёг некой святыней. Четвертков меня не знал и держал себя так, словно меня почти нет. Только когда я «косячил» в игре, грубо и зло-спокойно обозначал эти косяки.
Потом мы стояли на углу школы, на перекрёстке околошкольной и внутриквартальной дорожек. Так на перекрёстках стоят обычно как раз хулиганы, поджидая жертву, – одиноко идущего в их сторону по делу или не по делу старшеклассника, который по недотёпству, завидя хулиганов издалека, не увернул мгновенно вправо или влево, – чтобы остановить его и задать козырной вопрос: «Откуда?!» Я стоял и помалкивал, а Влад с Андреем перекидывались с Четвертковым какими-то ленивыми, пустыми фразами. Вдруг из школы вышли Таня с Диной: они, видимо, что-то «активничали» в классе в выходной. Дина была в лимонно-жёлтой курточке. Шли они медленно. Я сразу понял, что с этим Четвертковым выйдет что-нибудь нехорошо.
Девочки прошли мимо нас в том же спокойном темпе и закономерно повернули вправо, в сторону улицы Попова. Четвертков всё это время лениво-надменно рассматривал их. Когда они отошли от нас шагов на 10, он развязно-грязно выкрикнул: «Вот это ж. а!!» Девочки возмущённо на ходу обернулись, и каждая сказала что-то негодующе-презрительное в ответ (кажется, Таня была громче). «Замолкни, коза!» – в том же тоне обрубил Четвертков. После этого он отвернулся к нам, как будто девочки его уже вовсе не интересовали (и даже как будто не интересовали вообще никогда), и продолжил прежнюю пустую, ленивую беседу.
Я не мог дождаться, когда мы, наконец, разойдёмся. Наверное, стояли-то ещё минут десять, однако минуты эти показались мне часом. То было ужасное, с трудом выносимое чувство. Понятно, что я не мог, как Д'Артаньян или Дон Кихот, в момент оскорбления дам, одна из которых была тайной дамой моего сердца, вынуть длинное холодное оружие и крикнуть Четверткову: «Сударь, вы подлец! Защищайтесь!» Не мог и просто потребовать, чтобы он бросился вдогонку за дамами и извинился, или, ничего не объясняя, просто сунуть ему кулаком в рожу. Не мог по той же самой причине, по какой не ответил многим из тех хулиганов, которые унижали, прессовали и провоцировали меня, ибо это было реально опасно для жизни. К примеру, Шорников, хулиган из того же «Г» класса, мог, проходя по коридору, просто завидя, с размаху раз 5 ударить меня своим портфелем-сумкой на длинной лямке. А я только молча уворачивался и ускорял шаг. Потому что видел, как Шорников дрался с Киргизом. Он держал в до белоты сжатом кулаке цилиндрическую красную пластмассовую трубку, как уплотнитель, и ждал, когда Киргиз начнёт драку. Я видел его лицо, его глаза: они искрились спокойным, сумасшедшим, бесстрашным, рассчётливым бешенством; это было ужасно; я понимал, что такой человек уже давно был готов к тому, чтобы убить кого-угодно. И даже, кажется, не во имя провозглашения всему миру своей значимости, а просто так, из азартного интереса. И он правда сел за убийство, тогда же, к концу 8-го класса.
Я не мог даже уйти. Просто сказать: ладно, ребята, я пошёл, у меня дела. Всё это стояние на перекрёстке было своего рода аудиенцией у Максима Четверткова. В нашем тогдашнем пласте социума он был королём. Мы – я, Андрей и Влад – могли перемещаться по городу (за пределами нашего условного района, именуемого «ква́ртал») в постоянной опаске. Максимум, что мы могли сделать, это по-хитрому вызнать у осведомлённых, в мире ли сейчас «ква́ртал» с «черёмушками», «перегонным» или «кахо́вкой» (и что там у «черёмушек» с «перегонным»), чтобы, если что, находясь на территории «перегонного» сказать: мы с «кахо́вки», рассчитывая, что нас отпустят живыми (хотя карманные деньги, понятно, всё равно отнимут). (Влад, к примеру, был таким хитрецом: если мы шли в видеосалон в Дом Моделей на фильм «Кабан-убийца», стояли в очереди, он наклонялся к нам и шептал на ухо: «если подойдут, говорите, что вы из «черёмушек»». Действительно подходили. Задавали вопрос: «Откуда?» Мы отвечали: «Из черёмушек». Они смотрели на нас с сомнением, переглядывались. Потом задавали дальнейшие серьёзные вопросы: «А чего вы сюда пришли? У вас там что, своего салона нет?» «Нет», – пожимали плечами мы. «Странно», – отвечали они. – «Непонятно, всё-таки, чего вы пришли. Фильм-то плохой». – «Да? Ну мы не знаем, не видели». После минутной паузы (взгляды по сторонам, серьёзные раздумья): «Ладно. Смотрите, раз пришли. Но только лучше больше не ходите сюда». Медленно уходили. Мы выдыхали. (А фильм, к слову, действительно был дурной: чёрно-красный, как всегда, – носовой монотонный перевод, абсолютно не страшный кабан, – стоило подвергать себя риску!))
Да, мы могли только в меру сил и ума уворачиваться от ударов. Четвертков же сам мог при желании кому угодно задать вопрос: «Откуда?», и быть при этом вполне спокойным. Он мог хамить каким угодно дамам, и по злому подкалывать бывших одноклассников, потому что был «королём», а королям, как известно, в морду не дают и не заставляют бежать извиняться перед дворовыми девками. Это вполне понятно. Я же, к примеру, был простой презренный «валет». Этим словом, кстати, широко пользовался в какой-то момент Маслуха. Его значение мне приблизительно объяснили некие ребята на задней площадке 10-го троллейбуса. Это было в том же 9-м классе, кажется. Был летний вечер. Мы с родителями возвращались с огорода. Они сидели впереди, ближе к водителю, а я почему-то решил уединиться на задней площадке. Вошли трое худощавых, но крепких и уверенных парней. Я ел семечки. Они расположились рядом и сразу же закономерно спросили, откуда я. Я угостил их семечками. Они равнодушно приняли и стали лузгать вместе со мной. На их вечный вопрос, я пожал плечами:
– В К… живу.
– Понятно, из района какого? – терпеливо спросил один, тот что стоял ближе ко мне.
– Проспект Фрунзе…
Парень обернулся к товарищам.
– «Фрунзе»… «Ква́ртал», что ли?
Один из безэмоциональных лузгателей моих семечек, равнодушно пожал плечом, другой слегка кивнул, глядя в пыльное троллейбусное пространство. Мой собеседник продолжил, задумчиво глядя чуть-чуть мимо меня:
– Я помню, мы с «ква́рталом» в позапрошлом году «п. дились». Помнишь? – повернулся он к одному из созерцателей троллейбусного пространства. Потом снова ко мне. – Ты какой-то странный. Ты вообще куришь, водку пьёшь?
– Нет, – скромно и как-то неуместно произнёс я.
– А баб е…ь?
– Нет.
– Так ты, получается, «валет»! – все трое прихохотнули* [* – первое, что вскрылось в Гугле на запрос «валет жаргон» – «недоразвитый человек, дурак», ниже есть второе значение – «лицо, прислуживающее авторитетам преступной среды». Выходило так: дураком и недоразвитым меня, обычного советского юношу, способного дружелюбно поделиться семечками с теми, кто потенциально его сейчас будет «прессовать», делало то, что я в свои-то 15 с небольшим лет не курю, не пью и вообще не живу половой жизнью. Второе значение слова «валет» проясняет, почему мы, я, Андрей и Влад, смотрели в рот Четверткову и вели себя так, как это было, вероятно, угодно ему: мы прислуживали ему, «авторитету»].
Мы подъезжали к площади Тургенева. Мой собеседник сделался вновь серьёзен и выступил с заключительной речью:
– Вообще тебе повезло. У нас настроение хорошее. А так тебе бы пришлось побыть грушей. А мы бы поотрабатывали на тебе приёмы тхэквондо* [* – в то время в видеосалонах были популярны фильмы про боевые искусства. Брюс Ли, Чак Норрис и прочие Ван Даммы]. Они вышли, а я на ватных ногах пошёл к родителям. (Кстати, этих ребят нельзя было полноценно назвать «гопниками». Выговор чистый, держались не разнузданно, едва ли не интеллигентно, татуировками покрыты не были. И это особенно пугало: создавалось впечатление, что таких вот «королей» на белом свете и в их подполье – что тараканов, а «валет» – это довольно редкий зверь.)
Как бы то ни было, я чувствовал себя мерзко. Оттого, что я просто показался перед Диной в компании этой сволочи. Не говоря уж о том, что оказался бессилен хоть как-то защитить её честь. Выходило даже, что я едва ли не соглашаюсь и не встаю на сторону Четверткова, когда он грязно унижает её.
Конечно, я утешал себя. Я понимал, что Дина не настолько наивна, чтобы не видеть в какой грязи мы, юные комсомольцы, живём, и какие законы тут на самом деле правят. Наверняка, она тоже извиняла меня, осознавая, что я, простой влюблённый в неё мальчик, не могу ввязываться в драку с таким хамским уродом, тем более, что такого рода драки не прописаны в современных законах чести («Гуд бай, Дон Д̍'артаньян!») Но все эти утешения слабо помогали. Мне было мерзко. Я и так чувствовал себя бессильным, неспособным никак реализовать своё чувство, а тут ещё эта насмешка из мира зверей.
Эпизод 5. Кафе «Мороженое»
Нечто подобное случилось уже ближе к лету. В советском К… мест для отдыха и развлечения юношества было крайне мало. Так, кинотеатры, кое-где дискотеки. Скудные магазины, и внутри них – пустыня. На улице Афанасьева, вот, было кафе «Мороженое». Я иногда (нечасто) захаживал туда полакомиться. В тот летний вечер (возможно, как раз закончился учебный год) в кафе зашли мы, парни, гурьбой (точно помню, там были Шигарёв и Юра Стеблов). Чуть позже пришли Дина с Таней. Они, видимо, решили с нами не мешаться и сели за отдельный столик. Через короткое время к ним подсели трое взрослых парней – по виду они чем-то были похожи на тех моих соседей по 10-му троллейбусу. Видно было, что намерения у них самые решительные.
Юра наклонился к Шигарёву: «Смотри, смотри!» – Юра присмеивался в своей манере, строго-брезгливогубо, с какой-то редко-всхахакивающей причудливо-весёлой злорадностью. – «Попали!»
Я думаю, Юра уже тогда стал продвигаться в направлении Дины вместо Маслухи, и, видимо, Дина пока «отбривала» его. А Юра же был гордый красавец, хорошо знающий и ценящий свою красоту. И он был злопамятен и в этом смысле циничен до жестокости. Я, к примеру, за своё любовное бессилие и отверженность мстил абстрактному пространству через уже упомянутые наутилусовы песни. Юра же предпочитал быть злым и зло-веселящимся на деле.
Я выглядывал, что происходит за тем столиком. Видно было, что Дина с Таней серьёзно напряглись. Взрослые парни говорили с ними по-деловому, едва ли не жёстко. Девочки коротко, тихо-зажато отбрыкивались.
Наша компания доела мороженое и ушла из кафе. Мне было так же противно, как в тот раз, с Четвертковым. Я знал, что бессилен, но не переставал злиться на себя. Я не мог побудить своих товарищей вместе со мной вступиться за девчонок, тем более, что девчонки на помощь не звали, и их беседа с парнями продолжала бесконечно тянуться всё в том же напряжённо-дипломатическом режиме. Я никому из друзей ещё не признавался, что влюблён в Дину: никто из них пока не был мне настолько близок. Тем более, как я понял, тот же Юра Стеблов даже ощущал для себя некую приятность в том, чтобы пустить ситуацию на самотёк. Те парни были крепкие и старше нас с виду года на три. Да, нас было больше. Но никто из нашей компании, похоже, не видел смысла вырастать стеной в защиту одноклассниц. И я ушёл с компанией. Подавленный и слабый.
Очевидно, ни в какой криминал та ситуация не вылилась, но всё же, полагаю, Дине и Тане пришлось несладко. (Я думал ещё о том, что ведь происшедшее в чём-то и их вина: все эти хождения по кафе, нестандартные наряды… Вероятнее всего, какую-нибудь Таню Яблокову из нашего класса, прямую как кол, с длинными ярко-рыжими волосами, будущую филологиню, с монотонным голосом, ровной, монотонной же походкой и направленным исключительно на школьную доску взглядом, эти же парни не задержали бы в своём поле зрения дольше, чем на одну миллисекунду. Дина же с Таней, говоря по-библейски, «жали то, что сеяли». Но, опять же, мне, «хитроумному идальго» все эти оправдывающие мысли вовсе не приносили облегчения.)
Эпизод 6. Шиповник и окна
Примерно в то время я прознал, в каком районе проживает Дина. Её обиталище сделалось «филиалом» «храма», воздвигнутого мной. Особенно на период летних каникул – ведь основное здание «святилища» она покинула, аж на три месяца.
Вот в июне меня и вынесло на М…ское шоссе. Осведомитель мой то ли сам точно не знал, то ли перепутал, но вышло так, что с той точки, где я стоял спиной к шоссе, я видел во всей красе 42-й дом по улице Пехотинской, длинную 9-этажку, в которой в реальности проживала Таня; дом же Дины был скрыт от моих глаз, – загорожен как раз Таниным домом. Я, однако, пребывал в уверенности, что смотрю в правильном направлении. Меня переполняла сладкая тоска. Были сумерки. Поле между мною и, предположительно, Дининым домом пересекали диагонально дорожки, окаймлённые кустами шиповника. В сумерках шиповник благоухал сильнее. Автомобили за моей спиной вспарывали вечернюю тишину нечасто (то был не 2023-й, а 1988-й год, – тогда по дорогам ездило не много машин; кстати, сегодня на этом поле отгрохали преизбыточно высоких зданий, шиповника там уже нет, и 42-й дом по Пехотинской с М…ского шоссе даже не видно).
Я стоял и упивался жизнью. Я привык к своей любовной тоске. Смирился с недосягаемостью возможности воплощения моей любви и был в какой-то мере самодостаточен. Жизнь волшебна. Даже то, что я отвергаем и слаб, в моих глазах мало унижало меня. Я довольствовался и даже гордился тем, что мне повезло иметь такое сильное чувство. И был уверен, что мало кому выпадает подобное. Стало быть, я – баловень Жизни.
Запах шиповниковых дорожек смешивался с сумеречной городской влагой, с электричеством окон и волшебством присутствия богини. Обоняя эту причудливую, пряную смесь, погружённый в ласкающие меня волны жизни, я долго стоял там, медленно перемещая взгляд с одного окна на другое. Вот, где-то там, в тепле тихого, таинственного электричества пребывает моя любовь. Девушка, которую я любил, могла оказаться в любом из этих окон. И её присутствие освящало весь дом, каждое его окно, поэтому перетекание моего взгляда углаживало картину, создавало монолит. «Храм» передо мной светился молчаливыми, задумчивыми огнями.
Я разговаривал с жизнью. Я не знал тогда, что не достичь чего-то – это полбеды. А может даже достижение чего-то – это нечто, могущее обернуться бедой. Жизнь нежно гладила меня электрическим ровным летним теплом, сочувствовала мне, считала своим. Мою душу переполняла грусть, но осознание себя в жизни было великим благом, и я уже тогда осознавал это благо.
3.4. Музыка. Гитара
Вовка Шахов, мой друг детства, и его старший брат Дима влюбили меня в «Битлз». И не только, – вообще, в музыку. Я тяготел к мелодичному року. Для меня «Роллинг Стоунз» всухую проигрывали битлам. Из Лэд Зеппелин я воспринимал только Stairway to Heaven. Гребенщиков мне казался странен, хотя и цеплял порой нестандартной мелодичностью. Макаревич виделся излишне простым, но и гладким, наподобие домашнего кота. Агузарова своими верхами тогда ещё в сердце не попадала.
В то время из советских окон доносились преимущественно Пугачёва и что-нибудь наподобие «Учкудук – три колодца», иногда – Высоцкий. Высоцкого я жаловал. А равно и Окуджаву, – к нему прислушивался мой папа. Порой у нас в доме оказывались пластинки (в основном маленькие – «миньоны», иногда даже гибкие, голубого цвета) с Джо Дассеном, АББА, Бони М и Далидой. Иногда цепляло: Высоцкий и Окуджава – лирикой и, пока для меня поверхностными, смыслами, а Бони М и прочие – мелодиями.
Но «Битлз» относительно всего этого ушли в далёкий отрыв: их музыка являла собой избыток совершенства, в неё как будто было засунуто всё моё светло-детское, – все красивые загадки (и тут же – с такими же красивыми разгадками), вся любовь к жизни, вся гармония – в широком и одновременно концентрированном смысле – и почти вся положительная энергия мира. При этом, Come Together я в музыкальном смысле не понимал, а вещи наподобие Because, I Me Mine и I Should Have Known Better были для меня верхом того, что вообще возможно в музыке.
Интересно, что, поскольку песни битлов (далеко не в полном количестве) были советскими редакторами раскиданы рандомно по всем этим «миньончикам», вышло так, что каждая новая для нас (меня и Вовки) песня становилась значительным событием жизни, и при этом мы не знали, на каком из оригинальных альбомов «Битлз» она изначально помещалась. Однажды Максим Караваев, Вовкин одноклассник (ныне – мой пациент на терапевтическом участке, церковный певец, – я продлеваю ему ежегодно группу инвалидности по поводу рака яичка) одолжил Вовке на один день бобину с песнями «Битлз». Нам же к тому времени был известен в полном объёме только альбом A Hard Day's Night (всесоюзная фирма «Мелодия» соизволила-таки издать его в 1986-м году вместе с странной сборкой под названием «Вкус мёда»). Вовка примчался ко мне слушать. Видимо, то, что было на той Караваевской бобине, представляло собой сборник синглов-хитов, преимущественно не вошедших в альбомы. Тогда мы впервые услышали Love Me Do, From Me To You и Hey Jude.
В другой раз – это случилось именно летом 1989-го – Мишка Шигарёв вручил мне магнитофонную кассету: он нашёл её, бесхозную, в поезде; на ней карандашом было написано по-русски: «Битлз». Шуга (таково было прозвище Мишки) вспомнил, что я – битломан, и одарил меня. Тем же вечером я рванул к Вовке Шахову. Мы поставили кассету. Знакомые нам на тот момент песни почти не встречались. Звучание казалось вовсе не похожим на A Hard Day's Night: слишком уж было всё разнообразно и странно. Вовка тем не менее настаивал, что данная запись – нечто собранное из ранних альбомов «Битлз». Позже, однако, выяснилось, что на той кассете был целиком записан «Белый альбом», выпущенный битлами в 1968-м, примерно за год до их распада.
Или, вот, Вовка писал мне в деревню: «Услышал новую песню «Битлз». Называется «I, I, I Love You». Но песни с таким названием у «Битлз» не было. Вовка на слух вычитал название из того, что пели битлы. Композиция же на самом деле называлась «Ask Me Why».
Так мы и гадали. В К… тогда не существовало студий звукозаписи. Не было ни Shazam, ни Internet. Был только магазин «Грампластинки» на улице Волжской, в котором торговали концертами скрипки с оркестром какого-нибудь Вивальди и записями ВИА «Песняры». И ещё был журнал, кажется, «Ровесник», в котором в некий момент стали печатать по одной песне «Битлз» в месяц, с нотами и текстом. Шахов пытался с свойственной ему наивно-залихватской бравадой исполнять незнакомые композиции по нотам, но получалось не по-битловски, а по-шаховски.
Однажды я попросил Вовку научить меня игре на гитаре. Дело, при наличии слуха, оказалось не таким уж затейливым, а при этом – захватывающим и для самоутверждения чрезвычайно полезным. «Главное», – сказал Шахов, – «упорство, чтобы наработались мозоли в нужных местах на пальцах. А переставлять аккорды довольно быстро научишься». Мы начали с битловской песни Good Night. Вовка до максимального минимализма упростил для меня аккорды, так что чаще всего достаточно было зажимать одну лишь первую струну, поочерёдно на 2-м и 3-м ладах. И я зажимал, переставлял пальцы, морщась от режущей боли: ля-септ-мажор всё же приходилось брать на первом ладу, и, чтобы он звучал, вжимать струну в гриф требовалось немилосердно. Пытая меня, гитара благоухала сладкой вечностью лакированного дерева и как будто вопила в моё дилетантское ухо, что для подобных мне неумёх она – недотрога и слишком горда. Good Night в таком странном, урезанном исполнении получалась слишком уж простой, но всё же это была она – колыбельная, сочинённая Ленноном, которую дали промурлыкать монотонноголосому Ринго. И это нажимало клавишу горделиво-детской радости во мне. (Ещё, примерно в то время, моя сентиментальность решила, что если нам с моей возлюбленной – возможно, это даже будет Дина – суждено отправиться впервые в брачное ложе, я вначале исполню для неё Good Night под гитару.) Вовка дал мне задание на дом: выучить что-то элементарное из «Машины времени». Показал 5 аккордов, щипковый бой и благословил.
Довольно быстро я разобрался с тональностями, октавами и локацией нот (в элементарном смысле, конечно). Дело пошло́.
Мой брат Вадим отбыл на два года в армию. После него осталась гитара (сам он ленился учиться), бобинный магнитофон («катушечник») и проигрыватель пластинок («вертак») с колонками. Я был богат. На катушках от Вадима осталось: Depeche Mode – концертный альбом «101», урывки Pet Shop Boys, кое-что из тогдашней красивой иностранной попсятины, навроде Фалько и C. C. Catch, и Высоцкий. Были долгоиграющие пластинки Джо Дассена, Бони М, бит-квартета «Секрет», Высоцкого и Окуджавы. У Вовки я переписал кое-что из битлов и пост-битлов с его «миньонов».
Потом бабахнуло «Кино». Песня «Игра». Впервые я услышал её на родительской садо-огородной жатве как раз накануне 9-го класса, из советско-перестроечного радио. Я скучно-монотонно обрывал фиолетовые ягоды с колючих веток политого дождём крыжовника. И тут вдруг в нашу резиново-сапожную обывательскую полуприродную хмурь из радиоприёмника выплыли две гармоничные, сочные гитары. Я насторожился и застыл. Звучало проникновенно. И даже в каких-то нотах – пристреливающе-к-стенке. Стройность и громадность щипковой акустики с неслыханным самобытным голосом… «Прозвучала группа «Кино»», – задорно, полу-по-комсомольски объявила нежноголосая советская диджейша. «М-м-м», – прочувствованно промычал я, выпячивая вперёд нижнюю челюсть, – видимо, рефлекторно, в неведомо-слепо-невидимом подражании (бывает же орально-анальный рефлекс, отчего бы не быть цоево-подбородочному рефлексу?) Песня засела. Потом я сходил в кино «Познань» на фильм «Асса». Вид под тахикардические барабаны и басы тяжёлым взглядом сверлящего зажигалочную темноту СССР Цоя в финале фильма вбило мне бодрящий и одновременно задумчивый гвоздь куда-то недалеко от трахеи.
Затем прозналось, что на площади Октября в некоем подвальчике объявилась студия звукозаписи, и там есть новый альбом группы «Кино». Я записал. Песни «Игра», к моему огорчению, на альбоме не оказалось. Но было много другого удивительного. «Группа крови», «В наших глазах», и главное – «Закрой за мной дверь». Так и чувствовалось, что Цой с компанией бродят по тёпло-пасмурным, сигаретным улицам, нарезая неторопливые круги вокруг дома девушки-домоседки, поглядывая иногда на её окна и мягко, взглядами, уговаривая её выйти к ним под тёплый, революционный дождь. Это трогало. А фраза с тройным «на»: «посмотри на часы, посмотри на портрет на стене», – завораживала своей гармонией. В погоне за «Игрой» я решил записать и другие альбомы сей дивной группы («Битлз» в списке предлагаемых к записи музыкальных групп в том подвальчике на площади Октября на тот момент не оказалось).
Своими «Кино»-открытиями я делился с одноклассниками. Однажды ко мне пришёл Димка Васин и раз 8 подряд переслушал песню «В наших глазах», – что-то она с ним такое трудноопределимое сделала, что он всё перематывал и перематывал её в начало.
Песня «Игра» в конце концов обнаружилась на пластинке «Ночь». И ещё ряд замечательных, неожиданно позитивных вещей нашлись на раннем альбоме Цоя «45».
Однажды, в теплоте осени я прогуливался с одним скупознакомым пареньком из прошлого 8-го «Б». Он завёл меня куда-то во дворы за 97-м магазином и там, во дворах, познакомил с необычным патлатым юношей, который показал мне, как исполнять на гитаре «Алюминиевые огурцы», «Восьмиклассницу», а главное – «Игру». Я поразился сложности аппликатуры при исполнении «Игры» и, при этом, был жутко горд, что теперь я это знаю, и у меня выходит так красиво.
Потом от Лёни Бережнёва (вот он и ещё раз всплыл) я вызнал, что существует не менее популярная группа «Наутилус Помпилиус» и «стрельнул» у него запись. «Наутилуса» тоже захотелось больше (хоть и не с такой силой, как «Кино»). Однажды мы с Венчуком и компанией отправились в магазин «Культтовары» на Рабочем посёлке (район в К…) покупать мне штангу (ребята узнали, что я качаюсь и решили мне в этом всячески способствовать). Выяснилось, что и в этих-самых «культово-культурных товарах» тоже есть звукозапись. Очень простая. Стои́т стол по типу школьной парты, за ним сидит парень лет 25-ти. Перед парнем – листок, на котором синей шариковой ручкой перечислено, что у него есть. К примеру: «Depeche Mode: ̓81, ̓82, ̓83, ̓84, ̓87. Наутилус Помпилиус: ̓85, ̓86» и т. д… Названия альбомов, а также прочая уточняющая информация, к примеру, сведения о том, студийный это альбом или концертный, не предоставлялись.
Вот я и заказал наугад: Депеш – 84 и Наутилус – 85. Забирать катушки поехали с Венчуком. Был солнечный желтолиственный октябрьский денёк. Мы шли по Рабочему посёлку медленно, прозрачно, подобно падающим листьям, устремляясь постепенно к «Культтоварам». Я увидел, как Андрей напрягся: он ритмично на ходу сжимал-разжимал кулаки опущенных рук и настороженно смотрел по сторонам. Я понял, что он как будто бы почуял приближение ребят, задающих роковой вопрос: «Откуда?» Андрей сказал спокойным, ровным и одновременно каким-то неуловимо чужим, раздражённым на жизнь голосом:
– Знаешь, Гош, а хочется так иногда подраться…
Я не ответил ему. Я подумал: вот, Андрей – мой телохранитель. От этой мысли, с одной стороны, стало спокойнее, приятнее и радостнее (друг за друга и прочее), вот только я прекрасно понимал: попадись нам такие же ребята, что раза 4 меня до этого останавливали, Андрей вряд ли смог бы от них отбиться.
Но обошлось без приключений.
Я приехал домой, лёг на пол и стал слушать Депеш Мод – 84. Я надеялся, что там будет студийный вариант песни Shake the Disease, которая была на Вадимовой катушке с альбомом «101» (эта песня до сих пор – моя любимая у них), но её не оказалось. Зато была в конце вещь с эффектами клацо-щёлкающих ножниц и ритмичным дыханием смерти. Я уловил в песне фразу: «When I die тарарампампампам no-о-thing». Я решил перевести её: «когда я умру, там, куда я попаду, не будет ничего». Гораздо позже выяснилось, что вещь называлась «Богохульные слухи» и Депеши в том месте возглашали: «Я думаю, у бога есть чувство юмора. Когда я умру, я надеюсь увидеть его смеющимся».
То же, что было обозначено в студии звукозаписи фразой «Наутилус – 85», оказалось концертником с не очень благозвучным, рваным исполнением. Открывался он песней: «Я пришёл войти в те ворота, откуда я вышел». Всё это попахивало смесью инцеста и какой-то извращенческой философии. Андрей, Влад и Дима Васин, пришедшие на другой день послушать, что записалось, позабавились в своём духе над всем этим. Ещё они, как всегда, подшучивали над старушками. У меня за стеной жила добрая пожилая женщина. Но глухая, с без устали для кого-то каркающим голосом. Слышно её сквозь электрическую розетку всегда было очень хорошо. Дима Васин, приходя ко мне, всегда первым делом бросался к розетке и начинал громко разговаривать с бабушкой. Ещё мы с моего подоконника частенько прыгали на край её балкона. В тот же раз какая-то другая старушка возилась внизу во дворе с сушёным бельём на кривых вешалах. Андрей приоткрыл окно, поставил колонку в проём и включил «на полную» вот эту самую «…Откуда я вышел». Влад хихикал, Васин, подвизгивая, завывал, Андрей – беззвучно корчился на полу. Такие вот были у меня «дорогие гости»; они мало задумывались, что скажут мои соседи мне и моим родителям. Но я нисколько не негодовал на них. До сих пор у меня был только хоть и уникальный во всех смыслах, но такой сугубо-литературный Вовка Шахов, а теперь – вон сколько весельчаков, говорящих с жизнью на примитивном, бессмысленном, но таком беглом языке. И вроде все они – и вправду мои друзья. Смотри вот, – штангу мне подарили…
Качался я под «Accept». (Далее следует вставка из дневниковой рукописи «Третий Адам».) [В 80-х слово Accept писали краской на гаражах и газовых будках. Я качался под эту металлическую группу, потому что надоело быть дразнимым сверстниками за костлявость и физическую немощь. Тогда казалось, ничего тяжелее Аксепта не бывает, а подростковая задорная агрессивность вполне гармонично воспринимала все эти визги. И неплохо работало: к концу девятого класса я уже мог подтянуться несколько раз. И вот, в некий зимний день, крутится катушка с первым их альбомом (качался-то я, в основном, под пятый – Metal Heart), я стою в своей комнате, смотрю в окно на квадратный двор, а там вдруг в полусумерках повалил большими хлопьями медленный, но косой снег. И аксептщики почему-то прекратили визжать и заиграли металлическую балладу. И вошла тогда аксептовая баллада куда-то в мою душу, как будто она была растворена в этих сумерках, а тёплый, мягкий снегопад нёсся, нёсся в меня. Я вдруг отчётливо ощутил себя большим, монолитным с жизнью и природой, мудрым, с рассеянным, но при этом основательным взглядом. Я испытывал невероятный покой. Ощущения были значимы и монументальны. Впрочем, я тогда был влюблён драконово в Дину, а Дина не то чтобы презрительно пренебрегала мной, а просто и она и я понимали, что я ещё не сделался самцом и не мог слепить абсолютно ничего осязаемого из своих сильных, отчаянных, но грустных, аморфных чувств. Была обида, но тоже какая-то аморфная. Наверное, – просто на то, что Дина не собиралась ждать моего «вызревания», а зачем-то яшкалась с обычными самцами. А та снегопадовая баллада что-то как бы оформила во мне, влила каких-то вперёдподбороднутых сил. Катарсис сей ощущался мною только до конца баллады. Потом утих и снегопад. Но это же была некая незримая ступень! Как будто этап дискретного превращения размазни в жёсткую личность. Году в 2009-м, когда ещё интернет не заполонил всё пространство, но уже существовали компакт-диски, я вдруг вспомнил этот эпизод и подумал: «вот хорошо было бы сейчас послушать ту балладу». Я зашёл в музыкальной магазин, взял диск первого альбома «Аксепта» и стал переключать треки. Ни одной медленной композиции, как ни странно, там не оказалось. На днях же, в момент обдумывания всей этой концепции «музыкожизни», снова стало интересно. И я обнаружил-таки ту балладу. Ну да. Баллада. Ничего особенного. Я этих баллад, в разы более качественных и гармоничных, за все свои годы переслушал ворох. Да и вообще, «Аксепт»… Прислушался к песням на альбоме «Metal Heart». Блёкло. Вторично. Если не третично. А ведь когда-то вот это несуразие помогло тощему подростку преодолеть физическую и эротическую ущербность. И даже в некий трудноопределимый катарсис его загоняло…] Вот так, что-то чрезвычайно подобное встречалось уже здесь в описании эпизода с шиповником и окнами. Всё то же грустное прилепление к таинству жизни в отвергнуто-влюблённом состоянии.
Однажды, ещё в сентябре 88-го года, когда мы менялись с «Б»-классом в раздевалке спортзала, я застал там Мишку Руднева с гитарой. Играл Мишка уверенно, спокойно, пальце-липуче. Он был почти «профи». Почему-то он обратился ко мне и попросил сыграть что-то. Я сыграл. Мишка смотрел бесстрастно, как будто и не оценивал. Потом вдруг выстрелил мне в лоб:
– А как берётся аккорд си-септ мажор без барре знаешь?
– Знаю, конечно, – гордо подвыпятил грудь я. Взял этого четырёхпальцевого крокодила.
– Смори-ка, знает, – наморщил подбородок Мишка, глянув на моих переодевающихся одноклассников.
Видимо, Мишка подыскивал напарника, чтобы сыграть микроконцерт на Дне учителя. Через пару дней он пришёл ко мне домой со своей гитарой и показал аккорды песни «Ласкового мая» «Медленно уходит осень». Вообще, моя ро́ковая душа не шибко жаловала всё это элементарно-синтетическое писклявое пиликанье с акцентированно-инфантильным сладеньким голосом. Но гармонии и мелодии «Седой ночи» и вот этой вот «Осени» цепляли. Комбинации аккордов были, как ни странно, не банальны, а от некоторых слов по всему моему томящемуся от первой любви существу шли мурашки. К примеру, вот это: «А осень зла, и надо мной смеётся…» Из этих слов мгновенно вплывал в душу образ Дины, язвящей и подхихикивающей (может быть, и деланно) в мою сторону и спешащей кокетничать с другими молодыми людьми, над которыми она непонятно почему не посмела бы смеяться.
Мишке не пришлось меня уговаривать. Ему, очевидно, нужно было самоутверждение, мне – тоже. Отчего бы не спеть? На Дне учителя. Про осень. Кроме того, я с трепетом надеялся, что Дина тоже будет на концертике, и она увидит, что я разносторонен, талантлив, и плюс – в одной компании с великим музыкантом Мишкой Рудневым, – из всей-то школы он лучше меня аккомпаниатора не сыскал!
Мы спели. Слушателей было немного: человек двадцать во всей рекреации. Таня с Диной бегали в тот момент по другим этажам, и наш концерт присутствием своим не почтили. В конце Мишка поблагодарил и пожал мне руку. Было приятно.
Ближе к зиме в 9-м «А» организовалась дискотека. Я предоставил свою аппаратуру и коллекцию записей. Диджейство тоже на три четверти легло на меня. Вышло кисловато. Кажется, девочки ожидали некоего единения с мужской половиной класса после этого мероприятия. Но всё текло так, как и в классе. Андрей Венчук был отличный лидер в мужской среде, но перед девочками он притихал и тушевался. Кажется, он всегда испытывал перед женским полом некое мягкое благоговение. Наверное, во времена всяких Д'Артаньянов он бы не шляпой с перьями перед дамами размахивал, а просто тихо каждый раз на одно колено вставал. Я был к девочкам 9-го «А» ровен, вся моя призванная к взаимодействию с дамами энергия кумулировалась исключительно для одной девочки из 9-го «Б», и мне было, по большому счёту, всё равно, как пройдёт эта дискотека. Владу же Сотову, я думаю, быть хорошим диджеем мешал банальный эгоизм. Он любил в музыке громкие, неожиданные, либо какие-нибудь вычурные звуки. Так, у меня нашлась катушка с песнями «Радиорамы». Запись начиналась с повелевающего мужского голоса: «Stand up and dance!!» Влад, учивший немецкий, слышал в этом почему-то русское слово «стена». И это его заводило. Но девочкам ритмы «Радиорамы», видимо, показались чересчур жёсткими, танцевалось им вяло, одна за другой они уходили и разбредались по стенам. Тогда мы на всё плюнули и решили «зарубить метал». Поставили Balls to the Wall «Аксепта». Такое уж девочкам и подавно не могло стерпеться. Но нам было всё равно, мы «зарубали». В конце концов подошла парламентёрша с девчачьей стороны и потребовала чего-нибудь мелодичного. Я поставил Pet Shop Boys и угадал. Девочки визгливо взвились и затанцевали. К неудовольствию Влада: он считал Pet Shop Boys излишне слащавыми. Под медляк Later Tonight я танцевал с Леной Бурляевой. Она была добрая, средней громкости, с толстой косой, но, на мой взгляд, вовсе не красивая. Танцевать с ней мне было едва ли не неприятно. Вероятно, это она пригласила меня на танец. Я наблюдал за другими. Андрей танцевал с Олей Золиной. Оля внешне была «ничего»: нос с плавной горбинкой; тихо, самоуверенно умная, эрудитка, но голос излишне писклявый. Андрей вытянулся по струнке. Лицо его было серьёзно. Как будто он стремился сделать торжественный шаг и поцеловать флаг. Мне подумалось: вот если бы такому Андрею, каков он сейчас, дать в руки баскетбольный мяч, он из 10 бросков ни разу в кольцо не попадёт.
Так или иначе, дискотека всё-таки состоялась. Английские мальчики из магазина домашних животных выручили.
Собственно сама история 3 (недопоход)
Вино и ковёр. Взрослость. Я и Мишка Руднев. Я и «банкротство». Осень. Пустые разговоры.
Андрей Полозов (Чита) зазвал нас на свою пустынную дачу в одну из осенних суббот. В рядах прошепталось, что хорошо бы каждому по сусекам поскребсть и предоставить компании чего-нибудь алкогольного. На тот счастливый момент я с алкоголем ещё не был дружен. Родители однажды на Новый год плеснули мне шапмпанского, и сей опыт оказался кисл во всех смыслах. Мне и так хотелось спать, а от этой дряни не случилось никакой эйфории, напротив – как-то неприятно затосковалось. Однако я знал, что алкоголь людей меняет и зачастую делает их весёлыми и добродушными (таковым, к примеру, являлся мой дедушка Сеня, проживавший в деревне под Раздольем, – трезвым он был строг, серьёзен и сосредоточен; хлебнувши же делался приятен, маслян и даже напевен). Видел я и нехороших пьяниц, каковые, например, в солнечном троллейбусе 8-го марта во всё горло монотонно ежеминутно выкрикивали поздравления женщинам, и женщин это, очевидно, не радовало. Такие пьяницы ничего и никого не боялись, глаза их были красно-стеклянные, подбородок кактусово-небрит, одежда неопрятна, и мне было понятно, почему женщины не радуются: создавалось впечатление, как будто в троллейбусе с празднично-тюльпанными солнечными людьми едет не человек, а некий зверь, наподобие паршивого бездомного пса и препротивно лает. Я, естественно, не думал, что, потребляя алкоголь, когда-либо таковым пьяницам уподоблюсь.
У нас дома была большая бутыль черноплоднорябинового самодельного вина. И я порешил часть его потихоньку скрасть. Рано утром в субботу, затемно, прокрался в бабушкину комнату, где стояла бутыль, с пустой стклянкой из-под лимонаду и стал азартно переливать. Обидно пролил некоторое количество этого чёрно-бордового ужаса на светлый пушистый ковёр. Образовалось нехорошее пятно. Я применил к нему водяную тряпку – пятно расползлось, сделалось бледно-досадно-розовым, но исчезать категорически отказывалось. Тогда я решительно сместил ковёр так, чтобы преступление моё оказалось хотя бы на три четверти под диваном. Сунул добычу с неуместной теперь этикеткой «Буратино» в рюкзачок с мамиными бутербродами и фотоаппаратом и – долой наружу, в осеннюю предупредительно-холодную, чуждую всем маленьким детям темноту. Я уже, кажется, не был ребёнком. Не быть им было одновременно страшно, непривычно и ответственно. Непривычность особенно подавляла. Я пошёл на эту авантюру с вином вовсе не из-за того, что мне хотелось испробовать алкоголю: я просто очень сильно хотел стать настоящим другом для своих новых друзей. При этом я всё-таки чувствовал некоторую их слепо-немую отделённость от меня и ничего не мог с этим поделать.
Я зашёл за Владом, мы уехали на автовокзал, и там всей компанией залезли в автобус, который ещё затемно умчал нас куда-то в направлении Полозовской деревни. Кроме меня было человек шесть: Андрей Полозов, Влад, Венчук, кто-то ещё из «гэшников» и почему-то Мишка Руднев – он как-то сразу проник в компании обоих классов – и «Б», и «А». Думаю, именно из-за него поездка для меня получилась хмурная. Дело в том, что Мишка был из бывшего «В» и знал, что я всегда занимал там положение угнетаемого и презренного – о чём не знали «гэшники», мои новые друзья. Руднев и сам относился ко мне с плохо скрываемым пренебрежением. Помню одну нашу беседу. 8-й «В» в январе 1988-го отправился почти всем скопом в Ленинград. Парни тратили данные им родителями деньги на что-то «взрослое», я же приобрёл себе красивые канцтовары – дивную, затейливую ручку, чтобы писать книги про индейцев и великолепную общую тетрадь, – а также сливы в подарок родителям. Парни вовсю шутили и как умели флиртовали с случайными девочками-попутчицами, а я чувствовал себя «чужим на этом празднике жизни»* (* – цитата из «12 стульев» Ильфа и Петрова) и, даже лёжа на верхней полке в молчании, кажется, всем был помехой. Не помню каким образом, но я даже повёл себя тогда неадекватно и чуть ли не агрессивно в некий момент, чем спровоцировал в свою сторону волну презрительных нареканий со стороны как милых попутчиц, так и одноклассников.
На другой день мы завтракали к вагоне-ресторане. За окном пейзаж был уныл. Нас потчевали кофе и яйцом, разрезанным, сложенным в виде гриба и политым майонезом. У нас дома соблюдалась некая диета, и майонез я ни разу в жизни на тот момент не пробовал. Вкус показался мне вдохновляющим, тоже каким-то «взрослым». Мишка Руднев завтракал напротив меня. Он заговорил со мной по-отечески, наставительно. При этом всё-таки тон у него был не издевательский, а ровный, опытно-философский, с оттенком едва ли не доверительным. Учуяв это оттенок, я был склонен поддержать беседу.
– Ты, Игорь, не приспособлен к взрослой жизни.
Я подумал, что он имеет в виду моё вчерашнее поведение на виду у милых дам. Я с видом весёлого снисхождения к самому себе принаклонил левое ухо к плечу:
– Ну-у, наверное, я не созрел ещё. Рановато к женщинам соваться.
– Не. Я не об этом, – сказал Мишка, поедая майонезный гриб и лениво глядя на Рыбинское водохранилище. – В тебе нет чувства банкротства.
– Чего?
– Чувства банкротства.
Я вспомнил, как ребята вчера смеялись над моими «странными» покупками. Мне нечего было ответить Мишке. Он, и правда, говорил, как взрослый. Я даже и подумать не мог, что ко мне и моей жизни можно сейчас или когда-нибудь в будущем применить такое величественное слово, как «банкротство».
Конечно, уже что-то поменялось. Даже наше гитарно-выпендрёжное сотрудничество с Рудневым уже многое значило. Но Мишка не стремился стать моим другом, и, кажется, по-прежнему «знал мне цену». Не знаю, было ли заметно его отношение ко мне «гэшникам». Во всяком случае, я уже не мог при нём быть таким же с новыми друзьями, как без него.
Но дело было не только в этом. Вот такой же дух всезнайства, мнимой опытности и назидательности Мишка применял не только ко мне, но и к «гэшникам». У тех смех был детский, а у него – сатирический (опять же, «взрослый»). Ребята из «Г» Мишку принимали, прислушивались к нему, подстраивались. Хотя и не прогибались особо под него. Но в этом процессе я был вытеснен и пребывал, как мне было привычно, на обочине.
Дача Полозова, и правда, оказалась редким захолустьем. До неё ещё от дороги пришлось идти километра два полями и перелесками. Было в природе осенне-промозгло и, хоть и сухо, и жёлто-берёзово, но скучно, неродно́. Андреев домишко – скудный, подзаброшенный, и едва ли не одинокий. Только природа, и рядом – два умерших хозяйства. Кроме меня вина принёс ещё кто-то один. На всех вышло мало до неощутимости. Да и вино-то оказалось слабое. Но меня от души похвалили за самоотверженную партизанщину. Была гитара. Мишка слабал «Улицу роз» «Арии» и ещё что-то попсовое. Я не совался. Попинали мяч. Что-то придумали с едой и воплотили.
Совершенно не помню, о чём велись разговоры. О чём-то несомненно малозначимом, праздном (видимо, я не способен такое запоминать). На обратном пути осень показалась мне ещё жёстче. Безветрие; но недоброе, призывающее уже зиму, зимнее запустение. Травы ещё зелены, но блёклы. Так, под праздные разговоры мы и убрались оттуда.
История 4. Межино. Июнь, 1989
4.1. «Ашники»
Если все пятеро ребят, перешедших в 9-й «А» из «Г» класса, славились общительностью, шутовством и беззаботностью, то «ашники» на их фоне выглядели разнородными, смурными и каждый-себе-на-уме.
Про Андрея Ржановского «Спонсора» уже вскользь упоминалось. Да, он был странен. Поговаривали, что в средних классах он гонялся за одним из обидчиков с циркулем в руке. В нашу компанию он, естественно, не входил, но всё время оказывался как будто неподалёку. Так он и стал «Спонсором». Апогей его «странности» случился по весне 1988 года. Тогда была популярна телевизионная программа «600 секунд», и Андрей вдруг стал «фанатом» Невзорова, её ведущего. Тот скакал на коне Гласности, ничего не боялся и обличал всё и вся в стране с безапелляционной жёсткостью и саркастическим юморком. Взгляд Невзорова был немигающ.
На волне всего этого однажды Спонсор явился в школу в чём-то таком дон-кихотовом. Его школьный пиджак был обрезан и заправлен в брюки под ремень, вместо обычного «мужского» галстука на резинке на шею была повязана аналогия галстука пионерского, но какого-то невнятного, крапчато-коричневого цвета, а с лацканов пиджака свисали на металлических под медь цепочках брелоки с некими лозунгами, написанными криво разноцветными фломастерами. Всё это дико напоминало известную поговорку про «дурака и фантики». Уверенно пройдя в таком виде внутрь образовательного учреждения «Средняя школа N12», Ржановский поместил на большом информационном стенде собственную статью, озаглавленную: «Школе – новую форму и реформу!!!». Статья была написана весьма небрежно, пачкающейся ручкой, с орфографическими ошибками. Листок со статьёй Спонсор неаккуратно вырвал из обычной ученической тетради в клетку. Детали реформы, предлагаемой учеником 9-го «А» класса Андреем Ржановским, я припомнить вряд ли смогу. Что-то такое про значительное расширение властных полномочий обычного старшеклассника, выборы учителей, классных руководителей и школьной администрации. В конце содержалось что-то вроде анкеты с данными самого автора. Среди прочего обозначалось, что его любимый телевизионный ведущий – Александр Невзоров, а любимый фильм – «А ну-ка, девочка, разденься!»
Статья провисела на стенде весь тот учебный день. Удалить её оттуда, видимо, не решались по причине того, что Перестройка, и правда, требовала гласности без ограничений (и, кстати, в вечерних телевизионных программах и транслируемых фильмах в то время всё чаще стали появляться элементы эротики). На переменах взрослые и дети подходили к стенду, прочитывали Спонсоров шедевр и, в большинстве своём, потешались. Андрея Венчука в тот день смех бил без остановки, на уроках ему делались замечания. Сам Ржановский был, как обычно, молчалив и сверх обычного улыбчив. Однако на уроке математики наша классная руководительница Ольга Сергеевна Тимашова пренебрегла установками времени и строго выговорила ему. Ольга Сергеевна была хорошим человеком на все времена. Одновременно строга, мягка, простодушна и непримирима ко всему неэтичному. Всё это, по мнению моих весёлых товарищей из бывшего «Г» класса, граничило с банальной глупостью, над которой, как и над поступками Спонсора, стоило бы от души посмеяться.
Выговаривая Ржановскому, Ольга Сергеевна в конце концов сделала внушительную паузу и, не отрывая от переставшего наконец улыбаться нарушителя испепеляющего взгляда, искажённо и акцентированно-пристыжающе повторила на свой лад название любимой Спонсором кинокартины: «Пойди, девочка, раздевайся!» В тишине класса всем было слышно, как упала на парту голова беззвучно хохочущего Венчука.
Ещё одним моим новым одноклассником, ведущим своё происхождение из бывшего «А»-класса был Миша Бородин, за глаза прозываемый «Бородатычем». Он также был сыном учительницы начальных классов. (Вот ведь, как оказывается: в моём классе собрались аж четверо потомков учительниц 12-й школы! Как будто все эти дамы почему-то решили забеременеть в один год, ровно через 10 лет после разрешения Карибского кризиса. Мама Миши Бородина вела «Г»-класс, мама Максима Малькова – «В» (ко мне она в то время хорошо относилась), мама Андрея Ржановского – класс детдомовцев, а ещё с нами училась дочь самой Ольги Сергеевны, нашей классной.) Бородатыч был квадратен. Имел квадратную могучую фигуру, квадратную почти блондинную голову, громкий грубый голос с как бы неизменно конфликтующими со всем окружающим миром, обиженными нотками и внезапно не идущие ко всей этой квадратности светло-голубые женские глаза с белёсыми ресницами. В целом, похож он был на самого обыкновенного русского медведя.
Мы с Бородатычем не особо жаловали друг друга. Руку Миша при пожатии, в отличие от Венчука, имел вялую. Он был уверенным в себе, как бы «понявшим жизнь» парнем; смотрел на всё то ли непроницаемо, то ли полупрезрительно, то ли с молчаливым вызовом, то ли всё это сразу. Из всего бела-света, кажется, он любил только свою собаку, эрдельтерьера, ему самому, Мише, по пояс. В баскетбол не играл; общался не столько с нами, сколько с 10-классниками из своего двора.
Следующие два персонажа будут слишком часто фигурировать в сей поэме, поэтому постараюсь сказать о них сейчас насколько возможно лаконично и сразу же перейду к межинской истории (о первом более-менее взрослом, хотя и безобразном, походе).
Мишка Шигарёв, «Шуга» – прозвище-производное-от-фамилии, против которого он нимало не возражал. Классе в 7-м нам с ним случилось поучаствовать в некоем выездном не то пионерском, не то меценатском мероприятии (кажется, что-то связанное с посещением лошадиного манежа на улице Сакко). Шигарёв показался мне тогда – как и много раз позже – личностью отталкивающей. Он был черняв, смугл, достаточно высок, худощав, лицо постоянно сгруженно-озабоченно-нахмуренное, не как у Бородатыча монотонно-презрительно, а этак с перманентным возмущённым вызовом. Он слишком много, неконтролируемо матерился и, почти не скрываясь, уже тогда покуривал. Создавалось впечатление, что его раздражает всё на свете и, при этом, – одномоментно. И он не ленился высказывать своё раздражение любому попавшемуся собеседнику, и делал это громко. Голос его всегда перекрывал любые другие голоса. Тихая речь, впрочем, была ему доступна, но прибегал он к ней крайне редко.
Смахивал Шуга на этакого вечного домашнего бунтаря, яшкался с разного рода полухулиганами и, возможно, если бы не Тимоха Вестницкий, с высокой долей вероятности куда-нибудь «туда» неизбежно скатился. К учёбе он всегда был хладен и учился кое-как на «тройки». Меня озадачивало то, что такой откровенный оболтус произошёл из интеллигентной семьи: его папа был уважаемым в К… урологом (правда, он умер, когда Мишке было совсем немного лет), а мама – чрезвычайно талантливым стоматологом. Воспитывался Мишка мамой и бабушкой – женщиной строгой и тоже, как видно, в высшей степени интеллигентной. Мишку прочили в медицинский институт, невзирая на его очевидные ограничения в плане усидчивости и прилежания.
Так вышло, что Тимоха Вестницкий и Шуга были дружны с детства. И получился из этого занятный симбиоз: Шигарёв увлёк Вестницкого за собой в медицину, а Вестницкий всю свою жизнь опекал Шигарёва, регулируя его характер, поступки и склонности (так, по крайней мере, мне это виделось и продолжает отчасти видеться).
Тимоха Вестницкий на определённом этапе моей жизни сделался для меня лучшим другом. Но знакомство наше тоже не проходило гладко и одномоментно. Как и прочие «ашники», Тимоха казался серьёзным, неприступным, подчас даже суровым. Он был невысок, кругл и как бы с виду мягок на ощупь, но всё это своё физически невзрачное и даже вроде бы слабое с лихвой компенсировал вот этой своей суровостью. Позже правда открылось, что в минуты вовлечения в общее доброе дело – такое, к примеру, как баскетбол, минуты расслабления и забвения воюющих с ним комплексов, Тимоха делался обаятельно смешлив, открыт, радостен и высшей степени приятен. Даже искусно впадал в очаровательную, бегающую смешно на носочках и тыкающую тебе смешно пальчиком в бок детскость. Смех его был благозвучен, разливист и радужен – он как будто раскрывался подобно вееру карт в руке. Если Венчук смеялся над глупостями, то Тимоха добавлял к такому смеху нечто возвышенно-интеллигентное (родители же Тимохи медиками не были и высшего образования, кажется, не имели; отец одновременно прост и затейливо-весел, мама же – скорее вседневно озабоченно-озадачена). Если, скажем, Мишка Руднев больше натягивал на себя личину взрослости, то Тимоха Вестницкий именно выглядел и казался не по годам взрослым. О вещах, значимых с точки зрения здравой прагматичности, Тимофей высказывался уверенно, хлёстко, зло, наотмашь, без колебаний. Про себя в такие минуты думалось: «Да-а-а, с виду вроде такой обыкновенный мальчонка-пухляшок, а задвигает идеи, как будто ему за 40». Трудно сказать, что сделало Тимоху таким. Возможно, воспитание, а возможно – взваленная самим на себя роль Шигарёвского опекуна.
Мне памятны только два эпизода из той ранней поры нашего знакомства.
Эпизод 1. «Знаешь какой он?!»
Думаю, это случилось ещё тогда, осенью 1988-го, когда было ещё тепло и жёлто-берёзово. Мы оказались однажды вечером с Вестницким на пороге 12-й школы. То ли мы куда-то собирались, а другие ещё не пришли, то ли, наоборот, все разбрелись, а мы с ним остались. Тимофей в тот момент был в фазе сосредоточенной, молчаливой сердитости. Речь зашла о Шигарёве, о его необязательности и разгильдяйстве. Видимо, это каким-то боком подходило к ситуации. Вряд ли я пытался Шугу оправдать, скорее просто задал некий уточняющий вопрос. И вдруг Тимоха взорвался. Он неожиданно вперился в меня негодующим огнепыхающим взглядом и жестикульнул правой рукой интригующе-проворно: «А ты знаешь, какой он, Шигарёв?!!» И Тимоха стал мне рассказывать случай из жизни, видимо, с его позиции, характеризующий Шигарёва максимально отчётливо. Я не запомнил той Тимохиной истории, но меня ошарашила эта фраза: «Знаешь какой он?!» Я впервые встретился с подобным. Можно ли так сказать о каком бы то ни было человеке? Можно ли сформулировать что-то такое настолько лаконичное про какого бы то ни было человека?.. Я уже давно сам про себя судил тех или иных людей, но никогда бы не подумал, что возможно вот так легко, как Тимоха Вестницкий, вычленить из многогранного характера человека нечто одно, ярко обозначить это одно и уверенно и безапелляционно сказать: «Вот он какой!» Я не подумал в тот момент, что Тимоха неправ, что он судит однобоко, что судить о людях – особенно вслух и за глаза – вообще нехорошо. Я просто поразился этой Тимохиной черте: неужели он настолько опытный и взрослый, что может небоязненно вычленять из целого нечто главное и говорить об этом громко и уверенно?.. В тот момент мне показалось, что Тимофей с Шугой недолюбливают друг друга, и уж никак они не друзья. Только спустя время я узнал, насколько на самом деле тесна и нерушима эта труднообъяснимая с первого взгляда жёсткая связь между ними.
