Голос и движение: рождение искусства
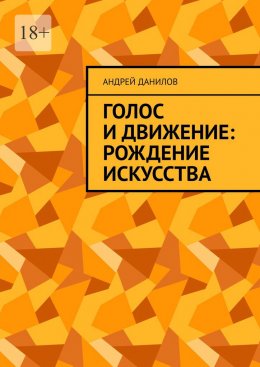
© Андрей Данилов, 2025
ISBN 978-5-0067-6332-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРЕДИСЛОВИЕ
Как родилось то, что мы сейчас называем искусством? Какие эволюционные процессы привели к появлению феномена, который так украшает нашу жизнь? В какой форме существовало первобытное искусство? Эти вопросы интересуют меня очень давно, но ответы на них теряются в тумане веков. Монографии искусствоведов содержат лишь предположения, и это абсолютно обосновано, так как наука по определению должна опираться на документально подтвержденные факты, что для пения и танца, получивших возможность материальной фиксации немногим более ста лет назад, абсолютно невозможно. На «откровения» разнообразных «духовных провидцев» опираться нет никаких оснований, ведь очевидно, что кроме неряшливо состряпанных спекуляций эта публика ничего предложить не может.
Версия ответа на этот глобальный вопрос, которую я смог признать достаточно убедительной, проявилась относительно недавно, после многих лет исследования как, собственно, искусства, так и его терапевтического воздействия на сферу психики, физиологии и социальных отношений человека. Когда концепция, изложению которой посвящена эта книга, стала принимать четкие очертания, я решил написать статью для толстого академического журнала, в которой собрался сформулировать ее основные положения. Писал я ее непозволительно долго, на протяжении полутора лет регулярно возвращаясь к ней, постоянно что-то исправляя и дополняя. В результате этих манипуляций статья приняла несуразно огромный размер, редакцией журнала она была предсказуемо отклонена из-за размера и того, что круг рассматриваемых в ней вопросов явно не вписывался в формат специализированного издания, и я решил сделать из нее полноценную книгу.
Изучение этого многомерного и сложного вопроса привело меня к неожиданным и, во многом, парадоксальным выводам о том, что на заре существования человечества пение и танец являлись важнейшими элементами практически всех значимых процессов, которыми сопровождалась наша эволюция. Они влияли на организацию труда, воинское искусство, развитие языка. Но главной их функцией, как мне кажется, было достижение состояния психофизиологического баланса и настройка социальных связей, что способствовало развитию как отдельного человека, так и всего сообщества в целом.
Я многократно переписывал этот труд, стремясь как можно более полно изложить свое видение рассматриваемой в нем проблемы. Некоторые мысли, которые я посчитал важными для обоснования своей версии эволюции этих видов искусства уже содержатся в моих предыдущих книгах, и я прошу прощения у тех моих читателей, которые пристально следят за моим эпистолярным творчеством за то, что им придется потратить время на уже известные им сведения. Однако, такие повторы, для полноты понимания моей концепции абсолютно необходимы.
А теперь, когда мотивы и предыстория написания этой книги известны моим читателям, пора заканчивать это затянувшееся предисловие и переходить к изучению гипотезы о появлении в нашей жизни пения и танца.
ВВЕДЕНИЕ
Вопрос зарождения различных жанров искусства является одним из самых таинственных в истории человечества, и для этого есть объективные причины. Действительно, очень хочется понять логику эмоциональных порывов первобытного человека, стремящегося придать своим каменным ножам некое подобие эстетической формы, явно выходящей за пределы их функционального назначения, украшающего стены своих каменных жилищ рисунками и создающего прототипы современных духовых инструментов. И это в то время, когда добыча пропитания и создание минимально приемлемых бытовых условий в абсолютно враждебной среде представляло колоссальную сложность и должно было отнимать все силы и время. Что же могло давать праискусство нашим предкам такого, чтобы они в процессе жизнедеятельности тратили на него энергию, которая была для них явно нелишней?
Логика подсказывает, что те затраты энергии, которая шла на создание предметов, не имеющих явного утилитарного смысла, многократно восполнялись при созерцании этих предметов, причем эта энергия, наверняка, становилась достоянием не только самого творца, но и всего сообщества, его племени. Ведь трудно предположить, что первобытные люди были настолько альтруистичны, что давали место у костра и кусок мяса мамонта тому, кто провел весь день в пещере, занимаясь непонятными росписями или вытачиванием фигурок, в то время, когда его соплеменники рисковали жизнью, охотясь на опасных животных или уворачиваясь от стрел воинов из конкурирующего племени.
Ответ кажется очевидным – первобытное искусство давало нашим предкам энергию, многократно превышающую затраты на создание образцов этого искусства, и эту энергию они уже могли тратить на решение практических задач. Однако, эта очевидность может быть только гипотетической, вытекающей из чисто умозрительных рассуждений, которым сложно найти практическое подтверждение. Как писал финский искусствовед И. Гирн: «бесполезно делать выводы из фактов истории искусства, так как мы никогда не знаем точного психологического источника этих произведений» [1].
Еще сложнее получить ответ на вопрос о зарождении тех видов искусства, которые не воплощены в материальном виде. Наскальные рисунки, фигурки палеолитических Венер, обработанные ракушки и другие артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок, дают нам представление о приблизительном времени зарождения и конкретных формах того, что через много тысяч лет мы назвали живописью и скульптурой. Но когда и как зародилась музыка, танец, и все многообразные жанры искусства, базирующиеся на этих элементах творчества? Ответ на этот вопрос может быть дан только в виде версий, основанных на нашем современном понимании специфики и сути многомерного феномена искусства.
Общепринятая версия о синкретическом характере первобытной музыки и танца, которые разделились на самостоятельные жанры в гораздо более поздние времена, представляется мне абсолютно обоснованной. «Музыка не могла существовать как искусство вполне самостоятельное и представляла собой элемент синкретического единства: она была неразрывно связана с поэзией (шире – со словом), с танцем (шире – с движением, действием, обрядом) или одновременно с тем и другим» [2]. Исследователи, представляющие различные научные направления, подчеркивают те черты первобытного искусства, которые, несомненно, были для него характерны. К. Г. Юнг пишет о мистицизме первобытного человека [3]. Э. Кассирер [4] и С. Лангер [5] – об изначальной способности к символизации образов, послужившей одним из условий возникновения искусства. Й. Хейзинга подчеркивает врожденное влечение человека к игре, которое, по его мнению, сыграло определенную роль в формировании искусства [6]. И можно согласиться с К. З. Акопяном, предполагающим что».. фундамент первобытной культуры образуют игра, ритуал, язык, миф и прамузыка. Именно на этих «китах», которые относятся к двигательным и устным формам деятельности и творчества, на наш взгляд, и покоится ее грандиозное здание. Кроме того, повторим, что эти «киты» практически никогда не плавали в одиночку; иначе говоря, перечисленные феномены представляют собой элементы некоего сложного синкретического образования. Между ними существовала диалектическая связь; они как бы проникали друг в друга, друг друга обуславливали.» [7, с. 52].
В сферу моих научных интересов эти вопросы попали не в то время, когда я занимался активной концертной и преподавательской деятельностью, то есть когда моя жизнь была связана непосредственно с искусством. Они стали актуальными гораздо позже и, как ни парадоксально это звучит, данные, позволяющие выстроить концепцию зарождения исполнительских жанров искусства и путей их развития, были получены мной тогда, когда фокус внимания переместился в область психофизиологии. Однако, для полноты изложения темы, которой посвящена данная книга, необходима небольшая предыстория.
Окончив консерваторию и занявшись активной концертной деятельностью, я практически сразу приступил к педагогической работе. Вначале преподавание вокала строилось на тех принципах и методах, которым обучают студентов в ВУЗах соответствующего профиля, то есть мои ученики были обязаны иметь зачатки природных вокальных данных, которые следовало развить до профессионального уровня. Однако, в определенный момент мне поступило предложение сделать профессионального певца из абсолютно безголосого юноши, который, к тому же, не горел желанием петь, довольствуясь ролью рок-гитариста. Мечтой увидеть сына поющим был одержим его отец, который курировал проект и ставил сыну пение условием его выхода на сцену.
Эта задача показалась мне интересной, и спустя два года юноша обладал небольшим, но очень полетным голосом полного вокального диапазона, записавшим под моим руководством сольный альбом поп и рок-баллад. Данный эксперимент полностью перевернул те представления о вокале, которыми я руководствовался после завершения обучения в консерватории, повлияв не только на педагогические приемы, которые использовались мной во время занятий с учениками, но и на принципы звукоизвлечения, которым я следовал как певец. С этого момента около 80% моих учеников составляли люди, не имеющие природных вокальных данных, либо певцы, чьи голоса были безнадежно испорчены неправильным пением. Это давало прекрасную возможность исследования таких нюансов звукоизвлечения, которые были абсолютно недоступны мне в рамках традиционной вокальной педагогики.
Данные изыскания привели к созданию авторской методики обучения пению людей, не обладавшими вокальными данными от природы, она была описана, запатентована и давала хорошие практические результаты. Принципы такой работы с голосом здесь будут рассмотрены в усеченном виде, только в той мере, которая позволит прояснить обсуждаемые темы. В полноценном виде они изложены в книге [8].
В то время мне казалось, что все возможности развития такого подхода к звукоизвлечению ограничиваются только областью вокала, однако занятия с одной из учениц открыли новые горизонты для изучения влияние искусства на жизнь человека. Молодая женщина, имевшая прекрасное образование, впечатляющую карьеру и обладающая мощным интеллектом и темпераментом, решила научиться петь, не обладая даже зачатками вокальных данных. Ее голос был неестественно высоким, бедным обертонами и по характеру звучания напоминавшим голос ребенка. Стиль одежды также был приближен к подростковому – бесформенные свитера и брюки, не имевшие и малейшего намека на женственность. В процессе общения выяснилось, что у нашей ученицы давно не было личных отношений, к тому же ей был поставлен диагноз – бесплодие, поставивший крест на ее желании иметь детей. Столь подробное описание личности моей ученицы необходимо для фиксации начальных условий работы с ней, так как именно эта практика сформулировала новые подходы к анализу влияния искусства на все без исключения сферы жизни человека.
Вскоре, после начала занятий, выяснилось, что голос ученицы – меццо-сопрано, обладавший, в достаточной мере, глубиной тембра и мощью звучания. Моей основной задачей была ликвидация ее стремления к форсированию звука, на грани крика, и выработке плавности звуковедения. Я требовал, чтобы каждое произведение пелось, как колыбельная, оставаясь в динамической градации от piano до mezzo forte. Вокализация сопровождалась плавными движениями тела, помогающими добиться нужного звучания голоса. И, спустя некоторое время, я заметил, что такое пение естественным образом изменило базовые характеристики структуры личности моей ученицы. Она стала говорить глубоким бархатным голосом, темп речи существенно понизился и перестал быть суетливым. Движения приобрели элегантность, плавность и замедленность. В гардеробе стали преобладать женственные платья, подчеркивающие фигуру. Вскоре она вышла замуж, и самым ошеломившим меня известием стало то, что она забеременела и родила здорового ребенка, хотя, по ее словам, давно рассталась с мечтой о материнстве и никакого медикаментозного лечения не проходила. Сейчас эта женщина имеет крепкую семью, в которой трое детей, и является владелицей международного холдинга с миллионными оборотами.
Этот случай продемонстрировал мне, что искусство, как можно было предположить, является мощным инструментом гармонизации и физиологической, и психической и социальной сфер жизни человека, дав импульс к изучению его возможностей в этом направлении. Данные исследования, которые не прекращаются и по сей день, показали, что описанный выше случай не был простым совпадением обстоятельств. Сконцентрировав свое внимание на гармонизации психо-когнитивной и социальной систем человека, а впоследствии и на его физиологической системе, я тестировал различные инструменты такой гармонизации, включавшие в себя дыхательные, голосовые и телесно-ориентированные практики. Этот процесс подробно описан в моей кандидатской и докторской диссертации по психологии, многочисленных статьях и монографиях, некоторые из которых будут цитироваться в этой книге. Данная работа привела к формулированию теории личности как единой био-психо-социальной системы и практической методики, охватывающей все значимые сферы жизни человека [9,10]. И большая часть приемов, используемых мной в работе, являются базовыми элементами различных жанров искусства, оказывающими широчайшее комплексное воздействие на все системы жизнедеятельности человека, недоступное никаким другим методам терапии. Исходя из полученных во время исследований данных, и их теоретического осмысления, появилась возможность сформулировать концепцию зарождения и эволюции исполнительских видов искусства, что я и попытаюсь сделать в этой книге.
Необходимо отметить, что круг рассматриваемых здесь вопросов включает достаточно узкий спектр искусства, связанный не с профессиональным исполнением, а с бытовым использованием человеком пения и танца. Профессионал по определению должен быть готов к созданию продукта, имеющего эстетическую ценность в любой момент времени, что налагает на его психофизиологию достаточно жесткие ограничения и является, в определенном смысле, актом насилия над психикой и физиологией. Поэтому, отвечая на самый часто звучащий на моих семинарах и лекциях вопрос о том, что профессиональные певцы, согласно данной концепции, наверняка являются самыми здоровыми людьми, я поясняю, что разница здесь примерно такая же, как в оздоровительной физкультуре и спорте высоких достижений. Профессионал в сфере искусства или спорта становится инструментом решения задач, определяемых его сферой деятельности, а для любителя уже искусство и спорт являются инструментом реализации задач, стоящих перед конкретной личностью.
В этой книге речь пойдет о пении и танце, порожденных потребностью души и не преследующем никаких художественных целей, хотя, безусловно, стремящихся соответствовать определенным эстетическим критериям. Собственно, и выражение «потребность души» тоже является абстрактным красивым оборотом речи. Правильнее было бы сказать о потребности психики и тела человека, интуитивной и инстинктивной, которая наверняка прошла жесточайший эволюционный отбор и зафиксирована в наших генах. Эта неосознаваемая потребность заключается в сбросе психического и физического напряжения, инспирировании мощного выброса нейромедиаторов и гормонов, улучшающих настроение и повышающих уровень энергии и запускающих сложные процессы самоорганизации систем организма человека в наиболее оптимальном для него режиме.
Рассмотрим эти элементы искусства подробнее.
МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ГОЛОСА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Искусство пения, несмотря на грандиозные достижения современной науки, до сих пор представляется великой тайной. Можно описать физиологические аспекты этого многомерного чуда, но даже точное знание всех нюансов колебания голосовых связок, позиции гортани и положения диафрагмы не позволит нам создать певца с предсказуемыми параметрами голоса. Можно попробовать описать механику пения с помощью птичьего языка вокальной педагогики, но все наши выражения, представляющиеся непосвященным шаманскими заклинаниями, все эти «вдыхательные установки», «вокальные купола» и «расширения гортани» тоже не способны прояснить чуда зарождения звука, имеющего эстетическую ценность.
Пение является, наверное, самым непредсказуемым и парадоксальным явлением нашей жизни. Каждый элемент этой хрупкой системы, будь то сокращение мышц в определенной последовательности, передача сигнала от мозга к периферии нервной системы, психологический настрой и т. д. должен поддерживать общий баланс, который не поддается математическому расчету и представляет собой симбиоз физики и метафизики, рацио и интуиции, механики и эзотерики. Однако такая невыразимая сложность вокального бытия характерна, в основном, для профессионального пения, предъявляющего строгие требования к качеству тембра, диапазону, полетности голоса, чистоте интонации, способности артиста выразить разнообразные чувства посредством своего инструмента и т. д. Обыватель, поющий в ванной или за рулем автомобиля может позволить себе фальшивые ноты, дико звучащий тембр и отсутствие чувства ритма просто потому, что пение не является для него творческим актом, требующим оценки окружающих, а представляет собой реализацию «потребности души», возникающей в ту или иную минуту его жизни.
Анализируя элементы этого «бытового» пения, имеющих ключевое значение в вопросе гармонизации психофизиологии человека, в первую очередь необходимо остановиться на двух параметрах такой вокализации. Это качество тембра и вибрационные ощущения поющего человека. Начиная работу с любым человеком – и будущим певцом, и клиентом, пришедшим за психотерапевтической помощью, я, прежде всего, определяю те характеристики тембра его голоса, которые наиболее точно выражают потенциал его личности. Дело в том, что для человека, никогда не обращавшего внимание на нюансы звукоизвлечения, а такие люди составляют большинство, голос представляется некой объективной данностью, абсолютно неважной в процессе его жизнедеятельности и поэтому не нуждающейся в корректировке. Голос робкого человека будет тихим и тусклым, социально активный нарцисс будет говорить преувеличенно громко, и обоим людям кажется, что так было всегда, и так будет всегда. Связь между качеством голоса и структурой личности человека не кажется очевидной, а, между тем, такая связь есть. Отвечая на требования, предъявляемые ему социумом, любой человек, начиная с раннего детства неосознанно формирует стратегию выживания и достижения желательного для него социального положения. Такая адаптация создает определенную психофизиологическую структуру, имеющую устойчивые сценарии физиологических и психических реакций. И все эти сценарии проявляются в стратегии его социального поведения, выражаясь либо напрямую, либо камуфлируя его подсознательные страхи. Мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, он досконально изложен в моих книгах и имеет только косвенное отношение к обсуждаемой здесь теме. Главным выводом этой концепции является то, что голос человека и реакции его тела являются проекцией и основным выразителем глубинных подсознательных процессов, происходящих в его психофизиологии и влияющих на состояние его здоровья, психики и социальной реализации. И целенаправленное изменение параметров звукоизвлечения и пластики тела, в совокупности с терапией психики, способно изменить деструктивные психофизиологические сценарии и кардинально улучшить качество жизни человека. Именно в этом мне видится смысл бытового пения и танца, неосознанно используемого людьми на протяжении тысячелетий, разумеется, в гораздо более мягком виде, чем это происходит на моих терапевтических сессиях.
Итак, в нашем исследовании мы будем опираться на два параметра голоса человека, имеющего первостепенное значение с точки зрения терапии его психики и физиологии. Первый из них – качество тембра. В голосе абсолютно любого человека, вне зависимости от его способностей к пению, есть ограниченное количество нот, обычно в диапазоне от терции до квинты, имеющих все качества голоса профессионального певца. Такой голос обладает красивым тембром, звучностью, полетностью и т.д., что для его обладателя является полнейшей неожиданностью. В самой этой мысли нет ничего принципиально нового, она является базисом немецкой вокальной школы и называется концепцией «примарного тона». Автором этой концепции был немецкий педагог и теоретик вокального искусства Ф. Шмитт, описавший данный принцип в середине XIX века [11]. Далее ее развил теоретически и успешно применил на практике ученик Шмитта Юлиус Гей [12]. Немецкие педагоги определяли несколько нот в голосе своих учеников, которые звучали наиболее естественно и красиво, и переносили, в процессе занятий, такое звучание тембра на весь диапазон голоса, необходимый для профессионального пения. Однако, они имели дело с уже сформированными природой нотами, пусть и ограниченного диапазона, без данного условия никто не начинал обучение будущего певца. В нашем же случае, этот «примарный тон» необходимо было еще найти и очистить от чужеродных примесей.
Для достижения этой цели я обращаю весь фокус внимания на обертонный состав тембра голоса человека. Любому музыканту известно, что звук не является монолитной структурой, а состоит из обертонов – призвуков, определяющих спектр звучания того или иного тона. Одна и та же нота может звучать ярко и звонко, если в ней преобладают высокие обертоны, либо «глубоко и бархатно», если ее основу составляют низкие обертоны. В вокальной педагогике принято группировать обертонный состав голоса, разделяя его на форманты. Высокая певческая формата выражает преобладание обертонов в диапазоне 1800—3500 Гц, средняя форманта – 800—1800 Гц, низкая – 200—1200 Гц. Наиболее полно и обоснованно важность концентрации внимание на обертонном составе голоса выразил корифей теоретических аспектов вокального искусства В. П. Морозов в своих работах [13,14].
Начиная процесс настройки голоса человека, я стремлюсь выявить те индивидуальные характеристики тембра, которые позволят его голосу обрести мощь и красоту звучания, соответствующие определенным эстетическим стандартам. Не каждый человек может стать профессиональным певцом, для этого необходимо наличие и эстетического чутья, и способности к выражению эмоций, и запредельный уровень мотивации, и колоссальное количество других компонентов, составляющих многосоставной феномен профессионального артиста. Но, повторюсь, абсолютно у каждого человека есть несколько нот в диапазоне голоса, звучащих в рамках критериев профессионального пения.
Технология процесса поиска этого «примарного тона» голоса не имеет отношения к теме данной работы, она многократно описана мной в обозначенных выше монографиях, однако одну особенность этого процесса изложить необходимо. В большинстве случаев, определение уникального обертонного состава тембра голоса человека заключается в активизации группы обертонов, входящих в низкую певческую форманту (НПФ), лежащую, как мы помним, в диапазоне 200—1200 Гц. Эта закономерность долгое время определялась мной на слух, пока в 2023 году не было проведено исследование изменения обертонного состава голоса моих учеников с помощью специализированной акустической аппаратуры [15]. Исследование было проведено доцентом консерватории Санкт-Петербурга Е. Ш. Давиденковой-Хмара и оно полностью подтвердило вывод об активизации зоны НПФ в процессе настройки голоса человека на индивидуальную частоту его тембра (ИЧТ), работа с которой и запускает процесс гармонизации его био-психо-социальной системы.
Этот феномен можно объяснить, если вспомнить, что любая аффектация сопровождается повышением тембра голоса, активизируя присутствие в нем высокой певческой форманты (ВПФ). Когда люди ругаются, их голоса приобретают визгливый оттенок, эта же краска голоса характерна для любого демонстративного аффектированного поведения, когда человек стабильно, либо в течение короткого периода времени находится в состоянии эмоциональной взвинченности. Данная особенность обычно сопровождается и ускорением темпа речи, становясь еще одним пазлом истерического состояния человека.
Эти процессы, имеющие психическую природу, и затрагивающие область социальных отношений, не могут не отражаться на физиологической системе. Перевозбуждение психики провоцирует активизацию симпатической системы, выделение адреналина и кортизола и т. д. Понижая обертонный состав тембра голоса человека мы приводим его психофизиологию в более сбалансированное состояние, гася негативный эффект аффектации.
Следующим параметром звучания голоса, влияющим на процесс гармонизации его психики и физиологии, является организация правильных вибрационных ощущений. Важность этого компонента вокала также была описана В. П. Морозовым [16,17], являющимся, на мой взгляд, автором самой полной и достоверной теории голосообразования на сегодняшний день. Ощущение вибрации в теле певца, плавное и равномерное распределение звукового потока является одним из важнейших факторов контроля качества звука, дающего гораздо более объективную картину звучания во время пения, чем слуховые ощущения. Мой подход к поиску ощущения резонанса в корне отличается от доминирующей в настоящее время установки вокальной педагогики, советующей направлять звуковой поток вверх, в лобные пазухи, называемую зоной «вокальной маски». Такой звук активизирует высокую певческую форманту, приобретает звонкость и блеск, способен «прорезать» звучание оркестра и заполнить звуком зрительный зал. Однако эта манера звукоизвлечения сопряжена со значительными физическими усилиями и зачастую заставляет работать организм певца в режиме неоправданного перерасхода энергии. Именно это, на мой взгляд, является одной из причин существенной деградации качества пения современных певцов, по сравнению с мастерами belcanto.
Начиная поиск вибрационных ощущений, я советую ученикам направлять звук не вверх, в направление головы, а вниз, добиваясь ощущения резонанса во всем теле, включая ноги. Используя в качестве резонатора все тело целиком, а не какую-то его часть, мы добиваемся равномерного распространения звуковой волны, исключающего спазмирование групп мышц, участвующих в процессе голосообразования. Эта задача может быть реализована только при идеальной синхронизации работы гортани и диафрагмы, возможной при достижении определенного порога расслабления психики и физиологии. Напомним, что в данном случае речь идет о человеке, никогда не занимавшимся пением. Профессиональный певец может не соблюдать это условие, его вокальный аппарат за годы обучения вырабатывает множество адаптивных стратегий, позволяющих полноценно звучать на зажатых мышцах, но, в случае пения непрофессионала, мышцы должны быть одновременно активны и расслаблены.
