Золотой брегет императора. Хроника русской смуты
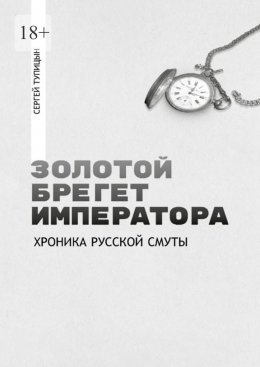
© Сергей Тупицын, 2025
ISBN 978-5-0067-6173-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
В этой книге нашли отражение переломные моменты в истории государства Российского: от становления династии Романовых до возрождения новой России на рубеже двух тысячелетий. Я по природе фаталист. Когда узнал, что моё альтер эго Сергей Тупицын был последним другом последнего прямого наследника царского престола, убитого в окрестностях столицы Пермской губернии, понял, что Пермь в моей жизни появилась не случайно. Таков был первый посыл к написанию этой книги. В ней почти отсутствуют вымышленные герои, подавляющее большинство событий достоверны, и вместе с тем это не вполне историческая хроника, а роман, потому что ряд реальных эпизодов имеет продолжение, подсказанное воображением автора. На главное из них – историю царского брегета – указал в своём отзыве на книгу известный писатель Леонид Юзефович. Горжусь тем, что он мой земляк и тоже историк по базовому образованию. Разобраться в остальных – прерогатива читателя.
Предисловие
В далёких 1970-х мы с Сергеем Тупицыным были членами литературного объединения при Пермской областной писательской организации – в то время такие объединения заменяли нынешние школы crеativе writing. Помню рассказы Сергея – юмористические вроде бы, но отличавшиеся от того, что писали наши тогдашние литературные весельчаки с их неугомонным желанием превратить четвёртую полосу газеты «Вечерняя Пермь» в знаменитую шестнадцатую полосу «Литературной газеты». В рассказах Сергея, кроме его чудесного и очень индивидуального юмора, всегда присутствовали ещё две вещи: печаль о несовершенстве мира и не выставляемая напоказ любовь к тому единственному месту под солнцем, где мы впервые ощутили себя своими среди своих. Проще говоря – к Перми, к родному Чусовому, к живущим здесь не особо склонным к легкомысленному юмору людям – словом, ко всему тому, что мы по привычке обозначаем затёртым и официозно-сентиментальным словом «Прикамье». Все эти свойства ранней прозы Сергея Тупицына по-новому проявились в его романе «Золотой брегет императора»: здесь реальная, абсурдная и печальная история гибели младшего брата Николая II, великого князя Михаила Александровича, отказавшегося от престола и в 1918 году сосланного в Пермь, переплетается с историей воевавшего в Чечне бойца пермского ОМОНа. Эти два человека и две эпохи соединены принадлежавшими Михаилу Александровичу золотыми часами, которые в реальности пропали после его смерти, но нашлись в романе Сергея Тупицына.
ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ,писатель, сценарист, кандидат исторических наук
Пролог
Март. В Прикамье это месяц уходящей зимы, в Чечне – цветение новой жизни. 28 марта 2000 года в сводном отряде Пермского ОМОНа, расквартированном в Ведено, царило весёлое оживление.
Земляков, в сопровождении начальника областной милиции, посетил глава Перми, будущий второй всенародно избранный губернатор Пермской области, стараниями которого она разрастётся до Пермского края.
Высокие гости привезли незамысловатые подарки, но главное – письма от близких и родных. Пресс-служба пермского отряда была оснащена видеокамерами, и бойцы записали своим семьям послания, наполненные любовью и уверенностью в скорой встрече.
Вернувшись в Пермь, глава города передал кассету на областное телевидение. Родные бойцов, их друзья – вся Пермская область слушала живые голоса тех, кого в живых уже не было.
Гости с малой родины улетели, а вечером того же дня поступил приказ командующего Восточной группировкой федеральных войск на зачистку села Цента- рой в соседнем Ножай-Юртовском районе.
Ранним утром следующего дня небольшая колонна, состоящая из БТРа и двух автомобилей – «ЗИЛ» и «Урал», выдвинулась из Ведено. Экипажи спецтехники состояли из восьми контрактников комендантской роты Таманской дивизии. На броне БТРа и в кузовах автомобилей разместились сорок два пермских омоновца. Всего – ровно пятьдесят человек.
Плановая проверка не предполагала сложностей. Вмешался случай, закономерность которого подвергнется позже разбору со стороны большого начальства, от которого уже ничего не зависело. Колонна не прошла и десяти километров, как у «зилка» закипел радиатор! Охлаждающей жидкости с собой не оказалось. Вот она – проявляющаяся в деталях русская безалаберность – всегдашняя надежда на авось!
Остановились, не доезжая нескольких сотен метров до селения Джани-Ведено. Майор, командующий ОМОНом, в сопровождении бойца, экипированного ведром для воды, двинулся к ближайшему дому.
Кто же мог знать, что накануне вечером в селе остановился на отдых отряд боевиков одного из полевых командиров?!
Майор распахнул дверь и лицом к лицу столкнулся с двумя вооружёнными бандитами. Боевики были готовы к встрече, силовики – нет. Раздалась автоматная очередь. Командир омоновцев упал, убитый наповал.
И тут же на колонну обрушился шквал огня. Первыми выстрелами из гранатомётов были подожжены и оба автомобиля, и БТР. Бойцы посыпались на землю и заняли круговую оборону. Автомобили догорали вместе с не успевшими покинуть их омоновцами.
БТРу кумулятивный снаряд попал в моторный отсек. Боевую машину объяло пламя, но один из бойцов, отодвинув убитого наводчика, развернул башню и открыл огонь по сопке, помогая товарищам занять удобные боевые позиции.
Спаренные пулемёты БТРа огрызались огнём, пока сам боец не превратился в горящий факел.
Оставшиеся в живых милиционеры и бойцы комендантской роты сражались отчаянно, но у них заканчивались патроны, а к бандитам со всех концов села всё прибывало и прибывало подкрепление.
К окружённым федералам помощь запаздывала. Их маленький отряд располагал лишь одной рацией, установленной на БТРе. Пока её не объяло пламя, из БТРа доносился далёкий голос радиста:
– Братишка, ориентируй нас!.. Братишки, не молчите!
Один из бойцов ОМОНа имел при себе видеокамеру, на которую он запечатлевал движение колонны для будущего видеоотчёта. Он и начавшийся бой снимал, пока не упал убитым. Выпавшая из мёртвой руки камера, подчиняясь служебному долгу, сама ещё в течение пятнадцати минут продолжала вести запись.
Камера пролежит в траве три дня. Найдут её только первого апреля. Видеозапись не сохранилась, но звук остался! Звук, в котором были крики ярости и отчаяния, автоматная стрельба… и наступившая тишина.
В составе сводного отряда прикамской милиции находилась начальник пресс-службы Управления внутренних дел Перми – молодая миловидная женщина. Эту запись она включила в свой фильм, который так и назвала «Братишки, не молчите!».
Фильм стал лауреатом трёх престижных кинофорумов, первым из которых был фестиваль военно-патриотических передач «Щит России» Пермской государственной телерадиокомпании.
Горькое лауреатство.
Помощь всё-таки попыталась пробиться к окружённой колонне, о нахождении которой командованию федеральных сил сообщил пилот вертолёта, случайно пролетавшего над местом боя.
Второй отряд возглавили начальники всех находящихся в Ведено подразделений. Но он сам попал в засаду. Головной БТР был подбит, и отряд отошёл, унося около двух десятков раненых.
Но благодаря этой попытке несколько человек сумели вырваться из окружения. Пятеро омоновцев и один боец комендантской роты на следующий день вышли к своим.
Но был ещё седьмой…
Сержант вырос в рабочей Мотовилихе – посёлке при старинных пушечных заводах. Такие поселения характерны для уральской социально-экономической структуры, прозванной «горнозаводской цивилизацией».
Люди Севера живут при оленях, коми-пермяки – при парме – тайге, которая их и сегодня продолжает кормить. А пришедшие на пермские земли из центральной России люди селились подле заводов. Эти змеи горынычи, изрыгающие дым и пламя, становились кормильцами прижившегося люда, помогали обустроить жизнь. Правда, порой так же, как их сказочные прототипы, за помощь эту требовали дань в виде всё той же жизни.
Отец, мать, все соседи сержанта работали на заводе, а он решил оборвать традицию: после службы в армии пошёл работать в милицию. Учитывая физическую и морально-политическую подготовку парня, начальство рекомендовало его в отряд особого назначения.
Командировку в Чечню сержант воспринял с воодушевлением. После армии он по примеру многих «дембелей» сразу же обзавёлся женой. Супруга ждала ребёнка, молодая семья копила деньги на квартиру.
В неожиданном бою сержант проявил себя хорошо. Держал круговую оборону, поливая «чехов» автоматными очередями, пока не обнаружил, что из товарищей рядом никого в живых не осталось. Он бросился на прорыв вслед небольшой кучке бойцов, но в это время пуля прошила омоновцу бок. Сержант упал, тут же поднялся и, зажимая рану, продолжил бег.
В «зелёнке», когда выстрелов уже не стало слышно, он наскоро перетянул рану лоскутом нательной рубахи. Идти было всё труднее, сержант быстро слабел от потери крови. Но в это время впереди показалось небольшое селение, и боец рискнул постучаться в ворота первого на его пути дома.
Дверь открыл пожилой чеченец. Он сразу всё понял и, подставив нежданному гостю плечо, помог войти в дом. Старик усадил сержанта на ковёр. Его молчаливая жена обложила раненого подушками, обработала и перевязала рану, поставила перед сержантом горячий фарфоровый чайничек и блюдо с тонкими кукурузными лепёшками.
Отгоняя накатившую дремоту, сержант обвёл глазами комнату. Взгляд его остановился на портрете человека, одетого в черкеску, но с явно европейским лицом.
– Это «джигит Миша» – брат последнего белого царя, – объяснил старик. – Во время Первой мировой войны мой отец служил в дивизии, которой командовал великий князь. Князь Михаил сам подарил этот портрет деду, тогда совсем юному нукеру. Тут есть и подпись князя, – старик снял со стены портрет и протянул его гостю.
Сержант вгляделся в лицо на портрете и вспомнил, что уже видел его на барельефе мемориальной доски, установленной на одном из старинных домов Перми.
Они гуляли по городу с отцом, когда тот остановил подростка возле этого дома и указал на доску:
– Смотри, это брат императора Николая II, который сам мог стать царём!
Но наши мотовилихинские ребята не дали.
Сержант помнил, как его, тогда ещё школьника, удивили прозвучавшие в голосе отца нотки плотоядной гордости, хотя кровожадностью тот никогда не отличался.
Теперь сержант снова вглядывался в лицо, которое никак не ожидал встретить в чеченском селении.
Старик всю жизнь проработал в сельской школе, одно время даже был её директором. Выйдя на пенсию, продолжал преподавать русский язык, историю и литературу. Заметив неподдельный интерес в глазах сержанта, бывший учитель решил и ему преподать урок истории – время всё равно нужно было как-то коротать.
Старик указал на ещё один висящий на стене портрет. На нём был изображён горец, весь облик которого выражал спокойное достоинство:
– Это имам Шамиль, национальный герой народов Северного Кавказа, – в голосе старика звучало неподдельное уважение. – Наш районный центр Ведено был чеченской столицей его имамата. Шамиль в течение многих лет вёл священную войну против царских войск, но силы были слишком неравными. Имам был взят в плен и отправлен в Петербург, столицу России. Он увидел, сколь необъятна эта страна, оценил то, с каким почётом принял его русский царь. Шамиль был гостем на свадьбе наследника престола Александра – отца «джигита Миши», которому служил мой дед. Имам Шамиль вместе с сыновьями принял присягу на верность России.
Сын имама Шамиля Гази-Мухаммад не сдержал слова, данного отцу и белому царю. Во время Кавказской войны он, будучи совсем ребёнком, всюду сопровождал отца. В одном из боёв русский солдат ранил мальчика штыком в ногу. Видимо, память о полученной в детстве обиде оказалась сильнее присяги. Горцы – народ гордый, с ними такое бывает. Гази-Мухаммад поступил на службу в Османской империи, стал маршалом и умер в Медине, где захоронен и его отец.
А вот Мухаммад-Шафи, младший брат Гази-Мухаммада, стал русским офицером. Был награждён орденом Святой Анны, командовал набранным им самим взводом горцев Царского конвоя. Окончил службу генерал-майором. Старик подошёл ещё к одному портрету. Сержант почувствовал силу взгляда колючих глаз, изображённого на нём человека. Сержант не знал, да никогда уже не сможет узнать, что повелением судьбы такой же, чуть исподлобья, пронзительный взгляд будет у российского патриарха, избранного десятью годами позже.
– Это главный муфтий Чечни Ахмат Кадыров, – старик сделал почтительную паузу. – Его судьба имеет удивительное сходство с судьбою имама Шамиля. Во время большой войны, когда Чечня захотела стать Ичкерией, он объявил русским джихад. Муфтия можно понять. Наш народ в 1944 году распоряжением Берии был в товарных вагонах вывезен в Казахстан. А ведь только из села Центарой, откуда родом семья Кадыровых, на фронт Великой Отечественной войны ушло более сотни воинов. Многие не вернулись, многие получили высокие награды.
Ахмат Кадыров родился в изгнании и только в 1957 году смог вернуться на землю предков. Кровь рождает только кровь. Когда в Чечню, нарушая мирное соглашение, на подмогу местным сепаратистам хлынули банды из-за границы, муфтий Чечни сумел подняться над горечью прошлых обид и твёрдо встал на путь единения с Россией!
Старик не знал, да и никогда не сможет узнать, что Ахмат Кадыров указом президента Российской Федерации будет назначен главой администрации Чеченской Республики, а затем волей чеченского народа избран её президентом. Президент Чечни станет на территории своей республики знаменем борьбы с международным бандитизмом и будет подло убит в день празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Дело отца продолжит его сын Рамзан. Главной целью своей жизни Рамзан Кадыров сделает возрождение Чечни и непримиримую борьбу с бандитами, которых сам он будет называть не иначе как шайтанами. Старик опустился на ковёр напротив своего нежданного гостя и налил тому в пиалу чай. В это время с улицы донёсся гул многих голосов и в дверь дома требовательно постучали…
Часть I.
Начало династии
Глава 1.
Первая царица
Рождеству Христову 1547 года сопутствовало весьма примечательное событие: первый всероссийский конкурс красоты.
Полетела с гонцами по русским вотчинам государева грамота великого князя Ивана Васильевича:
«Когда к вам эта наша грамота придёт, и у кого из вас будут дочери-девицы, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам, а дочерей-девиц у себя ни под каким видом не таили бы. Кто же из вас дочь-девицу утаит и к наместникам нашим не повезёт, тому от меня быть в великой опале и казни. Грамоту пересылайте между собой сами, не задерживая ни часу». Вот такая конкретная установка, в которой задачи определены, а исполнению их сопутствует убедительный стимул.
Конкурс был обречён на успех. Не только потому, что по правилам этикета того времени подданных, не поддержавших государственную инициативу, ожидало общественное порицание в виде опалы и смертной казни. И без этого напоминания смотр красавиц обещал быть многолюдным, ведь победительницу ждала самая престижная награда – корона «Мисс всея Руси» – первой российской царицы.
Шестнадцатилетний великий князь, видимо, для того, чтобы лишний раз стол не накрывать, возжелал объединить два судьбоносных для России события: венчание на царство и свою женитьбу. Жёсткий отбор вёлся при участии весьма представительной медкомиссии из сановных матрон: целомудрие претенденток было непреложным условием.
Объявляя конкурс, юный государь несколько лукавил: выбор его уже загодя пал на Анастасию, дочь окольничего Романа Захарьина. Очарованный невестой, юный царь посмел пойти против воли ближайших родственников – Глинских, не видевших в Анастасии ровню: род Захарьиных был недостаточно знатен. Кто же мог предвидеть тогда, что старший сын её брата Никиты Романовича станет четвёртым российским патриархом и отцом первого русского царя из императорского рода Романовых?
Венчание состоялось 3 февраля 1547 года в Успенском соборе Москвы, возведённом повелением деда и полного тёзки царя – Ивана Васильевича. Кстати, именно Ивана III в народе поначалу прозвали Грозным, так что внук унаследовал от дедушки не только имя, но и прозвище, с которым прочно вошёл в историю государства Российского.
Юной царице к тому времени едва минуло 17 лет. Анастасия являла собой редкостное сочетание красоты, ума и смирения и достоинствами своими сумела укротить буйный нрав супруга. Миниатюрная брюнетка с правильными чертами лица была горячо любима государем. Рядом с ней Иван воспарил духом.
Отойдя от свойственного ему распутства, царь даже плоть свою подчинил супружеской верности. Царица родила Ивану шестерых детей, но проведению было угодно, чтобы в живых остался лишь один из них – младший, Фёдор, менее всего способный взвалить на себя груз монаршей ответственности. Но именно ему было уготовано судьбой стать наследником отца и предтечей великой российской Смуты.
Всё могло сложиться иначе, останься в живых первый сын государя Дмитрий, но имя это стало роковым для недолгой династии Рюриковичей.
Царя, с триумфом вернувшегося в Москву после взятия Казани, встретила Анастасия с долгожданным наследником на руках. Младенца крестили в Троице-Сергиевой лавре, назвав Дмитрием в честь славного прадеда – Дмитрия Ивановича Донского.
Однако двойная радость омрачилась тяжёлым недугом, внезапно обрушившимся на царя. Государь надолго впадал в забытьё. Сознание, возвращаясь, подсказывало неминуемость ухода. Поверило в него и окружение.
Почувствовав шаткость своего положения, забеспокоились Захарьины. Загудела Дума. Вот именно в такие минуты царь счёл необходимым продиктовать духовное завещание и потребовал, чтобы бояре присягнули его сыну, младенцу Дмитрию.
С готовностью волю царя исполнил лишь глава Посольского приказа Алексей Адашев. Впервые в летописи Алексей Фёдорович упоминается в связи с присутствием на свадьбе царя. Изначально должность Алексея при дворе называлась мовник, то есть сопровождающий царя в баню. Традиция решать государственные дела в бане по сей день имеет на Руси хождение. Поднятый с низов, как сам Иван IV писал, «из гноища», на самую вершину власти, Алексей Адашев немало преуспел и в полководческом, и в дипломатическом искусстве. Это была талантливая семья. Достаточно сказать, что брат Алексея Даниил Фёдорович вошёл в историю России как предводитель первого морского похода россиян к берегам Крыма.
Будучи любимцем царя, Алексей Адашев, наряду с юной царицей и священником Сильвестром, составили триумвират, служивший опорой государю в начальные годы его правления.
Во время страшного московского пожара, случившегося в первое же лето царствования Ивана, пришедший из Новгорода Сильвестр со ступеней Благовещенского храма бросал в толпу обличительные речи, в коих именовал пожиравший Москву огонь адским пламенем, ниспосланным на город как кара его жителям, и прежде всего царю, за прегрешения. А что же Иван? А Иван приблизил к себе хулителя, введя в ранг своего духовного наставника!
Можно без большой натяжки утверждать, что Адашев и Сильвестр при первом царе, Рюриковиче, были своего рода Столыпиным и Распутиным при последнем императоре – Романове.
Итак, Алексей Адашев беспрекословно исполнил волю царя, но остальные думцы не спешили последовать его примеру. Двоюродный брат Ивана Васильевича – князь Владимир Андреевич Старицкий – увидел в недуге царя возможность самому примерить шапку Мономаха. Зароптали прочие бояре. Вот и отец Алексея Адашева, окольничий Фёдор, войдя в опочивальню царя, обрёл дерзость заявить:
– Сын твой, государь наш, ещё в пеленицах, а Захарьиным нам не служивати. Даже Сильвестр ушёл в тень, хотя, казалось, именно эта первая предпосылка Смуты давала ему, как глашатаю господней воли, весьма своевременный повод проявить красноречие. Воздержался.
Видимо, жизнь при дворе даже пророчествующих витий склоняет к осмотрительности.
Случилось чудо, по крайней мере, именно так это было воспринято самим царём и его окружением: Иван Васильевич выздоровел! Царь от нечаянной уже радости не применил против строптивцев никаких санкций.
Даже Фёдору Адашеву, посмевшему роптать супротив боярства, не «дал по шапке», а самому пожаловал шапку – боярскую же.
Вот у Захарьиных осадочек остался, и осадочек этот стал первой песчинкой в плотине отчуждения, начавшей вырастать между Анастасией и ближайшими советниками её супруга.
Немногим позже сквознячок недоверия к ближнему кругу начал пробирать и самого царя, но причины к тому были иные.
Во время болезни он принял обет: ежели пошлёт Господь чудо выздоровления, совершить паломничество по ряду монастырей земель московских, владимирских да суздальских.
Чудо свершилось, и государь начал с женой и наследником, которому едва минуло полгода, собираться в дорогу. Но тут главные советники царя, а прежде всего Алексей Адашев и Андрей Курбский, не подозревавший ещё о своём грядущем предательстве, принялись активно отговаривать его от утомительного вояжа. Хочется думать, что цели у них были благие: изнурённая Казанской войной страна нуждалась в незамедлительном рассмотрении многих государственных вопросов, решение которых, в связи с недугом царя, затягивалось. Но богобоязненный Иван от слова своего не отрёкся.
Поездка сразу не задалась. При посещении Троицкой обители отговорить царя от её продолжения пытался известный богослов и просветитель Максим Грек. Но царь вновь не внял совету, а злые языки будут позднее приписывать Греку пророческое предсказание скорой трагедии.
Передвигался царский поезд водным путём. И вот во время возвращения из Кирилло-Белозерского монастыря на одной из стоянок рухнули в реку сходни, по которым спускалась со струга поддерживаемая мамками кормилица с младенцем наследником на руках. Накрываемые обломками сходен, все, кто находился на них, посыпались в воду. Началась в буквальном смысле слова суета на мелком месте: визг, шум, беготня! Когда пришли в себя, обнаружили, что малютки цесаревича нигде нет. Достали его из воды уже мёртвым.
Гибель первого сына Ивана Грозного сразу же обросла кривотолками. Недруги Захарьиных утверждали, что оплошали ближайшие родственники царицы, дескать, именно они поддерживали под руки кормилицу, несущую младенца. Это было бы похоже на правду, неси младенца сама Анастасия. Но держать под локоть кормилицу – не боярское дело. Сами же Захарьины увидели в случившемся результат происков партии Сильвестра – Адашева – работала у людей фантазия! – и нашли в этом лишний повод вбить клин между царём и его советниками.
Первый русский диссидент Андрей Курбский и вовсе узрел в трагедии божий промысел, ссылаясь на якобы произнесённое Максимом Греком предсказание: «Если не послушаешь меня, советующего тебе по Богу, и поедешь, ведомый упрямством, то знай: сын твой умрёт и не возвратится оттуда живым, если послушаешь и возвратишься, будешь здоров и сам, и сын твой».
Отговаривать Ивана от поездки у знаменитого старца были мотивы. Именно Грек, по настоянию матери царя Софьи Палеолог, привёз в Москву самые ценные образцы книг из сокровищницы византийских царей, был первым хранителем и переводчиком этой библиотеки. А Иван IV, в данном во время болезни слове, обещал не только посетить целый ряд монастырей, но и щедро одарить их церковными книгами, то есть готовился к разбазариванию знаменитой библиотеки. Понятно, что хранителю её это не понравилось.
Но шантажировать царя жизнью малолетнего сына – как-то это не вяжется ни с обликом просветителя, ни со здравым смыслом. Впрочем, со здравым смыслом и в наши времена многое не вяжется.
Курбский обнародовал свою версию уже после совершённого им предательства царя, для которого долгое время был одним из самых близких людей. Впрочем, неблизкие предать не могут. Отступник всю жизнь обречён искать объяснение своему предательству, подкрепляя оправдание абсурдными фактами, в достоверность которых сам начинает верить.
Что же до легендарной царской библиотеки, то она так и осталась достоянием легенд. Хотя её поиски велись довольно долго. Приложил к ним руку даже… Наполеон во время своего недолгого пребывания в Кремле.
Смерть малолетнего наследника так и осталась столь же подозрительно нелепой, как случившаяся тридцатью годами позже загадочная гибель в Угличе другого цесаревича – тоже Дмитрия, только сына уже не первой, а последней жены Ивана IV – Марии Нагой.
Вторым сыном, названным в честь отца Иваном, Анастасия одарила царя ровно через год – терять власть Захарьины не хотели. Позже родилась дочь, но вот беда: как и две первые дочери, девочка умерла в малолетстве. У душевно и телесно измученной царицы родился ещё один ребёнок – сын Фёдор. Именно ему, менее всего к тому подготовленному, придётся занять трон отца. В болезненности и слабоумии сына нашли отражение недуги матери, секрет которых был раскрыт лишь в начале второго тысячелетия от Рождества Христова.
Когда сотрудники археологического отдела музеев Кремля приступили к исследованию покоившихся в усыпальнице Вознесенского монастыря останков Анастасии, их обуяла оторопь от огромного количества ртути, мышьяка и свинца, обнаруженных в волосах, обрывках погребальной одежды и в тлене первой супруги первого русского царя. Подозрительность Ивана Васильевича, ставшая впоследствии маниакальной, в данном случае оказалась обоснованной: его любимая жена была отравлена. Романовым пытались ставить подножки задолго до их воцарения.
Сказать, что царь был безутешен – значит не сказать ничего. Горе его раздавило. Идя за гробом, Иван едва держался на ногах, а из немигающих глаз потоками лились слёзы.
После смерти единственно любимой женщины Иван, как и будущий большевистский царь, которого с ним частенько сравнивают, стал понастоящему Грозным.
Он безоглядно истязал тело блудом, а душу яростью. Первой жертвой репрессий стал Алексей Адашев – один из достойнейших государственных мужей и самых преданных сторонников царя. Если что и можно было вменить в вину Адашеву, то это довольно мутную историю проживания в его доме польской католички Магдалены, через которую Алексей Фёдорович якобы поддерживал связь с Андреем Курбским, бывшим боевым соратником, а к тому времени перебежчиком, скрывшимся в княжестве Литовском. Ну, то есть с Троцким тех времен. Если версия достоверна, то вот он – первый польский след в грядущей русской Смуте!
Почуяв неладное, Алексей Фёдорович сам предпочёл удалиться от двора, добровольно отправившись в почётную ссылку: принял назначение всего лишь третьим воеводой полка, предводимого князем Мстиславским. Не помогло. По приказу царя Алексей Адашев был взят под стражу и переведён в город Юрьев, где через два месяца умер, не вынеся гонений и опалы. Скорая смерть избавила бывшего влиятельного царедворца от жестокой участи, постигшей его родственников: все они, включая малолетних детей, были казнены.
Протопопу Благовещенского монастыря Сильвестру была сохранена жизнь. Все, кто берёт на себя миссию вещать от лица запредельных сил – будь то духи, Бог или дьявол, невозможностью убедиться в истинности их деловых связей вызывают насторожённое почтение.
Вот и у царя на бывшего духовного наставника рука не поднялась. Грозным был, да богобоязненным. Иван лишь приказал постричь исповедника в монахи под именем Спиридона и отправить сначала в Кирилло-Белозерский, а затем в Соловецкий монастырь.
Так закончился относительно демократичный период правления Ивана IV. На смену либерализму, как правило, приходит тирания.
Отношения Анастасии с первыми советниками её мужа включают в себя очень разные периоды. Но на памятнике «Тысячелетие России», воздвигнутом в 1862 году в Великом Новгороде, они стоят рядом: священник Сильвестр, полководец и дипломат Адашев и сама Анастасия, ставшая связующим звеном между династиями Рюриковичей и Романовых.
Глава 2.
Племянники Анастасии
Трое из четырёх сыновей Ивана Грозного – потенциальных наследников русского престола – ушли из жизни при загадочных обстоятельствах, словно Господь не желал царствования этого гнилого рода. Пощадил он лишь одного – Фёдора, человека благостного, но наименее подходящего для возложенной на него миссии.
Последний сын Анастасии стал и последним Рюриковичем в истории русской монархии. Власть всё прочнее прибирал к рукам выходец из незнатных костромских бояр Борис Годунов.
Кострома, вообще, играла на заре Российского царства весьма заметную роль. Из Костромы был родом Алексей Адашев, из Костромы пришёл Борис Годунов, и именно из Костромы начнёт свой путь на царствование первый Романов – Михаил.
Добросердечный, но слабовольный, к тому же беспредельно влюблённый в жену, царь Фёдор охотно уступил шурину бразды правления. Роль серого кардинала Бориса вполне устраивала. Поначалу он вовсе не помышлял о царской власти, довольствуясь предполагаемым опекунством при малолетнем наследнике престола, который, как он надеялся, родится у его сестры. Об этом Годунов ежедневно просил Господа в горячих молитвах.
Уповая на Бога, европейски ориентированный Борис предпринял и практические шаги для достижения желанной цели – направил письмо английской королеве Елизавете с просьбой прислать опытную акушерку и доктора для бездетной царицы. Елизавета просьбе вняла. Но история эта стала достоянием недоброжелателей Годунова, нашедших в ней повод поднять православный вой: брат царицы хочет доверить рождение наследника еретичке!
Но в тишайшем царе – вот она – сила любви! – проснулся на миг строптивый характер батюшки: он подверг опале не супругу, а самих советчиков. Однако поднятая ими буча достигла цели: акушерку тормознули в Вологде, она бесцельно провела там год и ни с чем вернулась в Англию.
Возможно, после этого случая почувствовавшему угрозу для себя и своего рода Борису впервые пришла мысль о шапке Мономаха. Укрепила честолюбивое желание загадочная гибель в Угличе сына последней супруги Ивана Грозного Марии Нагой, родственники которой тут же обвинили в этой смерти царского шурина.
Но вряд ли глубоко верующий Годунов мог быть причастным к этой смерти, уж очень воплощение заговора, если таковой имел место, было рисковым и нелепым. Но Борис не мог не посчитать смерть единственного наследника царя для себя благодатным знаком. Был бы он в состоянии предвидеть, на какие бедствия и его семью, и всю Россию обречёт это кажущееся везение!
Мы строим планы, а Бог улыбается.
Царь Фёдор уходил из жизни так и не обзаведясь наследником. Перед кончиной он призвал к себе тех, кто по статусу имел преимущественное право на российский престол – братьев матери своей Захарьиных. Распластанный на ложе, царь протянул державный скипетр старшему из них – Фёдору. Но Фёдор молча передал его брату Александру, тот, тоже молча, Михаилу, Михаил – Ивану, Иван – Василию, а Василий вернул скипетр Фёдору Ивановичу.
– Мне невмоготу больше держать его, – голос царя был едва слышен, а скипетр покачнулся в ослабевших руках.
Тогда присутствовавший при встрече Годунов протянул через плечи Романовых руку и подхватил символ державной власти. То ли не давая ему упасть, то ли примеривая к себе.
В этом незначимом инциденте просматривается трагедия как первых, так и последних Романовых: и те и другие не желали власти, тяготились ею, даже боялись её, но окружающие честолюбцы, не веря в истинность порывов, на которые сами были неспособны, жестоко мстили им за кажущуюся неискренность.
Честный человек в чистоте своей не может предугадать и понять поступков бесчестного. Но и нечистый представитель рода человеческого, не умея постичь самой природы порядочности, раздражается, наполняясь обидой и злобой, но не к себе, а к объекту своего непонимания.
Годунов запомнил не то, что Захарьины отказались от престола, а то, что престол этот был им царём предложен, а ему нет. Не поверил Борис и в саму искренность их отказа, посчитав его лишь соблюдением сохранившегося до наших дней в российской глубинке ритуала, когда от любой почести, будь это даже приглашение к столу, поначалу трижды отказываются. Правда, это не мешает после есть за троих. Надо отдать должное Борису: сам он, когда ясно определился его шанс, решился в полной мере соблюсти сей негласный обычай.
После кончины Фёдора Боярская дума и народ присягнули было супруге царя Ирине. Но абсолютно чуждая властолюбия, царица удалилась в Новодевичий монастырь. Вслед за нею последовал брат. Борис даже заявил о своём желании совершить монашеский постриг.
Управление государством перешло на время в руки патриарха Иова. Борис не сомневался в надёжности духовного глашатая, навсегда благодарного Годунову за то, что именно его стараниями бывший митрополит был введён в сан первого патриарха Московского и всея Руси.
Однако определенный риск был. После загадочной смерти царевича Дмитрия по Москве ходило множество слухов, оборачивающих против Бориса даже самые благородные поступки его.
Так, после московского пожара, истребившего весь Белый город, Борис щедро оказывал помощь погорельцам, а молва утверждала, что это он нарочно поджёг Москву, чтобы оказанными милостями расположить к себе её жителей! Годунову вменяли в вину даже нашествие на Москву хана Казы-Гирея, вспоминая легенду о том, что род Годуновых происходил якобы от татарского князя Чета.
Чем нелепее молва, тем в неё охотнее верят, если к тому же несёт она хулу.
Захотел служить пороку – всяко лыко будет в строку!
Борис понимал, что рискует, и понимал, чем рискует, но решил пройти испытание до конца. Может быть, для того, чтобы самому укрепиться в вере в свою избранность, может быть, для того, чтобы повязать Думу и народ их же решением.
Иов не сплоховал. Патриарх организовал народное шествие, умолявшее Бориса учиниться государем. Правда, недоброжелатели распространили слух, что нежелающих идти на поклон к Годунову подгоняли батогами. Но важен ведь результат. Иов сам встал во главе крестного хода и, сопровождаемый боярами, духовенством, длинной вереницей простого люда, направился к Новодевичьему монастырю, чтобы просить Бориса принять царство, и… получил от того решительный отказ!
Годунов был готов испить чашу до дна. Созывается Земский собор, который единогласно постановил:
«Бить челом Борису Фёдоровичу и кроме него никого на государство не искать». Патриарх грозит Годунову отречением от церкви.
И только тогда Борис согласился.
Если это был спектакль, задуманный Борисом и Иовом, то исполнен он был безупречно.
Как бы то ни было, но Годунов становится первым русским царём, избранным истинно демократическим путём, воцарением своим явив, по сути, прообраз президентской власти.
Его примеру хотел последовать в 1918 году великий князь Михаил Александрович Романов, брошенный запутавшимся братом на царство. Он отложил принятие решения о форме правления России до созыва Учредительного собрания – как народ скажет! Народ ничего сказать не успел. За него убедительное слово произнесли опоясанные пулемётными лентами матросы.
Годунов венчался на царство в новогодний праздник – 1 сентября 1598 года.
Оборотясь к толпе, он рванул на себе ворот золотом расшитой рубахи:
– Бог свидетель – в моём царстве не будет нищих и бедных, последнюю срачицу сниму, сию последнюю разделю со всеми!
В ту минуту он сам верил в искренность слов своих. Вот так же четырьмя веками позже другой всенародный избранник, тоже именуемый в просторечии «царём Борисом», с такой же истовостью пообещает лечь головой на рельсы, если цены на продукты первой необходимости продолжат расти. Но и срачица Бориса I осталась цела, и голова Бориса II так и не покинула плеч, хотя беды, обрушившиеся на Россию в период их правления, были соизмеримы масштабами. Венчание на царство было для Бориса Годунова минутой высшего торжества.
Больше подобных минут в его коротком царствовании не будет.
Статью, умом, образованностью и многими иными качествами Годунов стяжал право быть достойным царём. Но не случилось. Обольщённый стремлением создать собственную династию, Борис сам не замечал, как благие помыслы и незаурядный ум хиреют под натиском подозрительности и жестокости, которые всегда сопутствуют властолюбцам, обременённым комплексами. Впрочем, властолюбие само по себе уже один из самых калечащих душу комплексов.
Процедура избрания Годунова на царство была проведена безупречно, но он становился первым царём не по крови – не Рюрикович! А такая власть была непривычна Руси, только что начавшей осознавать себя единым государством. Тех, кто по крови имел большее право на престол, кружило вокруг царя немало. И первые среди них – Захарьины. Нежелание братьев воспользоваться этим правом только усиливало подозрительность Годунова.
А между тем Фёдор Никитич Захарьин, которому тёзка его и двоюродный брат царь Фёдор, умирая, первому предложил царский скипетр, придя домой после избрания Бориса, радостно крикнул с порога жене:
– Милая, как я счастлив: Борис Фёдорович избран царём всея Руси! Но Ксения в ужасе отпрянула от мужа и залилась слезами:
– Стыдись! Отняв корону от нашего рода, тем и погибель на него накличешь! Фёдор, от которого раньше в доме и худого слова не слышали, в этот раз наградил жену увесистой оплеухой. Видно, испугался её правоты.
Знай Годунов об этом случае, он бы всё равно в него не поверил. Тем более, что была мелкая деталь, уколом своим омрачившая Борису главный праздник жизни. Перед венчанием на царство Годунов примерял пошитое по заказу убранство, а портной, вертясь вокруг него, возьми и брякни:
– Ладно сидит, как на Фёдоре Никитиче!
Фёдор Захарьин был высок, статен, в целом хорош собой, и любая одежда смотрелась на нём как влитая, вот среди московского бомонда той поры и гуляла такая присказка, отпускаемая в адрес того или иного щёголя.
Годунова не к месту брошенное сравнение больно кольнуло и прочно засело в памяти.
Душевную смуту Бориса умело подпитывал дальний родственник Семён Годунов, прозванный в народе правым ухом царя.
Семён Никитич настырно продвигал во власть и себя, и свою родню. А с братьями Захарьиными, точнее с одним из них – Александром, у Семёна Годунова были личные счёты ещё со времён правления Фёдора Ивановича.
Семён Никитич был при царе Фёдоре стольником, а Александр Никитич – кравчим, так что пути их часто пересекались, что допускало присутствие негласного соперничества. Однако Александр Захарьин и сам от соперничества этого старательно уходил, и слугам своим наказывал холопам Годунова не перечить. Тем паче, что дворню Семён Никитич подбирал под себя – такую же бесцеремонную и нахрапистую. Стычки избежать не удалось. Случилась она на пути в Троице-Сергиеву лавру, куда царь Фёдор отправился на богомолье. Царский двор вставал на постой в селе Воздвиженском, куда загодя посылались боярские холопы, чтобы занять крестьянские избы. Захарьинская дворня оказалась проворнее, а годуновская – хамоватее: холопов Захарьина она просто вышвырнула из занятых ими изб. Возмущения Александра хватило лишь на то, чтобы доложить царю о самоуправстве его стольника. Один слабак пожаловался другому. Что дельное могло из этого выйти?
Фёдор попенял шурину на разнузданность его родственника. Но царский укор был больше похож на причитание:
– Ах, Борис, Борис, взаправду сказывают, что ты слишком много позволяешь себе в моём царстве. Всевидящий Бог взыщет на тебе!
Царь сказал – и забыл. Борис Годунов поставил на вид Семёну Годунову – и забыл. А Семён не забыл, восприняв слабую попытку Александра Захарьина отстоять своё достоинство как личную обиду.
Прав оказался царь Фёдор Иванович: наступит время, и всевидящий Бог за алчность и хамство одного по полной мере взыщет со всех Годуновых.
Но поначалу он взыскал и с Захарьиных, и со всей России.
Среди прибранных к рукам должностей и обязанностей Семёна Годунова находилось ведение придворными докторами и аптеками. Именно общение с различными травниками и ворожеями подсказало Семёну Никитичу ход, по сей день широко применяемый недобросовестными сотрудниками правоохранительных органов: подбросить в дом братьев Захарьиных «наркоту» – мешок с дурными кореньями и травами, а потом с помощью подкупленных слуг обвинить Захарьиных в колдовстве с целью извести царя Бориса.
– Бойся Захарьиных! – нашёптывал Семён Годунов.
– Не верю! – чурался доброхота Борис Годунов.
– А я докажу! – не сдавался Семён Никитич.
К исполнению задуманного он привлёк бывшего землевладельца-вотчинника, оставшегося в истории под именем Бартенев Второй. На царской службе у того что-то не заладилось, земли, собранные папашей, сын разбазарил и пошёл в услужение к Захарьиным, сначала к Фёдору Никитичу, а потом, по рекомендации старшего брата, стал казначеем у Александра Никитича.
Казначей с готовностью согласился подбросить мешок с дурными травами приютившим его Захарьиным. Так, часто холопы наибольшую злобу питают к обласкавшим их благодетелям.
Все братья Захарьины, за исключением Михаила Никитича, отселившегося в Китай-город, жили в родовой усадьба на Варварке. Примечательная деталь в череде фатальных совпадений, коих немало в истории русской монархии: именно отсюда поведёт свои полки на штурм Кремля Дмитрий Пожарский!
А пока в одну из осенних ночей 1559 года из Кремля к усадьбе Захарьиных направлялась назначенная Семёном Годуновым следственная комиссия в сопровождении нескольких сотен стрельцов с горящими факелами. Вооруженная толпа нужна была для подавления ожидаемого сопротивления. Таковые опасения имели основание: усадьба Захарьиных напоминала неприступную крепость, преданная челядь готова была встать за господ горой, и сопротивление, случись оно, с большой долей вероятности было бы поддержано московским людом. Но братья, стоявшие у истоков монархии Романовых, проявили ту же покорность судьбе, что и их далёкие потомки, смиренно позволившие поставить крест и на их династии, и на их жизни…
Ворвавшись в дом, члены комиссии сразу же направились к кладовой, где были схоронены мешки со злополучными корешками.
Казалось бы, доказательства налицо. Но царь Борис объявил над Захарьиными гласный суд. То ли сам себя хотел убедить в их виновности, то ли стремился явить народу объективность следствия. Точно так же, по приговору «беспристрастного» суда, будет убирать своих соратников большевистский царь.
Участь братьев была предрешена. Для Захарьиных наступило время испытаний.
Глава 3.
Царь Борис держит слово
Восходя на царство, Борис повелел слухачам и соглядатаям (а их в период его царствования развелось великое множество) якобы тайно, но повсеместно распространять слух о взятом на себя обете не проливать крови в течение пяти лет. И надо сказать, слово своё старался держать. Насколько иезуитским способом исполнялся этот обет православным царём, наглядно демонстрирует судьба братьев Захарьиных.
Их начали высылать с 1 июля 1600 года. Пятерых братьев (шестой избежал наказания по малолетству) по приговору суда решено было отправить в бессрочную ссылку на дальние рубежи земли Русской. Самого старшего и известного – Фёдора – выслали в Холмогорский уезд, где насильно постригли в монахи и заточили в Антониево-Сийский монастырь под именем Филарета. Сделано это было для того, чтобы новоявленный Филарет и в мыслях никогда не мог претендовать на царскую власть. Только божий промысел рассудил иначе.
Мягкого и слабовольного Александра царь Борис, не без влияния Семёна Никитича, ненавидел особо люто. Слабые люди всегда вызывают желание покуражиться над ними. Возможно, Александр Захарьин кротостью своей напоминал Годунову усопшего царя Фёдора Ивановича, чей трон он занял.
Борис повелел отвезти Александра Никитича с маленьким сыном Феденькой на Вологодчину, в Усолье-Луду. Вскорости оттуда в Москву пришла весть, что оба ссыльные, отец и сын, до смерти истомились в горячей бане. Так и останется навсегда загадкой: то ли сами стражники проявили излишнее рвение, то ли действовали по наказу Бориса. Если и был наказ, то исходил он, скорее всего, от Семёна Годунова. Но, главное, крови-то пролито не было!
Ивана и Василия Никитичей отправили в далёкий Пелым – русский форпост, основанный после похода Ермака на землях воинственных вогульских князей, периодически совершавших набеги на острожки Перми Великой. От Соли Камской до Верхотурья братья брели пешком по только что проложенной Бабиновской дороге, с открытием которой начался расцвет будущего Соликамска. Через десяток лет он примет статус столицы пермских земель от начавшей хиреть Чердыни. В чердынскую глухомань будет сослан Михаил Никитич.
В Пелыме братья Захарьины короткое время томились, прикованные цепями в разных углах избы. В середине января 1601 года по царскому указу цепи были сняты, но Василий вскоре скончался на руках у брата. По причудливой иронии судьбы ссылку, помимо Фёдора, пережил лишь Иван Захарьин, обречённый, казалось, первым расстаться с жизнью: от роду был среди братьев самым хилым, к тому же давно страдал чёрной немочью – так в те времена называли паралич.
«А изменник твой Государев болен старою болезнию, рукой не владеет, на ногу маленько приступает, и язык отнял, лежит при конце», – доносил Годунову сопровождавший Ивана в Пелым стрелецкий голова.
Ан нет! Недаром в народе говорится, что скрипучее дерево дольше стоит. Иван, переведённый в Нижний Новгород, благополучно, насколько ему позволяла хвороба, дождался конца опалы и стал свидетелем триумфа своего рода.
Михаил был самым видным из Захарьиных. Статью не уступавший сводному брату Фёдору (тот, единственный из Никитичей, рождён от первой жены) Михаил был и лицом пригож. Красавец богатырского сложения и здоровья, по тем временам весьма образованный баловень судьбы, любимец простонародья – вот такому человеку была уготована судьба при таинственных обстоятельствах окончить жизнь на окраине пермских земель. Парма навсегда укроет тайной кончину и его тёзки, столь же пригожего душой и телом, последнего в роду прямого наследника престола.
Тем временем Господь вконец оставил Бориса Годунова. В 1601 году, на Успенье Пресвятой Богородицы, по причине ранних морозов на корню погиб хлеб. Начались небывалый голод и сопутствующий ему мор. Годунов, верный данному во время венчания на царство обещанию разделить с нуждающимися последнюю рубашку, проявлял чудеса милосердного бескорыстия. Но проведение распорядилось так, что все его благие начинания оборачивались злом и неумолимо вели к катастрофе.
Царь повелел открыть государевы житницы, продавать хлеб по низким ценам, а беднякам раздавать деньги. Но в результате, как обычно и бывает, зерно перехватили ушлые перекупщики, а в Москву со всех окраин хлынули толпы обездоленных. Так же, в преддверии другой российской смуты, четырьмя веками позже рванёт в столицу иногородний люд на электричках и поездах, прозванных «колбасными».
В правление царя Бориса всё было гораздо жёстче. Изголодавшиеся люди щипали позднюю траву, а зимой начали жевать солому. По улицам столицы бродили обтянутые кожей скелеты, тяжело таская болтавшиеся у колен непомерно раздутые животы. Падая, эти люди уже не могли подняться. Рты мёртвых были забиты навозом и человеческим калом. Повсеместно разрасталось людоедство. Стало опасно ходить в гости, останавливаться на постой.
Летописцы описывают случай, когда бредущая по улице женщина, тащившая грудного младенца, вдруг хватила его по голове кулаком и вцепилась зубами в крохотную ручку, грозным рыком не подпуская к себе очевидцев.
Обезумевший народ искал объяснения сошедшей на него каре. Тут-то и начал расползаться слух, что неисчислимые беды, обрушившиеся на Русь, есть кара за грехи царя, убийством в Угличе цесаревича и опалой Захарьиных затоптавшего последние побеги законной царской власти. На Углич напирал тешивший собственные честолюбивые планы знатный боярин Василий Шуйский, а о Захарьиных напоминали сами оставшиеся в Москве представители поредевшего рода.
Рождение слухов совпало с бедами, которые начали сокрушать семью самого Годунова. 26 октября 1603 года умерла его сестра Ирина – вдова царя Фёдора Ивановича, добровольно обменявшая мирскую суету на монашеский постриг. Она и жизнь покинула от не отпускающей душу скорби. Личное горе Бориса усугублялось растущим неприятием его растревоженной чернью.
Набожный царь частенько прибегал к советам волхвов и юродивых. На Руси к блаженным издавна относились с почтением и робостью. Россия – единственная в мире страна, столица которой увенчана храмом, посвящённым юродивому – Василию Нагому, более известному как Блаженный.
Юродивые на Руси в чести и поныне. Показательна история Порфирия Иванова, который, как Василий Блаженный, в любое время года пренебрегал одеждой.
Клубы, а точнее секты, его почитателей в конце XX века широко распространились по стране. Забавную картину представляли собой последователи Иванова, которые, стоя на одной ноге в неудобной позе ласточки, умудрялись при этом хором распевать немудрёные слова гимна, сочинённого их кумиром. После ухода учителя на 82-м году из жизни адепты его учения с выработанной тренировками резвостью разбежались. Видимо, не смогли пережить разочарования от столь скорой кончины наставника, обещавшего им если не бессмертие, то, по крайней мере, долголетие. За фанатичным преклонением скрывается подчас личный мелкий интерес, в угоду которому человек готов встать в любую позу.
Вот и Годунов отправился за советом к самой известной в то время пророчице Елене Юродивой, живущей в окружении преданных монахинь в подземелье подле часовни. Все юродивые наделены незаурядным даром актёрства. Первый раз Елена царя не приняла – выдержала паузу. Во второе посещение встретила Бориса постановочным пророчеством: велела своим приспешникам принести бревно, вокруг которого, размахивая кадилами, начали кружить четверо священников, совершая обряд отпевания. Следует ли говорить, что сцена сия не добавила царю оптимизма?
Над главным делом его жизни – строительством собственной династии – явственно нависла угроза краха. А ведь он так долго, так исподволь, но в то же время так упорно двигался к намеченной цели!
В своё время Борис перспективно женился на Марии, дочери самого влиятельного при дворе Ивана Грозного временщика Малюты Скуратова, родившей ему двоих прекрасных детей. Годунов был чадолюбивым отцом. Поднявшись из грязи, не в князи даже, а в цари, сделал всё для того, чтобы вырастить сына и дочь наделёнными его достоинствами, но избавленными от присущих ему пороков.
Сын Фёдор, пошедший статью в отца, а чистотой души в мать, отличался не только красотой необычайной, но и искренним благочестием. Органически не принимал зла и бесчестия. Был ревностен в вере и вместе с тем глубоко образован. Лучшего царя Руси невозможно было бы и желать. Но грехи отцов нередко падают проклятиями на их детей.
Дочь Ксения принадлежала к тому типу русских красавиц, привлекательность которых готовы признавать даже недоброжелатели. Но красота не стала почвой для гордыни. Юная Годунова отличалась кротостью характера, охотно присоединяла свой глубокий голос к хору певческой артели, была прилежна в рукоделии. Отец страстно желал выдать её замуж за представителя одного из европейских монарших домов, и такая королевна сделала бы честь лучшим из них. Но и здесь злой рок преследовал семью Годунова.
Помолвка с сыном шведского короля Эрика ХIV не заладилась оттого, что юный принц Густав не захотел принимать православие. А это являлось непременным условием, выдвинутым царём Борисом. Брат датского короля, принц Иоанн, изъявлял готовность поменять веру, собирался приехать в Москву, но внезапно заболел горячкой и умер.
Телесные недуги, неизбежно нагоняющие душевные, начали одолевать самого царя Бориса. Поползли слухи о его скорой кончине.
Утром 13 апреля 1605 года Борис почувствовал себя значительно лучше. Он сам встал с постели и заторопился в Кремль, где его ожидала важная встреча: переговоры с послами герцогства Шлезвиг, в то время принадлежавшего Дании, представителями принца Филиппа – ещё одного кандидата в супруги Ксении. Переговоры прошли удачно, и пребывающий в добром расположении духа царь пригласил послов в Золотую палату к уставленному яствами столу.
Когда обед подходил к концу, царь вдруг резко поднялся с кресла и словно окаменел. Из носа, ушей и рта хлынула кровь, забрызгивая расставленные на столе блюда и камзолы послов. Борис начал тяжело оседать на руки набежавшей челяди.
Срочно вызванные врачи бестолково суетились подле тела теряющего сознание царя. Прибежавший одним из первых, верный патриарх Иов едва успел совершить над умирающим обряд пострижения, нарёк его Боголепом, и под этим именем царь Борис отправился на суд к Всевышнему.
Опасаясь надвигавшейся смуты, боярство вкупе с духовенством поспешило венчать на царство сына Годунова Фёдора, дав тем самым передышку себе и подписав смертный приговор невинному юноше.
Прекраснодушный Фёдор не имел ни опыта дворцовых интриг, ни поддержки боярских кланов. Удушающую опеку над ним принял Семён Годунов. Юный царь был обречён. Царствование его стало самым недолгим в истории России: продлилось оно всего лишь месяц.
Тем временем Шуйский замыслил длинную комбинацию. Когда к нему прибыли послы первого самозванца, Василий Иванович, уверявший ранее, что царевич Дмитрий мёртв, прозрел и взошёл на лобное место, чтобы заявить:
– Борис послал убить царевича Дмитрия, но царевича спасли, а вместо него погребён попов сын!
Растерявшийся было народ обрёл цель – мочить Годуновых! Во все времена толпу несложно поднять на погром. Толпа хлынула в Кремль. Царица Мария и царевна Ксения обречённо шептали молитвы, прикрываясь иконами как щитами. Но не иконы, а бояре на этот раз оберегли их от безумства черни. Пока было неясно, как сложится дело с новоявленным царевичем Дмитрием, и Фёдора следовало попридержать, как джокер в рукаве. Его, превратившегося в одночасье из царя в «вора Федьку», подвергли домашнему аресту, а к Лжедмитрию отправилась делегация с повинной грамотой от всей столицы: просить прощения у «законного царя».
Одним из первых дел вступившего в Москву Самозванца стала расправа над родственниками царя Бориса. Фёдора и его мать он повелел убить. Исполнять приказ отправились стрельцы. Мать и сына развели по разным комнатам. Марию удавили тотчас, а не по годам рослый и крепкий восемнадцатилетний Фёдор оказал убийцам яростное сопротивление. Он успешно оборонялся от четырёх наседавших стрельцов, пока один из них, повергнутый на пол, не впился пятернёй в его мошонку. Нестерпимая боль на мгновенье парализовала юношу, и убийцы повисли на нём, как свора собак на затравленном медведе. Тяжестью своею опрокинули юношу на пол, жадными руками отыскивая горло.
Даже тела Годуновых были подвергнуты поруганию. Мать и сына повелели закопать без отпевания и вне погоста, как самоубийц. Тело же самого Бориса было вынесено из Архангельского собора, где он, как оказалось, на очень короткий срок обрёл упокоение, и выставлено на общее обозрение. Делалось это в назидание власти, якобы самозваной, от якобы законного царя.
Пощадил Лжедмитрий только Ксению. Но этот жест был продиктован отнюдь не человеколюбием. Писаную красавицу и несостоявшуюся королевну, для которой отец так разборчиво подбирал жениха, Самозванец бросил в омут самого разнузданного блуда, которому предался в дни своего пьяного торжества, забыв на время, что на встречу с ним уже спешит горячо любимая невеста Марина Мнишек.
Возможно, у Самозванца, помимо похоти, был в отношении дочери Годунова и дальний расчёт: как там ещё сложится со строптивой полячкой, а на крайний случай под рукой есть дочь хотя и бывшего, но всё-таки царя. А поменять настроение общества, даже в те лишённые телевидения и интернета времена, было весьма несложно.
Пресытившись безропотной жертвой, вор отправил Ксению в монастырь. Но и в дальнейшем дочь Годунова, в иночестве Ольга, не единожды подвергалась тяжёлым испытаниям. Приехав в 1608 году на престольный праздник
Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву лавру, она вместе с братией, мужественно оборонявшей святыню, попала в шестимесячную польскую осаду. А перебравшись затем в Новодевичий монастырь, пережила атаки его полками Прокопия Ляпунова и была дочиста ограблена шайками Заруцкого, ставшего впоследствии последним любовником и подельником Марины Мнишек, чьей соперницей Ксения на короткое время стала по воле Самозванца.
Поразительно, но об этой несчастной, но чистой, несмотря на поругания тела, душе осталась рукотворная память: две вышивки её рукоделия поныне хранятся в ризнице Троице-Сергиевой лавры. Там же находится остроносая, очень маленького размера кожаная туфелька царевны.
А вот тела царя Бориса и остальной его семьи так и не нашли успокоения. Минуло триста с лишним лет, и прах их вновь подвергся поруганию. На сей раз со стороны жестоких от неразумности загорских мальчишек. Они прокопали ход к усыпальнице Годуновых в бесхозной во времена торжества атеизма Троице-Сергиевой лавре. Пионеры и комсомольцы играли в футбол найденными черепами.
Расправившись с женой и сыном Годунова, прочих его родственников стрельцы, несмотря на ненастное время года, раздели донага, сковали цепями, посадили в навозные телеги и вывезли в различные города, побросав в темницы. Злой гений семьи Семён Годунов, автор средневекового «дела врачей», был сослан в Переславль-Залесский и заточён в темничный погреб, где и сгинул от голода. Когда Семён Никитич просил есть, не лишённые чёрного юмора охранники приносили ему камень. Кончина последнего из Годуновых удивительным образом схожа с судьбой одной из жертв сфабрикованного им дела отравителей Михаила Никитича Захарьина-Юрьева, ставшего Романовым посмертно.
Глава 4.
На краю земли пермской
Чердынь. В период становления государства Российского она по праву носила звание Великой. Именно Пермь Великая – Чердынь стала главным пограничным форпостом молодой России на пути в неизведанную Сибирь, успешно решая три главные задачи формирования государственности: развитие экономики, укрепление обороноспособности и единство идеологии, проводником которой в те времена была церковь.
Одна из уникальных особенностей пермских земель заключается в том, что россияне – сначала новгородские ушкуйники, а вслед за ними московиты – начали обживать их с самой отдалённой, самой дикой глубинки, выйдя – где по воде, где волоком – на Чердынь с севера. И только потом, от Чердыни, через Соль Камскую, Кунгур, а затем и саму Пермь, начали искать более короткий обратный путь к центру России, к Москве.
В Чердыни поднялся первый на Урале Иоанно-Богословский монастырь. Историки православия всегда особо выделяли роль Чердыни в том, что отсюда на «Великопермскую землю первоначально излилось Христово учение». Хотя, если говорить о Пермском крае в его сегодняшних границах, первыми христианами здесь стали коми-пермяки – жители камского левобережья, которое сегодня входит в состав Коми-Пермяцкого округа. Малочисленное население этих мест исторически тяготело к соплеменникам, населяющим земли нынешней Республики Коми. Обращение в православие живущих здесь народов произошло задолго до образования Чердыни, и заслуга в том принадлежит знаменитому крестителю Стефану, прозванному Пермским, или же Великопермским. Если взглянуть на историю православия в Прикамье под этим углом зрения, становится несостоятельным общепринятое убеждение в том, что Стефан Пермский на землях собственно Пермского края никогда не был. Подтверждение ошибочности этой точки зрения находим… в коми-пермяцком фольклоре!
Одним из первых коми-пермяков, обращённых в православие, стал герой национального эпоса Пера-богатырь, выходец как раз из левобережной деревеньки Лупья нынешнего Гайнского района Коми-Пермяцкого округа. И кто возьмётся утверждать, что крестил его не сам Стефан Великопермский?
Ассимиляция русских колонистов с коми-пермяками проходила весьма мирно. Сказывался заложенный в сознание коми-пермяцкого народа патернализм, сохранившийся по сегодняшний день. Однако, когда возникала необходимость оказать сопротивление внешней угрозе, коми-пермяки, наряду с добродушно принятыми ими русичами, проявляли удивительную стойкость.
Наглядным примером мужества первых российских пермяков стала неравная битва 85 ратников, охранявших чердынскую заставу, с отрядами пришедших из Сибири ногайцев.
Сражение состоялось на льду реки Колвы в январе 1547 года – как раз в то время, когда первый русский государь Иван Васильевич венчался на царство!
Все ратники заставы, а среди них были как русичи, так и коми-пермяки, погибли, но отстояли Чердынь – ногайцы повернули назад.
Воины, положившие за Пермь Великую жизнь, были впоследствии канонизированы как защитники христианства. Но защитили они не только веру. Павшие в том «ледовом побоище» отстояли северную границу молодого Русского государства!
Икона с их изображением и сегодня хранится в Чердынском музее.
Чердынь, подобно собирательнице земель русских Москве, поднялась на семи холмах, каждый из которых увенчан православным храмом. Этот городок словно застыл во времени, представляя собой уникальный музей под открытым небом. На севере земли Перми Великой заканчивались Ныробом. За этим поселением жизни человека и тогда практически не было, нет её и сегодня.
Выросший из деревни Ныробка посёлок известен как одна большая лагерная зона, куда свозили зэков со всей Руси и до, и после советской власти. Самым именитым среди них был сосланный сюда в 1913 году Климент Ефремович Ворошилов – будущий «первый красный офицер». А счёт заключённых Ныроба начался с боярина Михаила Никитича Захарьина – племянника первой русской царицы, которому так и не суждено было узнать, что в свою очередь его племянник и тёзка станет первым русским царём новой династии.
В середине XVII века деревня Ныробка состояла всего лишь из шести домов, казалось бы, бессистемно сгрудившихся на пологом склоне холма, по краю которого течёт зародившаяся в недалёких болотах речушка.
В кажущемся беспорядке расположения деревенских изб опытный взгляд улавливал мудрую крестьянскую рациональность, учитывающую рельеф местности, изгибы русла речушки и границы подпиравшей с трёх сторон деревеньку тайги.
Все шесть изб Ныробки были выстроены принятым у северян способом, носившим название «дом со связью». Завезли сей образец народного зодчества в пермские земли первые переселенцы – новгородцы да устюжане. Такой дом состоял из двух клетей – жилой и холодной, стоявших на высоком подклете. Жилая и хозяйственная части дома соединялись между собой сенями. Подклет избы использовался как погреб, а в хозяйственной части содержался скот и хранился заготовленный для него корм.
Окна, больше похожие на бойницы, были вырублены в двух смежных бревнах – на полбревна вверх и вниз – с восточной стороны избы. Дом должен смотреть на солнце. Такие окна назывались волоковыми, так как закрывались – заволакивались изнутри тесовой задвижкой.
В подклетах прорубались узкие продухи: дерево, как и человек, без свежего воздуха не живёт.
Продухами были снабжены и небольшие прямоугольные срубы, поставленные над ямами, в которых хранились запасы мяса и рыбы, – первая разновидность холодильника, в котором клеть служила морозильной камерой. Особенность таких строений была в том, что северная стена их выдвигалась значительно дальше торцевой части сруба. Делалось это для того, чтобы снега не заносили вход в погреб.
Иванко – так звали первого русака, рискнувшего поставить здесь избу, – был рослый мужик с крепкими, но пригнутыми тяжёлым трудом к земле плечами. Длинные руки его заканчивались широкими ладонями, корявые пальцы которых, подобно корням потревоженных бурей деревьев, болтались возле самой земли, всегда готовые в неё вцепиться. Нечёсаная шевелюра Иванки составляла с усами и бородой единый волосяной покров, под которым невозможно было угадать ни рта, ни глубоко посаженных глаз, один лишь крупный мясистый нос, подобно острову, торчал из волосяного моря. Этот нос вызывал почти мистическое уважение у вогулов, бродивших в этих местах вслед за стадами оленей. Именно вогулы дали имя сначала обладателю впечатляющего носа, затем и месту, где тот решил поселиться: Ныр – нос, ыб – поле. Поле, принадлежащее Носу.
Отец Иванки был одним из ратников, павших от ногайских стрел при защите северной заставы Чердыни – острожка Искор, прикрывавшего верхнекамские земли со стороны Печоры и Вычегды.
Мать, прижимая к груди новорождённого сына, вместе с другими женщинами и детьми бежала из посада, вскарабкавшись по «узкой улочке» – расщелине в скале, не раз выручавшей русаков в подобных обстоятельствах.
Сегодня по ней карабкаются туристы, желающие «сбычи мечт», которая гарантирована тем, кто доберётся до вершины.
По-разному сложилась судьба беженцев: одни, отсидевшись в парме, вернулись на обжитые места, другие сгинули, заплутав в буреломной чаще.
Матери Иванки повезло: её с сыном подобрал один из вогульских князьков и держал при себе в качестве то ли жены, то ли наложницы, что, впрочем, у кочевых племён пармы практически не имело различия. Иванка рос любимцем князя, но, видимо, гены славян-земледельцев тянули к оседлости. Когда мать, сохранившая в сыне язык и весьма смутное понимание о христианской вере, закончила земной путь, Иванка упросил князя дать ему возможность пожить по обычаю предков.
Опыт общения с соплеменниками у Иванки был весьма скудным: он ограничивался посещениями ставшего к тому времени погостом Искора для обмена добытой рухляди на необходимые в тайге и тундре товары: булатные ножи, топоры, зерно. Искорцы частенько потешались над чудным малым, внешне похожим на них, но, подобно язычникам, одетым в малицу из оленьей шкуры поверх суконной рубахи с капюшоном. Да и говорил он на нелепой смеси новгородского диалекта и вогульской тарабарщины.
Тяга к сородичам всегда боролась в Иванке с боязнью быть отвергнутым ими. Потому начать новую жизнь он предпочёл с компромиссного варианта. Немало побродив по Искорскому посаду, незаметно, но цепко присматривался к работе местных зодчих и поставил избу в семи верстах от погоста: вроде как и рядом с русаками, и всё же в отдалении от них.
Прощаясь, вогульский князь одарил Иванку женой – дочерью своею, с которой они вместе выросли. Вот так русский мужик с женой-вогулкой и начали изнуряющую борьбу за выживание, которая на Руси по сей день именуется жизнью.
К началу ХVII века, когда произошло событие, навсегда выделившее Ныроб- ку из ряда безвестных чердынских деревенек, Иванко Нос был уже древним стариком, перешагнувшим полувековой рубеж, что по тем временам было явлением редкостным. Разрослась его семья, и вместе с ней разрослась деревня. Рядом с отцовским поставил дом Якуш Черной, прозванный так за смуглость кожи да вороной окрас волос, унаследованные от матери. Русоволосую жену Якуш привёз в новый дом из Покчи.
От русаков первым к Иванке прибился охотник Микитка Ларев, низкорослый, но широкий в плечах, почти квадратный, мужик. В зимнюю пору он промышлял рухлядью, которой торговал затем на ярмарках погостов Искора, Вильгорта и даже самой столицы воеводства – Чердыни.
Микитка, сговорившись с Иванкой, взял в жёны его старшую дочь, ростом и костистостью вышедшую в отца. Выбор Микитки был сугубо прагматичным: жена отличалась трудолюбием и спокойной кротостью. Видимо, инстинктивно щадя самолюбие мужа, она пуще отца пригибалась к земле, скрадывая свой великий рост, особенно бросавшийся в глаза подле коротышки мужа.
Микитка жену жалел. Лишь изредка, после удачных торгов, в излишне хватившем зелёного вина мужике просыпалась тяга к самоутверждению. Ввалившись в избу, он забирался с ногами на полати – так назывались идущие вдоль стен избы лавки – и, как ему казалось, грозным криком подзывал жену. Та, наперёд зная, что её ждёт, бросала дела и спокойно подходила к полатям, на которых покачивался супруг. Микитка, придерживаясь одной рукой за стену, другой с размаху наносил жене удар кулаком в скулу и, успокоенный, падал на её же крепкие руки, заботливо укладывающие его спать.
Их подросший сын Ларко Микиткин поставил рядом с отцовским свой дом и по примеру старейшины Иванки взял жену из вогульского племени.
Сенька Дмитриев прибыл в Ныробку большой семьёй: жена и трое детей, к которым вскоре прибавилось ещё двое. Дмитриевы всё делали сообща: вместе разбивали огород, вместе уходили в парму на промысел грибов и ягод. Трудились споро, не деля работу на мужскую и женскую. Старый Иванко частенько замирал на пороге своего дома, подолгу наблюдая за ладной работой этой дружной семьи. Соседям, в свою очередь наблюдавшим за ним, казалось со стороны, что старейшина в этот момент о чём-то сосредоточенно думал. Но Иванко ни о чём не думал – просто стоял и смотрел.
Последним появился в деревне Ерёмка-бобыль. Он пришёл один и дом поставил на отшибе. Попробовал сговориться с Сенькой Дмитриевым о женитьбе на старшей дочери того, но получил вдруг от кроткого и доброжелательного отца семейства решительный укорот. С тем же успехом, точнее неуспехом, Ерёмка походил по другим дворам. Даже непритязательные кочевники-оленеводы отрицательно качали головами, когда он, желая мены на жену-вогулку, выкладывал перед ними товары, среди которых был и предмет особой Ерёмкиной гордости – серебряное персидское блюдо, попавшее к нему одним из тех путей, которыми не принято бахвалиться.
Бывает же такое: человек вроде бы и не отличается ничем от других, а все его сторонятся. Спроси почему, сами не смогут объяснить.
Не обзаведясь семьёй, Ерёмка не испытывал нужды в обработке земли, так и жил бобылём, промышляя охотой да рыболовством.
В эту деревушку на исходе августа, в самый канун нового 1601 года, прискакал на взмыленной лошади гонец от чердынского воеводы с приказом в срочном порядке поставить два дома для важных гостей, идущих из самой Москвы.
Каждый крестьянин – работник-универсал, ведает профессиями числом до двух десятков. Ставить дома для ныробцев было делом знакомым. Новые избы в деревнях поднимали обычно всем миром. Трудились слаженно и даже красиво, с лёгким налётом профессионального артистизма, получая удовольствие от тактично скрываемого соперничества в мастерстве.
Была лишь одна загвоздка. Лес под строения заготавливали обычно в срок от Николы зимнего до Сретенья. В это время лес спит, замирает движение сока в стволах деревьев. А ставились дома летом, после того как заготовленные брёвна хорошо просушатся.
В том году в Ныробке строительства не планировалось и делового леса в зиму не заготовили. О том и поведал Иванко Нос нечаянному гостю. Но гонец только отмахнулся:
– Рубите летний да не тяните с просушкой – сроку нет. Ненадолго строите, Бог даст, не задержатся московиты.
Гонец, брезгливо отмахнувшись от ковша браги, протянутого Иванкой, вскочил в седло.
Ранним утром другого дня ныробские мужики вышли в парму с топорами за кушаками. Были в деревне и пилы, но строительный лес нужно рубить: от ударов топора волокна древесины на срубе уплотняются и меньше впитывают влагу. Все ныробцы были крещёными, по большим праздникам ходили в Искор, молились в стоявшей в центре погоста церкви. В остальные же дни, когда к тому была необходимость, били поклоны деревянному изваянию распятого на кресте человека с печатью безысходного страдания на широкоскулом лице с азиатским разрезом глаз. Таким вырубивший его из цельного ствола дерева Иванка представлял Бога. Свою рукотворную святыню он вкопал в землю невдалеке от священной ели вогулов.
В сущности, христианство ныробцев мало отличалось от язычества местных племён. И сегодня на Руси даже в самых цивилизованных горожанах сидят немалые языческие традиции. Чего уж говорить о крестьянах русского севера, живших в тесном общении с природой, зависящих от неё, чувствующих её пуповиной.
Заготавливая лес, ныробцы обычно просили у дерева прощения, объясняли ему нужду, приведшую их в парму. Порой хитрили, убеждая зелёных исполинов, что рубить их будут не по своей воле. В тот раз это было истинной правдой. Согласно полученному от гонца распоряжению следовало на дворе для незваных гостей поставить хором две избы, да сени, да клеть, да погреб, и чтобы около двора была городьба. То есть дом предписывалось поставить старым, известным ныробцам способом – в две клети. Только на этот раз обе предназначались под жилые избы.
Свои дома ныробцы ставили прямо на землю. Для незваных дорогих гостей, учитывая неподготовленность леса, цокольные подклеты установили на плоские валуны.
Брёвна укладывали вразбежку: на комель нижнего дерева ложилась верхушка следующего. Обычно тщательно подогнанные друг к другу брёвна исключали необходимость конопатить пазы. На этот раз лес клали сырой, потому для верности стены пробили белым мхом.
Покрыли избы самцовой кровлей. Самцами самобытные русские зодчие называли горизонтальные брёвна, образующие подкровельную конструкцию, на которую кладётся тёс.
Нижние концы кровельного тёса упирали в поток – выдолбленное в виде жёлоба бревно, которое одновременно служило и опорой, и водостоком. Поток клали на курицы – укреплённые в слегах стволы молодых елей, срубленных с одним из ответвлений корня, отдалённо напоминающие клюшку для хоккея с мячом. Эти загнутые корни держали конструкцию крыши снизу, а сверху конёк кровли прижимало ещё одно выдолбленное бревно – охлупень. Такая изба строилась без гвоздей, но держалась прочно благодаря грамотно распределённой силе собственной тяжести. Так у древних деревенских зодчих, не знающих чертежей, работала инженерная мысль.
Есть на севере Коми-Пермяцкого округа деревня Марапальник, в которой сохранилось до наших времён несколько изб, поставленных по той же технологии, соблюдая которую ныробцы возвели в своей деревеньке первый гостевой дом.
Рядом с домом выкопали погреб, укрепив стены тёсом. Сверху поставили клеть, снабжённую продухами. Холодильник для гостей оставили пустым: наполнять команды не было!
К установленному гонцом сроку дом был готов, и в тот же день из Чердыни прибыл небольшой обоз: запряжённые цугом лошадёнки тащили дроги, гружённые кирпичом. Кирпич этот изготавливался на заводике при Иоанно-Богословском монастыре. Свои избы ныробцы топили по-чёрному, а этот кирпич предназначался для печей, которые сложил в новом доме печник, прибывший с обозом в сопровождении двух подмастерьев.
Кирпича хватило и на печь первой в Ныробе «белой» бани. Её поставили вплотную к сеням со стороны дома, обращённой к лесу.
Протопив печи и проверив тягу, мастер отбыл. А ныробцы погрузились в ожидание неведомого.
Зима в 1601 году пришла в Пермь Великую рано. В конце новогоднего месяца сентября упорно подул северный ветер, нагоняя тучи, набухшие снегом. Унылая серость окружающей природы усугубляла унылость настроения пристава Романа Тушина, который, сопровождаемый шестёркой стрельцов, вёз в Ныробку Михаила Захарьина.
Роман Андреевич получил от Годунова назначение воеводой в новый острог Туринск, заложенный на месте захваченного Ермаком ногайского поселения Епанчин-юрт. С открытием Бабиновской дороги в Сибирь кормление на этом остроге сулило весьма радужные перспективы. Сопровождение Михаила Никитича было для Тушина дополнительной обузой. Как говорится, не допускай порожних рейсов.
Тонкий знаток человеческой психологии, царь Борис, давая приставу строжайшее повеление содержать узника в благополучии и достатке, отлично понимал: чем дольше протянется заточение Михаила Никитича, тем больше на него, как на причину своей задержки в пермской глухомани, будет расти досада Тушина. А ну как сдадут у стражника нервы? Тут уж царь ни при чём!
Звук поддужных колокольчиков позвал ныробцев из жилищ. Деревенские сгрудились в тёмную толпу, почуяв которую лошади приезжих, захрапев, попятились.
Стрельцы спешились. Один из них распахнул дверцу крытого возка, и оттуда шагнул на свет богатырь, запястья рук и обутые в сафьяновые сапоги ноги которого охватывали кольца тяжёлых оков.
Ныробцы знали, что православный Бог умер мученической смертью, ушёл ввысь, но обещал вернуться, чтобы спасти всех, покинутых им на земле. Увидев скованного красавца, блеснувшего, словно луч солнца, расшитым золотом одеянием, они поняли, что Бог вернулся, и упали на колени.
Растерявшиеся стрельцы хлестали по согбенным спинам нагайками, понуждая дикарей встать. Тушин придирчиво осмотрел приготовленный к их приезду дом. Себе с подручным определил избу, выходящую на восточную сторону, в западной велел располагаться четырём стрельцам.
Для узника пристав определил место в просторных сенях, чтобы был под постоянным приглядом. Хотя куда мог боярин убежать, даже задумай такое?
Жить Захарьину предстояло на полатях, тянувшихся вдоль тёплой стены, той, что ближе к печи.
Двое стрельцов направились к Михаилу Никитичу. Тот стоял понуро сгорбившись. Фигура его, облепленная густо повалившим снегом, напоминала белое изваяние. Когда один из стрельцов потянулся к его кандалам, боярин резко распрямился. Снежное облако взметнулось ввысь, стрельцы отпрянули, а ныробчане вновь повалились наземь.
В сложенных местными жителями легендах, охотно повторяемых сегодняшними экскурсоводами, узник в этот момент схватил привезший его в эти гиблые места возок и отбросил далеко в сторону. Не было, да и не могло быть такого. Даже при богатырском сложении Михаила Никитича отшвырнуть возок руками, скованными трёхпудовыми кандалами, было невозможно. А лошади, что, следом полетели?
Весельчак, равного которому в кулачных боях не было по всей Москве, покорно поднялся в избу. Вот так же недалече от этих мест тремя веками позже другой богатырь, его дальний потомок и тёзка, стряхнёт с плеч убийц, чтобы проститься с секретарём, ставшим самым близким другом, но тут же покорится уготованной им обоим участи.
Вослед стрельцам прибыл в Ныробку обоз с провиантом для московских гостей: мука, крупы, вяленая и копчёная рыба, бочки с соленьями, мёдом и зелёным вином. Мясо и дичь должна была дать парма, о чём уведомил ныробцев чердынский воевода, самолично решивший проследить, ладно ли устроились московские гости.
Два дня московиты бурно справляли новоселье. На третий день воевода, не без помощи челяди погрузившись в сани, отбыл.
Для тушинцев наступило время ожидания.
Рано пришедшая зима усугубила однообразие деревенской жизни. Пристав со стрельцами взбадривали себя охотой да лихими банными днями с последующими долгими застольями. Девок деревенских, однако, не трогали – Бога не гневили. А вот к замужним бабам разгорячённые вином стрельцы порой проявляли интерес. Бабы принимали внимание власти (а москвиты для них олицетворяли центральную власть) с равнодушной покорностью, а их мужья замечать озорства стрельцов не хотели.
Поначалу Роман Андреевич пробовал пробить именитого узника на задушевность: я – бывший стольник, ты – бывший стольник, службу понимаем. Но все попытки Тушина завязать доверительное панибратство разбивались об отрешённое молчание Михаила. Уязвлённый пристав перешёл в отношении к своему подопечному к политике враждебного нейтралитета.
Подарком судьбы стало появление таинственного узника для деревенской ребятни. Присутствие за высоким частоколом загадочной фигуры будило воображение.
Сгрудившись в тесный кружок на заветном сеновале, пацаны пугали друг друга и особенно замиравших от страха девчушек на ходу придуманными байками о затворнике, наказанном далёким московским царём. За что тот наказан, в рассказах упускалось. Из подслушанных разговоров взрослых выяснить причины опалы не удавалось, собственного воображения не хватало, поэтому главный акцент в рассказах делался на мучениях, которым подвергался узник.
В детских фантазиях он сидел в холодном тёмном подклете, прикованный тяжёлыми цепями к столбу. В его истлевшей одежде и свалявшихся, давно немытых волосах копошились полчища вшей. Для достоверности рассказчики демонстрировали слушателям насекомых, извлечённых из собственных лохм.
А в ранах, натёртых тяжёлыми оковами, копошились белые черви – личинки будущих мух. Детвора называла их рощениками и с наступлением тепла набирала в помойных ямах, отправляясь на рыбалку. На такую наживку охотно шли плотва и уклейка, именуемые у местных сорожкой и щеклеёй.
Серьёзные рыбаки таким уловом брезговали, а для мелюзги походы за «кошачьей радостью» были одним из нехитрых развлечений.
А вот узнику в историях детворы не доставалось и мелкой рыбёшки. Стража морила его голодом.
Наступило время, когда фантазия рассказчиков, негласно соревнующихся меж собой в придумывании острых деталей, начала иссякать, потребовав конкретных действий.
Детвора придумала чем заняться! Она решила спасти затворника от голодной смерти. Полых стеблей засохшего пикана в заготовленном на зиму сене находилось в избытке. Тайком от взрослых детвора начала наполнять их квасом, сметаной, маслом, затыкая с обеих сторон хлебным мякишем.
Самые отчаянные пацаны через проделанный в остроге лаз крадучись пробирались к дому, в подклете которого, по их мнению, томился узник, и бросали в продухи набитые едой пиканы.
Игра в спасение затворника ребятишкам понравилась. Они продолжали украдкой набивать пищей «продуктовые контейнеры». Порой за этим занятием их заставали родители. Но на их вопросы дети отвечали: «Мы так играем».
Объяснения грешили неопределённостью, но для занятых своими заботами взрослых их было вполне достаточно.
На беду ныробчан, детишек за их тайными ходками к стрелецкому дому застал однажды Бобыль. Мучимый неутолённым сладострастием, он вечерней порой бродил по деревне и наткнулся на сгрудившуюся у лаза ребятню.
При его приближении детвора разбежалась. Но одного пацанёнка, застрявшего в лазе, Бобыль успел схватить. И тот, захлёбываясь от страха слюной и соплями, рассказал Бобылю всё об их тайном сговоре.
В пойманном пацанёнке Бобыль с нескрываемым злорадством узнал младшего сынишку Сеньки Дмитриева, не пожелавшего стать его тестем. В голове деревенского изгоя зародился план мести.
Тушин находился в недобром расположении духа, ставшем к середине зимы его обычным состоянием. Затянувшееся бездействие изматывало грудь тянущей болью. Попойки с опостылевшими соратниками, бани с равнодушно покорными деревенскими бабами успели изрядно поднадоесть.
Пристав тоскливо сидел у окна, когда дверь отворилась и один из стрельцов впихнул в избу угодливо согнувшегося перед высоким начальником Бобыля.
– Чего тебе? – Роман Андреевич ожидал услышать какую-нибудь просьбу, но мужичок срывающимся шёпотом поведал о проказах детворы, добавив, однако, что совершались они по ведению и даже попустительству местных мужиков. В доказательство Бобыль протянул пиканы, брошенные убегающей от него детворой.
Пристав посмотрел на Бобыля с плохо скрываемой ненавистью. Ему вовсе не хотелось портить отношения с местными. Да и понимал Тушин весь идиотизм поведанной истории. Но Роман Андреевич хорошо знал людей из породы доносчиков. Такой в своём мстительном рвении и до чердынского воеводы дойдёт. А там, глядишь, решат, что пристав проморгал политический заговор! Охотников выслужиться перед высокой властью всегда в избытке. Приходилось на донос реагировать.
Роман Андреевич решил превратить фантазию ребятни в реальность. Собранные по приказу стрельцы надели на узника кандалы, сволокли его в подклет и приковали к опорной свае.
Поутру пошли по домам. Ничего не понимающим мужикам вязали руки, связанных бросали в сани. Четверо стражников на двух санях повезли арестантов с сопроводительной депешей в Чердынь.
Боярин так и не узнал никогда, что свалившейся на него страшной опале обязан детской игре.
А ныробских мужиков ввиду серьёзности дела из Чердыни отправили дальше в Казань, где подвергли дознанию с большим пристрастием. Ныробские под пытками молчали, потому что действительно не знали, чего от них добиваются. Только с воцарением на московском троне Самозванца, вспомнившего об опальных «родственниках», арестанты вернутся домой. Без Иванки Носа: старик отдал Богу душу на дыбе.
Ерёмка торжествовал! Выждав некоторое время, он первым делом направился в избу Дмитриевых, где когда-то получил при сватовстве отказ. Но всё семейство оказало Бобылю столь истовый отпор, что он вынужден был вновь уйти несолоно хлебавши. И в какую бы избу Ерёмка ни пытался наведаться, бабы при активной поддержке ребятни гнали прочь доносчика. А тут ещё старая колдунья, жена Иванки, гневно потрясая руками, обрушила на Ерёмкину голову поток вогульской тарабарщины. Слова неслись непонятные, оттого нагоняли больше жути.
Ерёмка был унижен и раздавлен. Стрельцы, на чью поддержку он, как человек, проявивший высокий уровень гражданской сознательности, рассчитывал, каждую неудачную попытку Бобыля устроить личную жизнь сопровождали злорадным хохотом, улюлюканьем и даже тумаками.
После проклятий старухи к обиде Ерёмки добавился страх: а ну как её вогульские духи окажутся сильнее его православного Бога?
Горечь обманутых ожиданий душила Бобыля. Он бросился в свою пустую избу, схватил кнут, которым погонял единственную живность свою – низкорослую лошадёнку, и быстрым шагом направился в сторону леса. Униженный Бобыль решил проучить Бога так, как поступали со своими не оправдавшими ожиданий идолами вогульские шаманы.
Он подошёл к изваянию и занёс над ним кнут. Первый удар был неуверенно слабым. Но Бог молчал. Кнут свистел и обрушивался на деревянное тело всё яростнее и сильнее. Вдруг что-то больно ужалило Бобыля в шею. Ерёмка захрипел и выронил кнут. Взгляд наполнился удивлением и тоской и, перед тем как погаснуть, встретился на мгновение со взглядом Бога, тоже выражающим тоску и недоумение. Неживое тело Ерёмки упало на землю. Из шеи торчала прилетевшая из чащи тонкая вогульская стрела. Кровь из пробитых ею отверстий стекала двумя тонкими струйками, потом остановилась.
Между стрельцами и оставшимися без отцов семейства ныробчанами установилась атмосфера насторожённой враждебности. Жизнь стала и вовсе тоскливой. И стражники вымещали зло на узнике.
Хотя достаточно было одних оков, чтобы сделать существование Михаила Никитича невыносимым. Изготовлены они были с изощрённой целесообразностью: кандалы оживали с каждым движением узника, превращаясь в железного спрута, плотно обхватывающего тело. Десятифунтовый замок – голова стального чудовища – бил по ступням при малейшей попытке сделать шаг. Да и куда было шагать в тёмном подклете?
Рассудок готов был спасти затворника от страданий, покинув его. Но Михаил Никитич избрал иной путь.
Ушедшее от взора боярина небо переместилось в душу и позвало её за собой. Боярин потянулся к обретённой сознанием вечности непрестанно повторяемыми молитвами. Одни подсказывала бессвязная память, другие приходили сами.
Ныробцы, прильнув к ограде гостевого двора, вслушивались в едва доносившиеся до них непонятные, оттого более притягательные слова и со сладостным недоумением ощущали незнакомую доселе лёгкость.
Для стражников же голос из подклета означал продление ненавистной ссылки. Песнопения прерывались приступами кашля, а порой и вовсе замолкали.
Тишина вселяла в стрельцов надежду. Но голос вновь оживал!
Тем временем ожила и природа. Наступила весна, не принёсшая радости ни стрельцам, ни лишённым мужиков семьям ныробчан.
Ближе к концу лета голос окончательно затих. Боясь спугнуть удачу, стрельцы несколько дней не решались спуститься в подклет. Наконец Тушин поднял крышку и погрузился в сумрак темницы. Свеча в его руке тотчас погасла, а сам пристав едва не потерял сознание от окружившего его удушливого смрада, против которого были бессильны струи воздуха, попадавшие в подклет через узкие продухи.
Показалось или нет, что под подошвой сапога что-то шевельнулось? Тушин не дал себе время выяснить это – лишь сильнее вдавил ногу в зловонную жижу. Появившееся из темноты лицо пристава отливало зеленью. Тушин долго не мог отдышаться. Наконец сумел различить направленные на него выжидающие взгляды стрельцов и молча кивнул. Стражники истово перекрестились.
В тот же день московиты начали собираться в дорогу. Что делать с усопшим боярином, не знали. На этот счёт никаких установок не было. Разобрали пол над подклетом. Преодолевая брезгливость, тело узника вынесли на белый свет. Рыть могилу не хотелось. Некогда было рыть могилу. Не снимая с трупа кандалов, опустили его в погреб-холодильник. Яму завалили брёвнами стоявшей над нею клети.
Три дня не приближались ныробцы к покинутому московитами подворью. Потом решились. Растащили брёвна над погребом и наконец увидели вблизи тело того, кто без малого год тревожил их воображение.
Настало время проводить неведомого гостя из неведомых мест в вечно неведомое. С тела сняли оковы, не решившись лишь тронуть железные кольца, охватившие запястья и лодыжки.
Омовение совершила старуха-вогулка – жена Иванки Носа, принявшая вслед за мужем христианство. Она же велела сыновьям достать с чердака гроб, приготовленный много лет назад Иванкой для себя. Это было ложе, выдолбленное в цельной колоде из ствола лиственницы. Выдолб формой своею повторял очертание тела. Из гроба высыпали хранившееся в нём зерно.
Ложе в колоде Иванка готовил согласно своему немалому росту, и к тому же с некоторым запасом. Известно, что покойный, уходя в иной мир, распрямляется. Недаром существует присказка, что горбатого могила исправит.
Тело усопшего обрядили в чистые одежды и, словно мумию, закутали в бе- лый саван. Усопший узник был столь же высок ростом, как Иванка, – гроб пришёлся ему впору. А самому деревенскому старосте, жена знала это, ни гроб, ни собранный узелок с одеждой уже не могли пригодиться.
После омовения старуха вернула покойному нательный крест, а в руку вложила ещё один – деревянный, тоже изготовленный мужем.
Для захоронения выбрали сухое место на вершине холма. Могилу вырыли с тем расчётом, чтобы покойный лежал головой на запад, а в ноги ему на могильном холмике поставили голубец, или, как их чаще называли, голбец – изготовленный сыном Иванки Носа Игнаткой деревянный крест, покрытый сверху двускатной крышей, напоминающей крышу дома. Голбец и был символом дома усопшего.
Голбцы, или домовины, будут официальной церковью запрещены после произошедшего в ней раскола. Но в те времена православные на Руси были ещё едины в вере.
Поминальный стол всей деревней собрали в том доме, где упокоился узник. На стол поначалу поставили кутью – разваренную пшеницу с мёдом – да пироги с капустой. Позже подоспела уха. Завершили трапезу прибелочным киселём, изготовленным на овсяной закваске, и пирогами с начинкой из сушёной малины да сваренным на меду черничным вареньем.
Поминали молча. А уходя, ныробцы подожгли дом, в котором всё равно никто из них не стал бы селиться.
Глава 5.
Ранние Романовы
Романовых подняла Смута. Могло ли быть иначе?
И боярству, погрязшему в склоках, и народу, уставшему от междоусобицы, и стране, только начавшей осознавать свою государственность, необходима была точка опоры в виде правильного царя. Опыт Годуновых, Шуйского, польского королевича Владислава показал, что народ «ненастоящих» царей признавать не хочет, нужны были родственники Рюриковичей. Самыми ближайшими оказались Романовы.
Но сначала погуляли по Руси самозванцы. Как это ни парадоксально, но именно Лжедмитрий I, вернув из небытия оставшихся в живых Никитичей, способствовал воцарению династии Романовых.
Именно первый Самозванец, в благодарность за признание в нём цесаревича Дмитрия, возвёл Филарета в Ростовские митрополиты, а Ивана Никитича Захарьина ввёл в свой Государственный сенат.
Возможно, Филарет испытывал неловкость за своё лжесвидетельство. Но вскоре ему придётся «узнать» Дмитрия и во втором самозванце. Со зрением у Филарета, видимо, были проблемы.
Вычёркивая из своей да из людской памяти годы опалы, Фёдор-Филарет, руководствуясь тем, что его отец был Никита Романович, повёл свой род от новой фамилии.
Так что в пермской глуши умирал ещё не Романов, а Захарьин. Романовы пошли от третьего патриарха Московского и всея Руси – отца первого царя новой династии.
Во времена Смуты Романовы вели себя как и большинство других бояр: крутились как могли, пытаясь соблюсти свой интерес. А в том гремучем коктейле, который представляла собой Россия начала века XVII, сделать это было весьма непросто.
Первого Лжедмитрия оба брата «признали» без душевного сопротивления, восприняв снизошедшую на них «царскую» милость как вознаграждение за годы, проведённые в незаслуженной опале, и повод для торжества над ненавистным родом Годуновых.
Ко второму горе-самозванцу, оказавшемуся заложником чужих страстей, Филарет и сам попал в заложники, привезённый в его лагерь Яном Сапегой – польским рыцарем и авантюристом с душою Д’Артаньяна и телом Портоса.
Лжедмитрий II, хватавшийся за каждую соломинку для доказательства своей легитимности, сразу же провозгласил Филарета патриархом! Правда, самозванство этого горького шута было столь очевидно, что Филарет оказанную ему столь сомнительную честь предпочитал не афишировать. Но и выступать с разоблачением самозванца не спешил.
Ивана Никитича вернуть из ссылки распорядился ещё Годунов, посчитавший, видимо, что парализованный калека, который и обидное прозвище своё, Каша, получил за невнятицу речи, не может представлять серьёзной опасности. Но вот ведь как бывает: по мере приближения к Москве состояние здоровья отходящего вроде бы в лучший мир узника всё больше убеждало, что он собирается на земле задержаться. Пристав Некрасов, сопровождавший Ивана Никитича, с удивлением замечал: «…везучи, язык у него появился, рукою стал владеть.., а сказывает сердце здорово, ест довольно».
Видимо, инвалид в достаточной мере обладал свойственной некоторым представителям фауны способностью к мимикрии, помогающей им в минуты опасности прикидываться мёртвыми.
Обласканный Лжедмитрием, Иван Никитич почувствовал себя настолько хорошо, что в период короткого царствования Василия Шуйского стал одним из военачальников, возглавивших поход против тушинского сидельца, в чьём лагере необременительно томился его старший брат.
После свержения поляками Шуйского оба брата приняли активное участие в избирательной кампании на русский престол королевича Владислава. Именно Семибоярщина, в которую входил и Иван Романов, больше всего опасаясь бунта черни, распахнула перед интервентами ворота Кремля.
Правильным ли был такой выбор? Есть в истории русской смуты пример принятого в схожей ситуации иного решения. Временное правительство – Семибоярщина 1917 года, чтобы остановить поход на Петроград им же избранного главнокомандующего генерала Корнилова, по инициативе Александра Керенского решилось раздать народу винтовки… Результат известен.
Временное правительство 1610 года поступило иначе. Бандам тушинцев, которые уже гуляли под стенами Москвы, бояре предпочли польскую шляхту. Доводы Ивана Романова, самого ревностного сторонника королевича Владислава, смогли развеять сомнения даже истинного патриота, ставшего позже духовным знаменем нижегородского ополчения, патриарха Гермогена.
Один Романов убедил Боярскую думу, другой – митрополит Филарет – возглавил посольство к королю Сигизмунду. Правда, переговоры зашли в тупик, и послы надолго задержались в Польше. Филарет остановился в доме канцлера Льва Сапеги, предъявив ему рекомендательное письмо от племянника – лихого шляхтича Яна Сапеги, известного долгой, но неудачной осадой Троице-Сергиевой лавры.
В почётном плену Филарет будет находиться до середины 1619 года и, возвратившись в Москву, падёт в объятия сына, уже шестой год занимавшего российский престол. Тут же митрополит будет официально посвящён в Московские патриархи бывшим тогда проездом в России патриархом Иерусалимским Феофаном.
С той поры и до собственной кончины (а он по тем временам прожил удивительно долго – почти 80 лет) патриарх Филарет станет фактическим правителем России при своём болезненном и слабохарактерном сыне.
Лжедмитрий I способствовал возвращению в Москву всех ссыльных Захарьиных, не только живых, но и мёртвых. Тела Александра, Василия и Михаила нашли упокоение в Новоспасском монастыре.
В канун 1606 года в Ныробку воротились из Казани отпущенные по указу нового царя мужики, а в разгар зимы в деревню вновь нагрянули московиты. Теперь для того, чтобы доставить в столицу останки Михаила Никитича. Только сейчас ныробцы узнали, кем был таинственный узник.
Московским гостям пермяки и на этот раз не обрадовались: расставаться с обретённой святыней им не хотелось. Понукаемые стрельцами мужики неохотно взяли в руки заступы и кирки. Промёрзшая земля поддавалась трудно.
Когда с погребальной колоды сняли крышку, окружающие замерли. Притихли даже стрельцы. Стенки гроба местами прихватила гниль, а тело узника оказалось неподвластно тлену. Земля взяла лишь фалангу пальца той руки, в которую старая вогулка вложила деревянный крест.
Игнатка Нос, избранный после гибели отца деревенским старостой, вознёс к небу такие же длинные, как у Иванки, руки, попытался что-то сказать – не получилось. Но словам здесь и не было места.
Истово осеняя себя крестным знамением, ныробцы повалились на колени.
Московиты поспешно засобирались в обратный путь.
В год воцарения Михаила Романова у деревни Ныробка, где принял мученическую смерть его дядя Михаил, как-то очень кстати проезжим купцам явилась икона Николая Чудотворца. Образ стоял на пне, из-под которого, как утверждали очевидцы, именно в этот момент забил никогда не замерзающий ключ. Дважды пытались чердынцы увезти икону в Ивано-Богословский монастырь, но она упорно возвращалась на облюбованный пень.
Естественно, что и пень, и бьющий из-под него родник были признаны чудотворными, и к святому месту потянулись толпы богомольцев, желающих прощения грехов и исцеления недугов.
Чудо сие дало повод чердынскому воеводе напомнить царю о существовании Ныробки. И Михаил I отправил в Чердынь грамоту, в которой повелел: «…в том Ныробском погосте, у чудотворного образа Николая Чудотворца, устроить храм древян во имя Чудотворца Николая», и, что было не менее важно для жителей теперь уж села, «с погоста Ныроба впредь до царского указа никаких податей не править». На строительство храма казной были выделены средства из, как сегодня бы сказали, федерального бюджета. А потомки невинно пострадавших ныробских мужиков получали полный пакет льгот и привилегий, сохранявшихся вплоть до реформ, затеянных в 1720 году Петром Великим. Царь Пётр грамотой своею льготы ограничил, приказав взыскивать с ныробцев подушные и рекрутские сборы. В 1856 году состоялось коронование Александра II, ознаменованное многими милостями, а вот особые привилегии ныробцам в том же году были полностью отменены.
Деревянная церковь во имя святителя Николая сгорала трижды. Строят – сгорает, строят – сгорает… Поднимая храм в четвёртый раз, ныробцы решили схитрить: было громогласно объявлено, что церковь возводится во имя другого святого – Алексия, человека Божия.
Кого они пытались обмануть? Новый храм сгорел, едва в трапезной начался праздничный обед, завершавший обряд освящения.
XVIII век начался в Ныробе со строительства новой, теперь уже каменной церкви. Строили её люди пришлые, с местными в контакт не вступавшие, что и породило множество легенд. По одной из них храм строили, а он уходил под землю. Строили – и уходил. Потом вдруг во всей красе сам поднялся из-под земли.
Легенда эта имеет под собой весьма прозаическую основу, связанную с технологией, заимствованной пришлыми зодчими у строителей египетских пирамид. При сооружении Никольской церкви вместо лесов применялась земляная насыпь. По завершении работы землю отгребли – вот церковь и явилась во всей красе поражённым ныробцам.
Однако и каменный храм не остался без грозного внимания неба. Вскоре после освящения в купол церкви ударила молния, повредив при этом глаз Сатане в росписи, отражающей муки адские. Фреску восстановили, но молния ещё дважды ударяла в то же место с поразительной точностью.
Пермский архиерей Иоанн, прослышав о том, дал распоряжение больше с небом не спорить – запретил поправлять фреску.
В четвёртый и последний раз молния обожгла купол храма в 1814 году, на сей раз оставив след чуть выше заклятого места. Больше Господь не обращал на Ныроб внимания.
Что же до родника, пробудившего интерес монаршего дома к далёкой ныробской земле, то он по сей день благополучно существует и даёт святую воду и многочисленным экскурсионным группам, и заключённым последней из оставшихся в Ныробе колоний.
А вот от пня над родником, на котором явилась икона Николая Чудотворца, не осталось и следа. По достоверным записям очевидца – священника Георгия Попова, вскорости после обретения чуда пень был вчистую обглодан богомольцами, полагающим, что древесина его является верным средством от зубной боли. Попросту говоря, богомольцы святыню сожрали. Как это сказалось на количестве и качестве их зубов – неизвестно.
Над ямой, в которой якобы томился ныробский узник, в дни его почитания устраиваются театрализованные представления. А насколько достоверна связанная с нею легенда, разве в этом суть?
Показывают же веронцы экскурсантам балкон, с которого Джульетта обменивалась с Ромео любовными признаниями.
Глава 6.
Проклятие Марины
Лжедмитрий не мог не появиться: слишком много представителей самых разных сословий, как в самой России, так и за её пределами, связывали с ним свои честолюбивые планы. А что было нужно самому Самозванцу?
Российский трон? Да, но не сам по себе, а лишь как средство самоутверждения в глазах красавицы-полячки, которую он, на свою погибель, искренне полюбил.
Своим походом на Москву Самозванец – почти за два столетия до Петра Великого – стремился прорубить для России «окно в Европу». Правда, с той существенной разницей, что Пётр I хотел вывести Россию в Европу, а Лжедмитрий I повёл Европу на Россию.
Ежи Мнишек, будущий тесть Самозванца, снарядил ему в сопровождение небольшое войско из охочей до приключений и наживы шляхты да нескольких тысяч малороссийских и донских казаков.
Что же до официальной Польши, то она к наобещавшему ей с три короба Дмитрию отнеслась весьма благосклонно, но вместе с тем никак документально не засвидетельствовала своё расположение.
Встрепенулась и Папская курия, увидевшая в походе Лжедмитрия желанный шанс к обращению Московского государства в католичество. И претендент на российский престол, убеждённый в том, что сама суть христианства выше разногласий проповедуемых им течений, легко пошёл на совершение над ним католического обряда крещения.
Перейдя в октябре 1604 года российскую границу, Лжедмитрий начал брать город за городом и наголову разбил высланное ему навстречу войско, почти в четыре раза превосходившее по численности его армию.
Не было в этом ничего удивительного. Великая русская Смута началась в головах россиян. Именитое боярство ждало Лжедмитрия как альтернативу безродному выскочке Годунову. А народ в якобы чудесным образом спасшемся цесаревиче видел воплощение своей неизбывной до сегодняшних дней мечты о настоящем, следовательно, правильном царе.
Триумфу Самозванца способствовала внезапная смерть Бориса Годунова. Она же оттянула на некоторое время начало первой гражданской войны в России.
После кончины царя Бориса московский люд пошёл бить челом подступающему к городу Лжедмитрию, войско перешло на его сторону, а боярство толкалось в очереди присягавших на верность новому царю. Первым при широком скоплении народа признал в самозванце истинного царевича Дмитрия князь Шуйский. Но практически тут же Василий Иванович организует против нового царя заговор, чтобы самому дорваться до вожделенного трона.
Всё-таки странной личностью был человек, вошедший в историю под именем Лжедмитрия I. Обладателя невысокой коренастой фигуры, с некрасивым, но задумчивым лицом и вечно грустными глазами, отличали незаурядный ум и полное отсутствие кровожадности.
Когда Лжедмитрию стало известно о затеваемых боярами против него кознях, он для подтверждения своего права на престол созвал первый в России Земский собор с широким представительством всех сословий: духовенства, бояр и простого люда. Народный собор потребовал казни Василия Шуйского и двух его братьев.
Но Самозванец заменил смертный приговор весьма символической ссылкой, а сразу же после венчания на престол и вовсе простил смутьянов, возвратив им и имения, и боярство. Или сам поверил в свою избранность, или посовестился, признавая в душе правоту обличителей?
Скорее всего, опрометчивое великодушие было продиктовано торжеством триумфатора. Только зря он так поступил: прощённый враг – самый лютый враг. Это хорошо понимали большевики, вышедшие на арену истории во время второй великой смуты начала XX, уже как будто вполне цивилизованного, века. Они, захватывая власть и пользуясь ею, не церемонились ни с врагами, ни со вчерашними союзниками, ни друг с другом.
Первым, кого пощадили, стал разоблачитель культа личности Н. С. Хрущёв. На дворе стоял 1964 год, записывать Никиту Сергеевича в шпионы было уж как-то неловко, вот и отправили на пенсию, не дав достроить коммунизм, до которого, по его прогнозам, оставалось менее двадцати лет.
Однако методов своих верные ленинцы не поменяли и вплоть до следующей, третьей великой смуты, отлучившей их от власти, применяли к инакомыслящим более изощрённые, растянутые во времени убийства: изгнание, крушение социальной жизни, психушка.
Василия Шуйского великодушие Лжедмитрия напугало больше, чем опала, и он снова начал плести интриги. Таяло расположение к своему ставленнику у короля Сигизмунда вкупе с католическим священством. Дмитрий вдруг наотрез отказался удовлетворять территориальные притязания поляков и вводить на Руси католицизм. Всё-таки человек-то он был точно русский.
Самозванец умел легко решать вопросы, над которыми в Боярской думе полагалось подолгу зависать, был совершенно лишён сановной спеси. Это способствовало росту популярности в народе, но значительно мешало боярам, в среде которых росло раздражение непривычным царём.
Пустота вокруг Дмитрия ширилась. Заполнить её должен был приезд Марины Мнишек. Так казалось царю. Но он планировал, а Бог до поры до времени скрывал улыбку.
Не заговорщики бояре, не интриганы иезуиты погубили нового царя. Погибель таилась в возлюбленной. И не успевшую начаться династию нового «Рюриковича», и правящую три столетия династию Романовых сгубили бабы. Спесивая полька принадлежала к той породе женщин, которые умеют любить только себя. Любовь эта ослепляла её и без того не сильный рассудок. Любовь ослепила и Самозванца. Он действительно воспринимал благосклонность красавицы как подарок, ниспосланный свыше. Марина же, одаривая собой влюблённого, позаботилась о том, чтобы подарок, то бишь себя, подороже упаковать.
Ещё до начала похода, во время помолвки, она озаботилась составлением «брачного контракта», потребовав от Лжедмитрия расписку о том, что он уступит ей в полное владение Великий Новгород и Псков. Города должны были остаться за Мариной даже в случае её бездетности. Это не считая денег, драгоценностей и права оставаться в католической вере. Расчётливая полька предусмотрела даже возможность выйти замуж за другого, если проект «Царевич Дмитрий» провалится.
Кортеж Марины Мнишек вступил в Россию в самый разгар весенней распутицы 1606 года. В этот период дороги в российской глубинке и сегодня остаются малопроходимыми, можно представить, каково было передвигаться поезду кандидатки в царицы.
Чёрный люд готов был костьми ложиться под вязнущие в грязи колёса польского каравана. Мужики с энтузиазмом клали гати и наводили переправы – ещё бы! – ведь они мостили путь для невесты законного царя!
Карета и платье Марины были унизаны золотом и жемчугами. Роскошно и пьяно выглядела свита из польских и малорусских панов, в которой, как пятна на Солнце, чернели сутаны иезуитов. Европа шла на Русь, а Русь распахивала ей объятия!
Триумфальное путешествие разжигало аппетиты Марины. Вступив в Москву, она потребовала от жениха, чтобы одновременно со свадьбой состоялось её коронование как русской царицы. Таким образом, честолюбивая полька стала первой женщиной, коронованной на русский престол, и единственной, которая стала царицей при живом муже, обретая с ним равные права. Вот такая семейка собиралась править Россией! Что из этого дуумвирата могло получиться, не узнает никто и никогда.
Если немка София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, вступив на российский престол, стала более русской, чем многие русские, и по праву вошла в историю как Екатерина Великая, то безоглядно рванувшая к трону полька своим открытым пренебрежением русскими обычаями и нравами в короткое время сделала всё, чтобы благосклонность к ней сменилась активной неприязнью. Марина остановилась в Вознесенском монастыре, где была тепло принята Марией Нагой. Мать царевича Дмитрия тоже признала в Самозванце сына! Что заставило женщину, постриженную после кончины сына в монахини, гневить Бога лжесвидетельством? Скорее всего, так исходила из неё неутолённая ненависть к Годуновым.
Марина с первых же дней пребывания в Москве начала демонстрировать свою стервозность. Из стен монастыря, где, как предполагал народ, будущая государыня постигает суть обрядов православной церкви, неслась светская музыка, которой ублажали себя полячка, готовая стать русской царицей, и окружавшие её шляхтянки.
Мнишек кривила рот от русской пищи, и царь прислал её повара-поляка. Лжедмитрий унизительно умолял невесту потерпеть и хотя бы внешне соблюдать обряды православия. И в то же время сам назначил свадьбу на четверг, восьмое мая, хотя на Руси не принято венчаться накануне постных дней. Но царь спешил к обладанию вожделенной добычей.
Марина попыталась смирить свой нрав, но даже на один день не получилось. На свадьбу она облачилась в русское платье с длинными рукавами, а вот волосы убрала на польский манер. В Успенском соборе, где проходило венчание, во время целования икон новоявленная царица и сопровождавшие её польки стали целовать изображения святых в уста! Шалили девки.
А тут ещё втесавшийся в свадебный поезд ксендз по окончании обряда венчания закатил долгую проповедь на латыни. И чего сунулся? Во все времена в идеологи шло немало никчёмных идиотов с завышенной самооценкой.
С грехом пополам, в истинном понимании этих слов, обряд венчания завершился. Началось свадебное гуляние, растянувшееся на неделю. Гудели роскошные пиры с невиданными на Руси танцами под неслыханную музыку.
По русскому обычаю нужна была драка. И драка будет, причём самая громкая их тех, что когда-либо случались на русских свадьбах.
Добившись своего: Самозванец – Марины, а Марина – короны, оба впали в абсолютное легкомыслие. Между тем по Москве поползли вредные для них слухи, усиленно распускаемые боярской оппозицией во главе с Василием Шуйским.
Говорили страшное: будто бы на свадебном пиру пищу принимают с чёртовых рогатин. Поляки просто привезли в Москву незнакомые ей доселе вилки.
Слухами же утверждалось, что ни царь с царицей, ни гости их ни разу не были в бане! Европа в те времена действительно не мылась. Сейчас там с личной гигиеной всё в порядке, но в отношении к России запашок остался.
16 мая молодожёнов разбудили гул набата, многоголосый ор и треск выстрелов. Это заговорщики с криком: «Поляки бьют бояр и государя!» – повели народ на Кремль, решив под шумок расправиться с Лжедмитрием.
Толпа охоча до эпатажных зрелищ. Зная об этом, Ленин влезал на броневик, Ельцин – на танк. Василий Шуйский в сваре не участвовал, но на имидж тоже работал: гарцевал по Красной площади на коне, держа в одной руке меч, в другой распятие, чему ничуть не мешало не единожды свершённое им отступничество от клятв, даваемых на кресте.
Царь, правивший без году неделю, бросился за помощью к стрельцам, но был выдан мятежникам и убит. Толпа беспощадна к проигравшим. Тело Лжедмитрия, как и его предшественника на престоле Фёдора Годунова, за «срамные уды» вытащили на лобное место, туда, где немногим ранее стояла плаха для помилованного им Шуйского.
Свадебные мероприятия сменились не менее увлекательным зрелищем. Три дня охочий до забавы народ состязался в изуверстве над обезображенным телом вчерашнего кумира. Припомнили и то, что отличавшийся весёлым нравом царь узаконил скоморошество – художественную самодеятельность того времени: в рот ему воткнули дудку, а в руки вставили волынку. Исчерпав глумливую фантазию, Лжедмитрия закопали на кладбище для тогдашних бомжей.
Но были москвичи, искренне оплакивающие недолгого царя. Это из их среды пошли легенды о чудесных знамениях, связанных с прахом убиенного. Ухвативший долгожданную корону Шуйский, желая пересуды прекратить, приказал тело от земли отлучить, сжечь, а пеплом зарядить пушку и выстрелить в ту сторону, откуда Самозванец пришёл, – в направлении Польши. Чуть к власти прикоснулся, как тотчас же вернулся.
К слову, Василий Иванович Шуйский, по сути, был самым самозваным из всех предшествующих царей, при которых он служил и активно пакостничал. В отличие от Бориса Годунова и Лжедмитрия, настаивавших на народном признании их права на престол, Шуйский не рискнул пройти через процедуру избрания Земским собором, поосторожничал.
В ночь погрома, которым так неожиданно закончилась её свадьба, Марина, скрываясь от гнева толпы, бросилась в покои к своим придворным дамам. Все шляхтичи куда-то подевались. Лишь юный паж Матвей Осмольский, тайный вздыхатель царицы, встал с обнажённой саблею в дверях, в которые рвалась чернь, искавшая ненавистную еретичку. Молодой храбрец был тут же сражён пулей. Но пока бунтовщики с увлечением кромсали алебардами и саблями его тело, невысокая и хрупкая Марина, проявив завидную находчивость, успела юркнуть под юбку своей охмистрины панны Гербуртовой. Спасая жизнь, высокомерная полячка не погнушалась отсидеться возле чужой задницы.
Тем временем подоспели бояре во главе с Михаилом Татищевым, прадедом знаменитого государственного деятеля и энциклопедиста, основавшего ряд уральских заводов. В их числе был и Егошихинский, из которого выросла Пермь.
Бояре спасли Марину. Они уже исполнили то, ради чего замутили бунт, – прикончили царя. Мнишек могла сгодиться для торга с поляками. Чернь, отыгравшая свою роль, была изгнана из царских покоев.
Наступившее утро 17 мая стало для первой русской коронованной царицы началом неминуемого пути вниз, но она ещё этого не понимала. Впрочем, так никогда и не поняла.
В то утро Марина понесла двойную утрату: потеряла жениха, который так и не успел в полной мере стать супругом, и поляка-повара, который тоже был убит в ночной заварухе. Марина и сама себе не смогла бы сказать, какая из этих утрат огорчила её больше: ведь со смертью супруга корона русской царицы, как казалось польке, осталась при ней, а утрата повара была невосполнимой. Впрочем, предупредительный Шуйский, зная о нелюбви Марины к русской пище, распорядился подавать ей кушанья из дома, где поселился отец незадачливой царицы Ежи Мнишек.
Папа царицы – вот кто скорбел более других. Если дочь его обуял бес властолюбия, то бывший сандомирский воевода всю жизнь испытывал одну, но пламенную страсть: он любил деньги.
Наступив на горло собственной скаредности, Ежи Мнишек немало вложился в поход потенциального зятя, и вот, когда потраченный капитал начал отбиваться: жених стал-таки русским царём и уже успел щедро осыпать тестя златом и драгоценными камнями – всё рухнуло.
Пройдёт пять лет, и предприимчивый поляк испытает сладость возмездия, когда публично сдаст королю Сигизмунду III и сейму пленённого царя Василия Шуйского – виновника своих несчастий. Но и для самого Ежи Мнишека пять лет треволнений, в течение которых он, беззастенчиво торгуя дочерью, судорожно пытался вернуть хоть часть выпавших однажды славы и богатства, не прошли даром. Дочь ещё при жизни потерял окончательно, а вскоре и сам покинул бренный мир, представ перед тем, с кем торг неуместен.
А пока москвичи забрали у Мнишека десять тысяч рублей деньгами и весь его обоз, включая две телеги с венгерским токаем, который так и не допили на свадьбе.
Марину же, в счёт тех 55 000 рублей, что жених послал ей в Польшу с дьяком Афанасием Власьевым, проводившим заочный обряд обручения, обобрали дочиста, словно в насмешку прислав ей на другой день пустые сундуки.
Из венчанной на царство государыни всего русского народа она вмиг обратилась в никому не нужную вдову Самозванца.
Наступило время короткого перемирия с Польшей, и Марину вместе с отцом решено было отправить в родные пенаты. Брать-то с них уже было нечего.
Русью в полной мере овладела Смута – в разных концах молодой страны начали появляться новоявленные «цесаревичи Димитрии». Наиболее прочно вошёл в историю тот, который после ряда успешных побед над войском Шуйского встал лагерем в селе Тушино, всего лишь в восьми верстах от Москвы, за что и получил прозвище Тушинского вора.
Общеизвестно утверждение Гегеля, запущенное в обиход Карлом Марксом, о том, что история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Явление дублёра Лжедмитрия народу действительно очень смахивало на фарс, только стоил он немалой крови.
Дублёр Самозванца объявился в городе Стародуб, где квартировалась панская вольница, желавшая реванша после московской резни. Получив задание объявиться царём, теперь избежавшим смерти во время майского погрома, новый претендент, не обладая ни способностями, ни отвагой первого Самозванца, решил поначалу закатить пробный шар: назвался дядею царевича Нагим.
Тем временем его подельник – подьячий Алексей Рукин – более резво приступил к исполнению возложенного поручения: активно повёл по городам и весям агитацию за чудесно спасшегося царя. Недоверчивые жители Путивля отправили с ним в Стародуб делегацию, которая должна была воочию узреть государя. Когда выборные во главе с оробевшим Рукиным предстали перед самозванцем, тот понял, что сейчас, возможно, начнут бить, и на вопрос: «Где Дмитрий?» – пролепетал: «Не знаю».
Бить начали, но не его. Извиваясь под ударами кнута, Рукин завизжал, тыча пальцем в побелевшего от страха самозванца:
– Вот, вот он Димитрий Иванович! А не объявил себя сразу, не ведая, рады ли вы будете его приходу!
На самозванца накатила отвага кошки, загнанной в угол. Срывающимся голосом он прокричал:
– Да, я государь! А вы мои неразумные чада.
Он замахнулся на толпу палкой, на которую опирался.
И надо же, сработало: народ повалился в ноги новоявленному царю.
Главный парадокс всей истории с Лжедмитрием II заключался в том, что он назваться-то назвался, но, в отличие от первого Самозванца, власти не желал и всячески от неё отбивался. Но шляхте был нужен повод для нового похода, а русских взбодрила новость о возвращении правильного царя. Войско Лжедмитрия II росло не по дням, а по часам, и русские города один за другим открывали перед ним ворота.
Прослышав о том, что внедрение дублёра прошло удачно, повалило на Русь польское панство, каждый со своим вооружённым отрядом. Среди искателей приключений и наживы был и Адам Вишневецкий, у которого ранее служил Лжедмитрий I, – красноречивое подтверждение того, что поляки ничуть не заблуждались насчёт личности второго самозванца. Впрочем, и первого тоже.
Вставший во главе шляхетской вольницы князь Рожинский так откровенно глумился над русским «царём», что тот дважды совершал побег из собственного лагеря, ставшего для него концентрационным. Оба раза был пойман и возвращён. Тогда самозванец ушёл в ту глухую оборону, в которую, как правило, отступают при неудачах русские, – запой. Но и это у него плохо получилось – новый царь демонстрировал универсальную бездарность.
Когда самозванец встал под Москвой, потянулась к нему российская знать, кто с обидой, кто с нереализованными амбициями. Одним из первых прибыл профессиональный возмутитель спокойствия князь Дмитрий Трубецкой. Позже Дмитрий Тимофеевич с атаманом Заруцким и воеводой Ляпуновым возглавят Первое русское ополчение, рассорятся, и соратники предадут Ляпунова. Заруцкий сделает ставку на Марину Мнишек, а Трубецкой прозорливо примкнёт к ополчению Минина и Пожарского, получит титул «Спаситель Отечества» и на Земском соборе 1613 года станет одним из претендентов на царский престол. Лагерь самозванца, выступающего под вторым номером, являл собой сброд, в котором и речи не было о единстве. Разгульное пьянство, обостряющее зависть и соперничество, вело к постоянным ссорам. Усугубляли раздрай стекавшиеся в лагерь интернациональные отряды женщин с пониженной социальной ответственностью, дабы ублажать конных дальнобойщиков. Профессиональные вояки и жрицы коммерческой любви, в сущности, занимались одним и тем же делом: и те и другие торговали телом.
Среди шляхтичей, желавших погорячее, вошло в обиход похищение русских молодиц, дававшее двойной доход: утоление похоти и выкуп, привозимый униженными родственниками. Были среди юных дев такие, кто, познав недоступную в прежней жизни сладость распутства, вновь сбегали из семьи в развесёлый лагерь. Но были и те, кто от перенесённого стыда накладывал на себя руки.
Тем временем, соблюдая условия перемирия с Польшей, царь Василий отпустил Мнишека с дочерью домой, взяв с них клятвенное обещание, что отец никогда не признает во втором самозванце зятя, а дочь позабудет о претензиях на царский престол. Нашёл кому верить! Василий Иванович по себе должен был знать цену подобным обетам, когда на кону стоят власть и деньги.
Уже с дороги незадачливый царский тесть начал тайно посылать королю письма, в которых убеждал Сигизмунда в том, что царь Дмитрий действительно спасся и призывал поляков оказать ему вооружённую поддержку.
Одновременно старый пройдоха направил гонца в Тушинский лагерь с известием, что царица готова к воссоединению с законным супругом. Самому новоявленному Дмитрию известие это радости не прибавило, а вот окружавшая его шляхта взбодрилась: Рожинский послал в погоню за Мариной небольшое войско под предводительством отважного буяна Сапеги.
Сборы отряда сопровождались нарочитой шумихой: следовало как можно шире продемонстрировать готовность царя встретиться с супругой, что подтверждало его легитимность. Вместе с тем гетман, не будучи полностью уверенным в согласии Марины на участие в этой чёрной комедии, негласно порекомендовал Яну Сапеге не торопиться с исполнением приказа.
Но и Ежи Мнишек, перекрестивший себя в Юрия Ивановича, валял дурака, придумывая для сопровождавшего их с дочерью русского конвоя в тысячу ратников различные поводы, чтобы замедлить продвижение к границе.
Петух не спешил догонять, но и курица не торопилась убегать.
Юрий Мнишек переиграл тушинскую погоню: она таки настигла «царский поезд» практически у самой границы. Сопровождавшее Марину воинство не было расположено к тому, чтобы защищать её непонятно от кого и неведомо для чего, потому охотно расступилось.
Ян Сапега, скрывая улыбку, уверял Марину в том, что царь Дмитрий действительно спасся и ждет её в Тушино. Всё знающий папа Мнишек помалкивал. Поначалу Марина и верно поверила, что возвращается к законному супругу.
Но нашёлся среди рыцарей Сапеги юный шляхтич, который, видя радость царицы, решил спасти её от горечи разочарования – открыть правду. Обескураженная Марина тут же завыла в голос, чем и выдала прекраснодушного правдолюба. Раздосадованные шляхтичи повязали товарища и увезли в лагерь самозванца. Тот, не от жестокости (не было в нём пороху даже на жестокость), а от страха быть обличённым, приказал посадить молодого дворянина на кол.
Знал бы несчастный шляхтич, сколь напрасной была его жертва! В то время, когда он принимал мученическую смерть, папаша Мнишек, а вслед за ним и успокоившаяся дочурка уже вели с представителями самозванца торг, выгадывая дивиденды, которые должно было принести им очередное лжесвидетельство.
Служители истины – как правило, удел их печален. Но они были всегда и, слава Богу, остаются сегодня, чтобы поддерживать человеческое в человеках.
Таковым был воевода Пётр Басманов, сын известного фаворита Ивана Грозного. Пётр Фёдорович поначалу выступил против Лжедмитрия I, но, уверовав в истинность царевича, стал его верным сподвижником. В роковую майскую ночь лишь один Басманов отважился встать на защиту того, кого принял за настоящего царя. У Лжедмитрия выбора не было, у Петра Басманова выбор был. Пётр Фёдорович стойко принял столь же мученическую, сколь и зряшную с точки зрения здравого смысла смерть, и изуродованное тело его было брошено на позорном месте рядом с телом самозванца.
Когда душа первого ополчения Прокопий Ляпунов, преданный Заруцким и Трубецким, стоял один перед казацким кругом, приведённым в ярость клеветой, изложенной в подмётном письме, тоже нашёлся человек, не убоявшийся рискнуть собой в защиту справедливости. Иван Ржевский, чей потомок в звании поручика прочно войдёт в анекдоты, был настроен к Ляпунову враждебно, но, поверив в его искренность, с криком: «Прокопий не виноват!» – встал плечом к плечу с обречённым человеком и вместе с ним принял смерть.
29 марта 2010 года на двух станциях московского метрополитена прогремели взрывы. Нашлось немало добровольцев, готовых бескорыстно вывозить раненых на своих автомобилях. Но их, как ненужных конкурентов, начали избивать таксисты, враз взвинтившие цены на свои услуги.
Такие противостояния неподвластны времени, они были и будут. Главное, сохранять равновесие.
Прознав о приближении кортежа «супруги», самозванец и в этот раз проявил малодушие: сказался больным. А может быть, ему было приказано не высовываться, пока не прояснится обстановка.
Царица встала лагерем невдалеке от Тушино, на встречу с дублёром супруга отправился её папа. Впрочем, самозванец на этих переговорах исполнял роль статиста. Торг с сандомирским воеводой, возведённым в звание гетмана Лжедмитрием I, вёл князь Рожинский, самочинно ставший гетманом при Лжедмитрии II. Торговались три дня.
Наконец сошлись на том, что честь пана Мнишека (а именно ею гетман должен был поклясться в том, что сидевший тут же зять его – подлинный) стоит миллион злотых, к чему прилагались северские земли с четырнадцатью городами. Выгодно сторговав свою честь, папа не забыл и о чести дочурки.
Юрий Мнишек особо оговорил, что новый Лжедмитрий может начать полноценную брачную жизнь с супругой только после официального восхождения на московский трон и выплаты чадолюбящему папаше всей суммы взноса за пользование дочерью.
Стороны ударили по рукам, и в ближайшую же ночь в лагере царицы состоялась тайная презентация новоявленного супруга. Конечно, и первого Лжедмитрия трудно было назвать красавцем, но недостатки внешности его компенсировало обаяние незаурядной личности. Новый самозванец отталкивал исходящим от него ощущением ущербности. Как только он покинул шатёр, Марина разрыдалась от досады на судьбу и жалости к себе.
Вновь на авансцену вышло окружение. Старый Мнишек будил в дочери честолюбивые замыслы, гетман Рожинский, сам лишь пару лет назад принявший католичество (с детства он рос в православии), напоминал о Родине и вере. Ему вторил появившийся, как чёрт из табакерки, инквизитор, сопровождавший Марину во время триумфального въезда в Россию.
Впрочем, спектакль разыгрывался без особого энтузиазма. Все, и прежде всего сама Марина, знали, что она согласится.
Торжественный въезд царицы в Тушино был обставлен с большой помпой: празднично разодетая свита, разукрашенная карета, пёстрая толпа зрителей. Ян Сапега с развевающимся знаменем в руке встал во главе почётного эскорта кавалеристов. Из шатра выплыла Марина, блистающая драгоценностями, присланными загодя вновь обретённым супругом.
– Досточтимая пани, – богатырь склонился к луке седла в почтительном поклоне, но глаза его озорно блеснули, – потрудимся ещё раз своими чреслами во славу католичества и Польши!
От хохота Сапега чуть не свалился с коня.
В глазах Марины блеснула злоба, но она сумела её погасить. С надменно горделивым видом, который умеют напускать на себя падшие женщины, царица прошла к карете.
Царица великолепно разыграла сцену воссоединения с горячо любимым мужем: одарила самозванца взором, выражающим кротость и смирение, даже скатила на щёку слезу. Стараясь не причинить ущерба дорогому наряду, царица сделала вид, что готова припасть к ногам повелителя.
Тушинский лагерь облегчённо вздохнул: царь и верно настоящий – царицу не обманешь!
Негодовал один человек – Юрий Мнишек, получивший пока лишь треть оговорённой суммы. Помня о печальном опыте самозванства первого зятя, гетман здраво рассудил, что лучше гарантированная синица в руке, чем призрачный журавль в небе, и поспешил отбыть на родину с тем, что удалось урвать. С той поры Мнишек начал воспринимать дочь как отрезанный ломоть и совершенно потерял к ней интерес.
Поначалу признание Мариною в тушинском самозванце своего мужа благотворно повлияло на его имидж. Города охотно открывали ворота правильному царю.
Дело портили поляки. Откровенное пренебрежение к «русскому быдлу», глумление над простыми людьми, осквернение храмов – всё это высекало искорки народного гнева, ставшие предвестницами большого пожара.
Подступила к тушинцам опасность и с тыла. Король Сигизмунд посчитал, что настало время для того, чтобы то ли самому взойти на русский престол, то ли посадить на него сына. Осенью 1609 года польские войска подошли к Смоленску, а король направил в лагерь тушинцев агитаторов – призывать польские отряды на свою сторону.
Гордые паны колебались: с одной стороны, Сигизмунд вроде как более свой – польский, с другой – сдерживали присяга, данная тушинскому самозванцу, и двадцать миллионов злотых, обещанных им после взятия Москвы.
Вот если бы Сигизмунд дал те же деньги, тогда конечно – можно постоять за Родину!
Патриотизм русской знати, кучковавшейся подле самозванца, был примерно на том же уровне. С чьей помощью удастся упрочить своё положение, существенной роли не играло. Мысли бояр тоже начали склоняться в сторону официальной Польши.
Почуяв, что дела и вовсе плохи, тушинский бедолага тайно бежал из лагеря, без колебания покинув глубоко беременную жену. Её-то он больше всего и боялся!
Самозванец прихватил с собой лишь одного человека – придворного шута Кошелева. Видимо, только в нём Лжедмитрий II был полностью уверен. Их бегство стало своеобразной перекличкой с написанной в те же годы трагедией Шекспира «Король Лир», с той лишь разницей, что там побрели скитаться король и шут, а здесь – два шута.
Польские эмиссары подступали к Марине, советуя отказаться от честолюбивых помыслов, и от лица короля предложили ей в качестве отступного один из уделов Московского государства.
Но Марина, чем безнадёжнее становилось её положение, тем жёстче закусывала удила! Она бросила в лицо польскому послу гордую фразу:
– Кого Бог хоть раз осиял блеском царского величия, тот не потеряет этого блеска никогда и будет сиять, как солнце, даже когда его закрывают на время тяжёлые тучи!
Это «солнышко» искренне подзабыло, что на нём несмываемые пятна оставила череда лжесвидетельств и клятвопреступлений. Кто из обуянных бесом властолюбия склонен вспоминать о подобных мелочах?
Польскому королю русская царица отправила письмо, в котором писала:
«Всё отняла у меня судьба: остались только справедливость и право на московский престол, обеспеченное коронацией, утверждённое признанием за мною титула московской царицы, укреплённое двойною присягою всех сословий Московского государства. Я уверена, что Ваше Величество, по мудрости своей, щедро вознаградите и меня, и моё семейство, которое достигало этой цели с потерею прав и большими издержками, а это неминуемо будет важною причиною к возвращению мне моего государства в союзе с Вашим Королевским Величеством».
О как! Возвращение моего государства в союзе с Вашим Королевским Величеством. И ведь формально Марина Мнишек была права. Правда, предприимчивая полячка ухитрилась взойти на русский престол, минуя обряд крещения, но к тому времени она уже превратилась в образцовую ревнительницу православной веры и, прибегнув к убедительным русским выражениям, послала подальше круживших подле неё инквизиторов.
Бегство самозванца ускорило разложение тушинского войска.
Именно в это время русские бояре снарядили в Польшу посольство во главе с митрополитом Филаретом, чтобы просить Сигизмунда направить на русский трон сына его Владислава. К чести русской знати следует сказать, что, на какие бы уступки она ни шла, торгуя Родиной, одно из условий оставалось непоколебимым: претендент на царство непременно должен был принять православную веру. Именно этот пункт стал камнем преткновения в переговорах Филарета с Сигизмундом.
Осевший в Калуге самозванец, видимо, окончательно одурев от ужаса, начал рассылать по городам и весям письма с призывами бить поляков и изменивших ему бояр.
Тем временем тушинская шляхта погрязла в междоусобных раздорах и кровавых стычках со вчерашними союзниками – казаками. В результате одной из них нелепо погиб Роман Рожинский: поскользнувшись на лестнице русского храма, зашиб бок и вскорости умер. Вот она – кара за надругательства над православными святынями!
Марина почувствовала, что в этом хаосе становится никому не нужной. Но она принадлежала к той категории женщин, которым опасность только придаёт силу. Буйством честолюбивых претензий, волей к их осуществлению и удивительной способностью к мимикрии отличаются все фурии, ввязавшиеся в политические баталии.
Марина с распущенными волосами металась по лагерю, демонстративно не скрывая свою беременность. Она напоминала воинству о верности присяге, взывала к его чести, не скупилась на обещание даров, которыми осыплет тех, кто поможет ей вернуть престол. И сработало. Часть польских рыцарей и несколько казацких атаманов пошли за нею. Путь царицы лежал в Калугу, где окопался её незадачливый супруг, которому суждено было уразуметь, что от таких женщин не уходят, если они сами не отпустят.
Польская вольница вместо погибшего Рожинского избрала гетманом Сапегу. Склонный к авантюрам, новый гетман начал свою игру, но до поры до времени прикрываясь именем царя Дмитрия Ивановича. Ян Сапега повёл свои отряды на Москву, а с другой стороны к ней подступали регулярные польские войска под предводительством гетмана Жолкевского.
Два гетмана вели к Москве две польские армии, правда, цели у них были разные: каждая хотела посадить на русский трон своего царя.
До драки дело не дошло. Начались переговоры, традиционно сопровождаемые торгом. Но тут судьба выбила из рук Сапеги главный козырь: из Калуги пришла весть, что и этот «царь Дмитрий» убит.
Человек, начавший, правда, не по своей воле, такую сложную заваруху, сам пал жертвой многоходовой интриги. Касимовский хан Ураз-Мухаммед, служивший поначалу самозванцу, решил переметнуться к полякам и поехал в Калугу убеждать присоединиться к нему сына. Но сын, искренне преданный Лжедмитрию, рассказал тому о двурушничестве отца.
Самозванец пригласил хана на охоту – поднимать из берлоги медведя. И вот там-то, в лесу, впервые совершил решительный поступок. Правда, сзади, но всё-таки сам вонзил рогатину в двуличного хана.
Тело двое приближённых царя, одним из которых был верный шут Кошелев, бросили в Оку.
Вернувшись в Калугу, самозванец сообщил, что это хан предпринял попытку убить его, но после неудачи предпочел исчезнуть. Версия была шита белыми нитками – более неподходящей ситуации для осуществления коварного плана со стороны Ураз-Мухаммеда трудно было придумать: один, в лесу, при свидетелях со стороны Лжедмитрия. Но все сделали вид, что поверили в эту нелепицу. Все, кроме одного.
Крещёный татарин Пётр Урусов, служивший при самозванце начальником стражи, был другом касимовского хана. Именно он демонстративно дал понять Лжедмитрию, что ничуть не поверил в выдвинутую им версию.
Самозванец заточил своего охранника в темницу, но не прошло и двух месяцев, как выпустил на волю, вернув ему доверие и должность. И сделал это по настоянию Марины!
То ли царице осточертел никчёмный муж, то ли самому самозванцу вконец опостылела не своя жизнь, только в один из декабрьских дней горе-государь, вновь впавший в беспробудное пьянство, выехал на конную прогулку в сопровождении стражи, состоящей из татар под предводительством Петра Урусова.
Летя сквозь белесую мглу на бешеной тройке, самозванец постоянно требовал вина, подносил которое верный Кошелев. Когда лжегосударь опрокидывал очередную чарку, к саням подскакал Урусов. Пётр взмахнул саблей, и рука самозванца отлетела прочь, забрызгивая Кошелева кровью и вином.
Младший брат Урусова спрыгнул с коня в сани и для верности отсек самозванцу голову.
Шута, однако, не тронули. Он и доставил в Калугу обезображенное тело самозванца.
После кончины Лжедмитрия II в его вещах обнаружили талмуд, а также письма и заметки, написанные на иврите, что добавляет аргументы в копилку тех прекраснодушных россиян, которые в любой смуте стремятся отыскать еврейский след.
Марина легко справилась с ролью безутешной вдовы. Нервничать ей было нельзя, да и не хотелось: со дня на день ожидалось рождение ребёнка. Хотя вряд ли сама царица могла с уверенностью назвать имя отца. Единственное, в чём Марина была убеждена, – ожидается приход на свет законного наследника русского престола.
Наступил момент, когда царице стала на руку смерть мужа. Тело самозванца было выставлено в холодной церкви на всеобщее обозрение, и потянулся в Калугу русский люд, желая взглянуть на царские останки. Особый интерес вызывала отрубленная голова самозванца.
Так же точно тремя веками позже устремится со всех концов России в Москву народ, чтобы посмотреть на тело Ленина.
Буквально в те же дни царица благополучно разрешилась от бремени младенцем, наречённым Иваном Дмитриевичем.
Рядом с Мариной тотчас появился новый гарант воплощения её честолюбивых помыслов – донской атаман Иван Заруцкий. При первом самозванце царица играла подчинённую роль, вторым откровенно помыкала, а с Иваном Мартыновичем они сошлись на равных.
Поначалу лихой атаман связывал свои перспективы с тушинским Лжедмитрием, но после его гибели обратил внимание на Марину. Заруцкий давно заточил в монастырь взятую по молодости из простонародья жену и теперь рассматривал возможность двух вариантов: стать опекуном при малолетнем царевиче или же, склонив царицу к браку, самому взойти на русский престол. Даром что вышел из самых казачьих низов, зато как мужик выгодно отличался от обоих самозванцев.
Так, с третьим мужчиной в жизни предприимчивой польки начался третий, завершающий акт её драмы.
Если Заруцкий сделал ставку на Марину Мнишек, то гетман Сапега, окончательно в ней разочаровавшись, встал под знамёна королевского войска.
Подбадриваемые боярами, москвичи присягнули польскому царевичу Владиславу и сами открыли ворота полякам. Отчётливо просматривался вариант объединения в единую унию восточных славян, поляков и примкнувших к ним литовцев.
У зарождающейся империи в идеологическом арсенале был наготове и символ – Грюнвальд, но не случилось. Задолго до ополчения Минина и Пожарского поляков победили сами поляки.
Измученный поборами и унижениями, растерянный от вереницы постоянно оживающих «царевичей Дмитриев», русский люд всё внимательнее прислушивался к призывам второго ополчения: стоять твёрдо за православную веру, очистить родную землю от поляков и литовцев и верно служить царю, коего сами же изберут всей землёю.
Собранное со всей Руси войско Пожарского и Минина взяло Москву в осаду. После того как ополчение объединилось с казаками долго торговавшегося Трубецкого и отбило попытку гетмана Ходкевича прорваться в город с обозом продовольствия, участь осаждённых была предрешена.
Однако на первое предложение сдаться поляки, помня о том, как безропотно москвичи впустили их в город, ответили высокомерно:
«Московский народ самый подлейший в свете и по храбрости подобен ослам или суркам… впредь не пишите нам ваших московских глупостей, а лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей».
Беспредельную шляхетскую гордыню подпитывала столь же беспредельная жадность: сидя на грудах награбленных сокровищ, поляки вовсе не хотели с ними расставаться.
Однако вместо долгожданной помощи с наступлением осенних холодов в Кремль вошёл совсем нежданный голод. Чтобы избавиться от лишних ртов, поляки выпнули из Кремля русских бояр, сделавших ставку на польского королевича Владислава. С ними ушла жена Филарета Романова Марфа с сыном Михаилом.
Избавившись от лишних ртов, поляки получили лишь отсрочку неизбежного. Вся живность в городе была съедена. Когда первый снежок засыпал травку и коренья, осаждённые лишились и вегетарианской пищи. Начался мор. Исчерпав общепринятую пищу, поляки обратили внимание на духовную литературу. Они вываривали кожаные переплёты книг и съедали. В польских желудках безвозвратно исчезла знаменитая библиотека, собранная Иваном Грозным.
Книг на всех не хватило, и гордое шляхетство перешло на человечину. Первыми забили русских заключённых и пленных. Но на их костях давно уже висела только сморщенная кожа. Вот когда осаждённые пожалели об отпущенных ими упитанных русских боярах. Так польская недальновидность избавила от перспективы быть съеденным интервентами будущего первого русского царя новой династии.
Съели гулящих девок, опрометчиво оставшихся при войске. Принялись за слуг. В городе началась охота на людей. Их убивали, засаливали впрок и… торговали малосольной человечиной. Воистину, глупость и жадность – две неотступные спутницы рода человеческого.
Когда казаки Трубецкого, в отличие от ополченцев Пожарского не желавшие идти ни на какие уступки осаждённым, выбили поляков из Китай-города, те, наконец, решились на переговоры о сдаче Москвы.
Соглашением о капитуляции интервентам была гарантирована жизнь, если они сдадут в казну все награбленные ценности.
Однако не все русские были готовы блюсти условия капитуляции. Те осаждённые, что сдались Трубецкому, вопреки договору, были полностью перебиты казаками. Не поздоровилось и многим из тех, кто сдавался дружине Пожарского, хотя князь изо всех сил старался соблюсти условия капитуляции.
К слову, поляки тоже нарушили договор. Перед сдачей они всё-таки сумели спрятать часть награбленного в тайных местах, надеясь на скорое возвращение. Не получилось. И тайники русские обнаружили, и реванш сорвался.
Сигизмунд III не захотел мириться с поражением. Он вспомнил, что «семибоярщина» призвала на русский престол его сына Владислава, и сам пошёл на Русь. Но поздновато спохватился.
Русские, ободрённые освобождением Москвы, проявили недюжинную стойкость, а тут ещё подоспел их извечный союзник – зима, и польский король посчитал за благо вернуться восвояси.
Его бы благоразумие да Наполеону с Гитлером!
В феврале 1613 года произошло одно из самых эпохальных событий в истории государства Российского: выборные люди съехались на Земский собор для избрания русского царя.
Бояре усиленно продвигали кандидатуру шведского принца Карла Филиппа, но представители иных сословий, вдоволь хлебнувшие прелести интервенции, настаивали на том, что царь должен быть обязательно русским.
Началась борьба честолюбий: сразу несколько князей через близких им депутатов пытались продвинуть на трон собственные кандидатуры. В воздухе запахло новой смутой.
Тогда выборщики единодушно пришли к единственно правильному решению: избрать на царство Михаила Романова, внучатого племянника первой и единственно любимой жены Ивана Грозного Анастасии, по кровному родству самого близкого из претендентов к династии Рюриковичей.
Примечательно, что и сам юный Михаил Фёдорович не помышлял о царстве, и никто из близких Романовым людей не участвовал в продвижении его кандидатуры. Более того, единственный, кто продолжал настаивать на избрании иноземного принца и резко выступил против кандидатуры Михаила, был… его дядя Иван Никитич, во всеуслышание заявивший, что «князь Михайло Фёдорович млад ещё и не вполне в разуме».
С таким же рвением, тоже в феврале, но 1917 года, дядья другого князя Михаила Романова будут дружно выступать против того, чтобы он занял русский престол.
Примечательность Романовых состоит в том, что они и в самом начале династии не стремились к власти, и в конце её сами активно помогали себя закапывать.
В марте 1613 года делегация выборщиков прибыла в Кострому, чтобы сообщить решение Земского собора инокине Марфе и её сыну. Мать слёзно умоляла Михаила не принимать на себя столь тяжкое бремя. Была, конечно, в этих слезах и доля диктуемой традицией игры, но в целом опасения матери были искренними. Колебался и шестнадцатилетний сын её. Лишь под угрозой отлучения от церкви Михаил решил повиноваться воле народа.
Венчание на царство состоялось 11 июня 1613 года в Успенском соборе Московского кремля. Так начался трёхсотлетний путь Романовых от Ипатьевского монастыря в Костроме к Ипатьевскому дому в Екатеринбурге.
Первые годы государственными делами пыталась управлять мать юного царя Марфа Фёдоровна, а после освобождения в 1619 году из польского плена её супруга бразды правления взвалил на себя патриарх Филарет, принявший наряду с сыном титул Великого государя.
Замкнулась связь времён. А не отведи в 1598 году патриарх Филарет, в ту пору боярин Фёдор Захарьин, руку царя Фёдора Ивановича, протягивающую ему царский скипетр, может быть, и Россию не сотрясла бы великая Смута, и судьба династии сложилась иначе?
Царь был избран, а Марина с Заруцким, активно рассылавшие грамоты, призывающие русский люд присягать малолетнему царевичу Ивану Дмитриевичу, продолжали составлять реальную угрозу молодому Московскому государству продлением братоубийственной войны.
Юный царь вынужден был выслать против смутьянов регулярные войска. Царица Марина с любовником, бывшим казацким атаманом, и малолетним сыном сначала осели в Астрахани, потом бежали вверх по Яику. Их последним пристанищем стал острог на Медвежьем острове в середине реки, с которой, много позже, пойдет кроваво гулять по Руси другой казацкий атаман, объявивший себя царём.
Грязные лохмотья, свалявшиеся волосы и связанные за спиной руки – так выглядела Марина во время своего второго пути в Москву.
Изрядно побегавший Иван Мартынович Заруцкий угомонился, будучи посаженным на кол, а трёхлетнего сына Марины повесили на глазах матери.
Осознавшая, наконец, что потеряно всё, к чему так безудержно стремилась, Марина каталась по земле, изрыгая роду Романовых проклятия, предрекавшие ему не единожды обагриться собственной кровью и завершиться, как и её короткий царский род, смертью ребёнка.
Конец самой Марины подёрнут дымкой неизвестности. По официальной версии, она умерла от тоски в тюремном застенке столицы, властвовать в которой ей так хотелось.
Ходили также слухи, что и сама она была то ли повешена, то ли утоплена. А жители Коломны одну из башен своего кремля прозвали Маринкиной. Якобы именно в ней до кончины своей томилась как ни крути, а первая законная царица всея Руси. Ну, если не брать во внимание подтасовку с царём.
В народных преданиях Марина осталась злой колдуньей, умеющей, при необходимости, обращаться в сороку.
Последняя версия кажется нам наиболее убедительной. Иначе чем объяснить то, что проклятия несостоявшейся царицы сбылись с обескураживающей точностью?
Часть II.
Явление брегета
Глава 1.
Негласный комитет
Пётр Великий, развалив боярскую Русь, начал интенсивно строить Россию дворянскую. Созидатель он был способный. К способным тянутся.
Среди «птенцов гнезда Петрова» был и Василий Никитич Татищев, при усердии которого поднялись на Урале предприятия, давшие начало «заводской цивилизации» с её специфической социальной структурой, обычаями и образом жизни. На смену «государственнику» Татищеву пришли олигархи. Самые крупные из них, Демидовы и Строгановы, создали промышленные империи со своими подданными, армиями, законами.
Среди основанных Василием Татищевым заводов был и Егошихинский железоделательный, вокруг которого по указу Екатерины II полвека спустя поднимется город Пермь. Пермской губернии уготована будет печальная участь стать могилой династии Романовых, прах последнего представителя которой – несостоявшегося императора Михаила II – так и не будет найден. Дворянство пройдёт тот же путь, который прошло боярство – его неизбежно проходят все социальные элиты, «жадною толпой стоящие у трона». Им бы поумнеть, но дорвавшиеся до власти не читают книжек – некогда.
Офицеры-помещики входили в силу, подсаживая на трон нужных им Романовых. Потихоньку дворянство наглело, обрастало жирком телесным и духовным и тем настойчивее цеплялось за свои привилегии, чем меньше оставалось для того оснований.
Так, снискав поначалу заслуженную славу служением Отечеству, сословие это, постепенно деградируя, перестало замечать, что само роет могилу и себе, и опекающей его монархии.
Этот же путь пройдёт в XX веке коммунистическая партия, выродившаяся в номенклатуру. Пройдёт в ускоренном режиме, обусловленном пробелами в образовании.
Наиболее щедро осыпала дворянство привилегиями Екатерина II, обязанная гвардии восхождением на трон и напуганная к тому же пугачёвским бунтом.
Попытавшийся урезать льготы, идущие в ущерб интересам государства, Павел I получил «апоплексический» удар табакеркой в висок. Убийцы вывели перед гвардией его сына. По щекам наследника престола текли слёзы. Гвардия кричала «ура». Александр I по праву снискал в конце своего правления титул Благословенного, а служивое дворянство при нём достигло апогея воинской славы. Однако последовавшее за победоносной войной с Бонапартом самоубийственное восстание декабристов красноречиво продемонстрирует начало разложения дворянского сословия.
Но пока Александр I восходит на престол.
Молодой император был переполнен жаждой преобразований. Но судьба убиенного батюшки склоняла его к осторожности компромиссов. В качестве мыслительного центра юный император создал при себе негласный комитет, тайно собиравшийся ещё при правлении его отца. «Комитетчикам» отводилась та же роль, которую играли при Иване IV Сильвестр и Алексей Адашев.
