Ироды
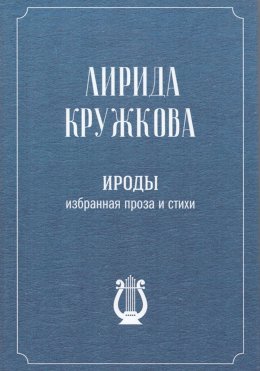
Избранная проза и стихи
Рассказы и очерки
Раз в жизни
Виктор Сергеевич, Витек, как его все называли, высокий суховатый мужик лет пятидесяти, был в хорошем расположении духа. Из-за приближающегося праздника получку дали на целых два дня раньше.
С Лексеичем и Петром, как обычно, зашли в пельменную. Тамарка, стоя за прилавком в лопающемся на ее фигуре белом халате, в одной руке пряча папиросу, а другую прижав к груди, с жаром, хриплым голосом извинялась: “Клянусь, одно “Каберне”! По-деловому привычно выпили и разошлись. Витьку надо было еще ехать на трамвае.
В такие дни он любил ездить, толкаться среди людей, любил цепляться к пассажирам, разговаривал, шутил.
Иногда, когда нарывался на усталого, сердитого человека, начиналась ругня с обоюдными угрозами: “Давай выйдем!” Но пошуметь Витек умел, на любого мог нагнать страху и тут же, чувствуя, что зашел далеко, начинал съезжать с высоких тонов, улыбался, переходил на вежливость, доходящую до задушевного шепота. Все вокруг облегченно вздыхали, обстановка разряжалась.
Но чаще бывало так, что ему подыгрывали, отвечали шуткой, смеялись. Витек очень любил, войдя в вагон, вцепиться в кого-нибудь взглядом, протиснуться ближе и начать громко задавать “каверзные” вопросы. “Ну, вот вы, вы, товарищ, знаете, что такое парсек?” “Товарищ” поначалу недоумевал. Витек с ухмылкой “Да где уж!” оглядывал рядом стоящих и сидящих людей. “Так, – продолжал он, загибая скрюченный палец, – а какова длина великой русской реки Волги? Что? не слышу!”– тут же говорил он, вытянув шею и наклонив голову, как бы вслушиваясь в ответ. “Далее, что обозначает знак диез? А кто мне ответит, из чего делают витамин С?”
Вопросы сыпались без пауз, как будто бы он заранее знал, что никто не ответит. Да и невозможно ответить, надо быть академиком, а они в трамваях не ездят. При этом он победно переводил вопросительный взгляд с одного лица на другое, поворачиваясь в разные стороны, изгибаясь и наклоняясь, стараясь вовлечь в свой опрос как можно больше людей.
Ему улыбались. Кто отшучивался, кто отворачивался. Иногда спрашивали у него: “А сам-то ты знаешь?” Витек резко, по-птичьи оборачивался на голос и, поджав губы, угрожающе с прищуром выискивал “нахала”, пока другая реплика не привлекала его внимания.
Постепенно все выходили. Витек остывал, но все же искал случая “выступить”. И сейчас, увидев старушку, которая направлялась к выходу с большой коробкой, он участливо спросил: “Не уронишь?” И услышав от нее: “Да нет, милок,” – строго резанул: “Не вздумай!”
Но вот и его остановка. Витек вышел. Домой идти не хотелось. Погода солнечная, тепло, хорошо. Невдалеке он увидел большую очередь – то, что ему как раз было нужно – и направился туда. В голове начало немного проясняться.
Постепенно продвигаясь от хвоста к голове очереди, балагуря и смеясь, Витек оказался у прилавка. “По два букета в одни руки! Товару мало!” – закричала продавщица, сунула Витьку два кулька и тут же переключилась на следующего покупателя. Витек постоял немного, машинально расплатился и пошел, не понимая, что он сделал.
Это что же? Он что, цветы, что ли, купил? Машке? Это как же? Его собственной ненавистной змее Машке? Нет, правда? Вот это да-а! Завтра скажи ребятам – не поверят!
Он и сам плохо верил. Чтобы убедиться, что это правда, он развернул кульки и выбросил бумагу. Гвоздики горели в руках. Витек застыл, глядя на них. “Да-а,” – удивляясь, повторял он.
Ноги сами направили его к дому. Он шел, неловко прижимая к себе цветы, не зная, как их ухватить, чтобы со стороны все это выглядело привычным для него делом. По дороге, завидев встречных прохожих, он замедлял шаги, останавливался, как бы закуривал, а сам краем глаза наблюдал за людьми, видят ли они, что он несет? Пусть посмотрят. Он не какой-нибудь там… Вон они, цветики, все шесть, как на подбор! “Ох, Машка, знала бы ты, что я тебе несу! Сейчас, наверное, упадет, дура!” Витек тихо засмеялся.
Тут он увидел, как у подъезда соседнего дома буксовала на льду скорая помощь. Положив осторожно свой букет на снег, Витек стал толкать машину. Ничего не получалось. Водитель пробовал передний, задний ход, машина крутилась, ерзала, подошли еще люди, стали вместе толкать. Витек суетился, покрикивал, давал указания, кому где поднажать. Наконец колеса зацепились, и скорая уехала. Все разошлись.
Оглянувшись, чтобы взять свои цветы, Витек увидел на развороченном снегу красные раздавленные лепестки, торчащие сломанные стебли. От неожиданности он с размаху, как-то боком сел в сугроб, ничего не соображая, смотрел, не отрываясь, на это красное крошево. Но вот он все понял, горестно зажмурился, замотал головой и, обхватив ее руками, неумело заплакал, приговаривая между всхлипами: “Машка… Машка… Родная ты моя… Голубка… Как же это?.. Ведь раз в жизни, Машка… И то…”
1987 год
Ошибка
На остановке сошла только она одна и сразу же почти бегом побежала домой. Было поздно. Улица была тихая и пустынная с редкими светлыми пятнами по обеим сторонам дороги от высоких фонарей, казавшихся Ниночке в этот ночной час таинственными однорукими великанами.
В прежние дежурства, когда она выходила из автобуса, кто-нибудь обязательно выходил с ней, и, хотя она намного обгоняла попутчика, ей было спокойно, что вот сзади человек, который может защитить ее от ночного зла.
А сейчас Ниночка осталась одна и не слышала за спиной ничьих придающих ей уверенности шагов. Она старалась идти тихо, не стучать каблучками.
Улица немного поднималась в гору, вся просматривалась и в полумраке ночи казалась четкой и геометрически правильной: низкие светлые строения школ перемежались с многоэтажными жилыми башнями. В конце улицы, на десятом этаже такой башни спали ее неугомонные дети: Люська и Лёшка.
Ниночка улыбнулась и пошла еще быстрее, не спуская глаз с маленьких ярких точек – светившихся вдалеке окон ее квартиры. Боря, наверное, газету читает, не спит, ждет ее.
Сейчас ей было бы очень хорошо идти рядом с Борисом, опершись на его руку, прижавшись к нему. Хорошо и спокойно. Но Борис ее никогда не встречал. Сам бесстрашный, сильный человек, он не понимал, как это можно бояться? Кого и чего бояться? Да не чего и кого, а просто жутковато идти одной по длинной ночной улице. Даже если подбежит обыкновенная бродячая собака, и то страшно. Душа замрет, и летишь, боясь сделать лишнее движение, чтобы не показаться этой собаке подозрительной.
Улица образовывала узкий коридор, по которому свободно набирал силу ветер и дул Ниночке в лицо. Вот ближе, ближе ее дом. Вот их балкон, окна. И вдруг Ниночка увидела, что на балконе кто-то стоит, как бы вглядывается в темноту. Это же Борька! Дорогой мой! Беспокоится… Ей хотелось крикнуть ему: “Здесь я, Боря! Здесь!” Но, боясь нарушить тишину, она только подняла руку и стала широко размахивать ею на бегу. “Ах, ты, Боренька! Ну что он сейчас разглядит своими очками? Все-таки он любит меня, ждет, волнуется. На балкон вышел, простудится…” Ниночка сильнее стала размахивать рукой, чтобы Борис мог разглядеть, что это она, чтобы поскорее успокоился и обрадовался. Она запыхалась, глаза от ветра и чувств были полны слез.
Но вдруг ей показались странными однообразные движения темной фигуры на балконе. Замедляясь и стараясь проморгать слезы, Ниночка, широко раскрыв глаза, всматривалась. Что это? Да ведь это белье! Колышется от ветра… “Нет, нет! Как же? Это я, значит, белью махала?!…”
Мозг еще боролся с этой мыслью, выискивая возможные лазейки, чтобы все оставить по-прежнему, оправдать. Но голова и плечи ее уже опустились, и слезы, неудерживаемые, горькие, текли по лицу.
Ниночка была одна, и можно было, не стесняясь, предаться горечи разочарования, чтобы излить ее, освободить душу, поселить в ней спокойствие и терпение и как-то жить дальше…
1985 год
Ироды
– Сидишь, сидишь тут, а им хоть бы что!
– А что им? Вишь, какие веселые!
– Встаньте, я тут подотру! Встаньте, гражданин!!!
– Кто последний? Зиночка, вы?
– Я, а что, привезли уже?
– Не знаю, кажется, нет еще.
– Поднимите ноги! Ходют тут, работать не дают. Моешь, моешь, а эти только и топчут. Чтоб вас…
– Вон машина подъехала. Сейчас принесут.
– Раиса Васильевна, идите, я вас пропущу. Уже привезли.
– Чего это они ждут?
– А кто их знает? Вон очередь-то настановилась.
– По сырому не ходите! Дайте подсохнуть!
– У вас желудок?
– А шут его разберет. Вот тут колет и колет – спасу нет.
– Прыксина, завтра пойдете санитаркой на первый этаж, а в гардероб – тетя Паня.
– Сегодня санитаркой, завтра. Спасибо! Я – ползай, мой, а Панька будет номерки выдавать!
– Ой, народу! Дают? Нет?
– Нет еще.
– Галь, видела у Елизаветы платье? Халат снимет – посмотришь. Блеск!
– Стоматологи опять первые! Ночуют они тут, что ли?
– А что им больные!? Сиди и жди. Уж двадцать минут сидим. У меня даже в боку закололо.
– Сюда как придешь, хуже заболеешь.
– Дочк, кашляешь ты как.... Не слушай ты никого, а придешь домой, попысай и выпей этого. Што смеешься? Вот те крест, не сойти с места. Вспомнишь бабку. А то они как-то лазарем лечут, а толку никакого.
– Ноги-то, ноги вытирайте! Вон тряпка!
– Кто на рентген последний?
– Я, а что толку? Их нет никого. Вон все толпятся.
– А чего это у них?
– Не знаю. Проверка, может, какая.
– Какая проверка? Получка!
– Ишь ты! А я смотрю, чтой-то они такие веселые? Очередь – прямо как у нас в конторе.
– А ты что ж думал, им каждому домой привозят? Врачи тоже люди, как-никак.
– Представляешь, он мне сует трояк: “Доктор, – говорит, – на, деколону купишь”.
– Вот хамье!
– Да нет, Валь, он очень мучился. Ходить совсем не мог. Мужик простой, добрый. Не знает, что сказать…
– Вон идут. Энта в очках – съемку ведет, а энта – прячется, заразы боится. Свет там такой заразный.
– Ну, слава богу, дождались.
– Не успела подтереть – опять натоптали! Ироды!
1980 год
Родительское собрание
Галина Степановна обвела взглядом присутствующих. Вот они, все сидят здесь перед ней. Нелегко было их собрать. Но Галина Степановна была довольна, все-таки она добилась своего. А отговорки найдутся всегда. У одного дежурство в больнице, другой в театр опаздывает, третий в институт, а о детях подумать некому.
С такими родителями тяжело. Многое в детях приходится ломать, строить заново. Единственный серьезный человек – Храпова Татьяна. Понимает, как трудно воспитателю, сочувствует. Каждый праздник – коробку конфет, духи. Вот ведь простой продавец, не профессор, как Костин дед, а с понятием. Правда, последнее время очумела – четыре пузырька “Красной Москвы” подряд. Куда их столько?
Теперь все здесь. Смотрят, ждут. Пора начинать. Галина Степановна раскрыла конспект.
– В общем это… Товарищи, сегодня у нас родительское собрание. Я хочу рассказать вам о нашей работе, о программе, по которой мы воспитываем ваших детей. Помните! Воспитывать надо уже с этих пор, когда детям четыре-пять лет, не позже. Как говорится, воспитывать надо, когда ребенок поперек лавки, а не вдоль лавки. Так и мы.
– В группе у нас семь девочек, остальные мальчики. С ними, конечно, трудно. В группе шум, беготня. Я ему кричу: “Стриганов, не бежи как угорелый”, – а он ничего не слышит.
– Многие дети не умеют мыть руки. Говоришь им: “Дети, мойте как следует, нас за это ругают”. Отвернешься, а на полотенце все пять пальцев. Увидит комиссия – нам выговор.
– Скоро детям будем мыть ноги. Товарищи родители, будем мыть в любую погоду! Учтите! Я, конечно, не говорю, чтобы вы сейчас же бежали к заведующей, чтобы не мыть ноги. Но если кто заболеет – мы не виноваты, такое распоряжение.
– По программе мы знакомим детей с простыми математическими представлениями: овал, круг, прямоугольник, квадрат. Вы и дома это можете делать. Например, чтобы получить круг, надо у квадрата отрезать ножницами уголки, а чтобы получить овал, надо отрезать уголки у прямоугольника. Товарищи родители, запомните! Из квадрата ни-ког-да не получится овал, а из прямоугольника – круг!
Галина Степановна посмотрела на родителей. Понимают ли они ее? Вряд ли. Вон Логинова тайком газету читает, а еще инженер. Или Маркин. Спит. Вздохнув, Галина Степановна продолжала.
– В группе не хватает стульев. У нас двадцать семь детей и столько же стульев. Все дети сядут, а нам сидеть не на чем. Если только кто-нибудь заболеет, хоть посидишь.
– Дальше по программе родной язык. Показываем детям картинки, рассказываем, читаем сказки. Вы это тоже можете делать дома. Покупайте детям книжки! Не обязательно яркие, красивые. Главное, чтобы дети понимали. А то вот стали читать сказку “Привередница”, а никто и не знает, что это такое. Я им говорю: “Это которая все время привередничает”, а они все равно не поняли. Уж лучше такую книжку не покупать.
– Также мы знакомим детей с понятием “времена года”. Не все дети знают, какое сейчас время года. Придет методист, спросит у любого ребенка: “Какое сейчас время года?” А он: “Весна”, – нам выговор. Думаете, нам охота? Неохота.
Неожиданно Галина Степановна услышала сдавленные смешки, а затем и откровенный хохот. Подняв глаза от конспекта, она увидела, что все смеются, глядя на Василия Семеновича, отца Воропаевой. А он, которого она всегда уважала, взял со шкафа маску лошади, надел ее, да еще ладонями уши приставил. Ужас какой-то! Галина Степановна с укором посмотрела на Василия Семеновича. А ведь всегда такой чуткий. Галина Степановна частенько краснела от его внимания.
Она постучала карандашом по столу: “Тишина! Тишина!” Все повернулись к ней, постепенно успокоились. “Две недели готовилась, – думала Галина Степановна, – и все напрасно из-за какой-то лошади”. Она поправила прическу, нашла потерянное место в конспекте и продолжала.
– После завтрака стараемся быстро укуировать детей на участок, так как по программе подвижные игры. У нас их дети не любят. Вот, например, на этот месяц у нас игра “мышки” – мышки ловят кота. Ну. сегодня “мышки”, завтра “мышки”, послезавтра “мышки”. Детям надоело. А в другую игру нельзя – по программе “мышки”.
– Дальше по программе плавание, бадминтон. Это, конечно, отпадает. Вот и все.
– А теперь самое главное. Жировки. Да, да, товарищи родители. Многие забывают платить, платят под конец месяца. Я сама мать, у меня тоже сын, но я стараюсь всегда платить вовремя. Я уж и детям каждый день говорю, чтобы вам напоминали, и играем с ними в сберкассу, оплачиваем жировки, выдаем квитанции. А вы все равно делаете по-своему. Ведь нам опять же выговор. Вы видите, как мы стараемся для вас, для ваших детей, постарайтесь же и вы для нас.
– Еще… Кто не принес. принесите кусок материи, пять спичечных коробков и туалетной бумаги.
– Ну у меня все. Если нет вопросов, до свидания.
Вопросов не было. Проводив родителей, Галина Степановна устало опустилась на стул.
1974 год
Третий круг
Вставать не хотелось. Но вчера приняла решение – бегать. Сама же решила. Вставай!
Екатерина Алексеевна тяжело поднялась, с силой потерла ладонями лицо, окончательно просыпаясь. Стараясь никого не разбудить, надела приготовленный с вечера тренировочный костюм. Движения постепенно делались уверенными, сон проходил. Последний взгляд на себя в зеркало в прихожей испортил и без того нерадостное настроение – бесформенной массой на нее глядели все восемьдесят пять килограммов ее человеческой плоти.
В свои сорок пять лет она в душе не ощущала себя мудрой, всезнающей, прожившей большую жизнь женщиной. Часто одолевали сомнения, страхи, в неудачах терялась, отчаивалась, в минуты радости в душе прыгали чертики, толкая на озорство. Нет, она не была солидной, уверенной в себе матроной, какой привыкли ее видеть окружающие. И, несмотря на должность и работу, больше подходящую для мужчин, Екатерина Алексеевна наедине с собой оставалась девчонкой, нуждающейся в сочувствии, совете, добром слове, поддержке в серьезных и несерьезных житейских делах.
И вот она решила бегать. Куда? Зачем? Не так ведь и много – сорок пять, а на что похожа? Как-то не заметила, как докатилась до этого. Все дела, муж, дети. А жизнь коварно течет, не давая возможности оглянуться, посмотреть на себя, ужаснуться и, в конце концов, что-то предпринять. Какие сорок пять? Ни шеи, ни талии, руки к туловищу прижимать надо, чтобы не торчали в стороны. А ноги?
Ладно, все, хватит. Пошла.
Прикрыв осторожно за собой дверь, Екатерина Алексеевна спустилась в лифте и вышла на улицу.
Было очень рано. Прохлада бодрила. Дойдя до бульвара, Екатерина Алексеевна увидела нескольких бегунов, мелькавших среди зелени в разных направлениях. Нет, только не туда. И она поспешила спрятаться за деревьями, стесняясь своего безобразия. Ей бы подошло место, скрытое от глаз. А вот как раз этот школьный стадиончик. Бегунов здесь не бывает, а школьники еще спят.
Стадион, собственно, асфальтовая беговая дорожка вокруг маленького футбольного поля, примыкал к белому невысокому зданию школы со сверкающими чистотой окнами. И хотя этот район сравнительно новый, деревья вокруг успели вырасти и надежно защитить это место от окружающих улиц и посторонних глаз.
Вот и отлично. Екатерина Алексеевна обрадовалась, что все так хорошо начинается. Наметила себе веху – высокий фонарный столб у дорожки. Отсюда она начнет считать свои километры.
Дойдя до столба, Екатерина Алексеевна согнула руки в локтях, приподнялась на цыпочках и побежала, не торопясь, стараясь дышать равномерно, четко отмеряя три шага на вдох и четыре на выдох.
Она мысленно глянула на себя со стороны и улыбнулась – этакая кадушка подпрыгивает. Ей было радостно, что вот она такая неуклюжая бежит себе, а ее никто не видит. Пусть посмотрят потом, позже.
Она смотрела на деревья, высокие кусты боярышника, густо ограждавшие стадион. Зелень еще молодая, свежая, пахнет хорошо…
Она никогда не была физически слабой. В детстве с отцом вдвоем сажала и убирала картошку на всю семью, а огороды были большие. Сама детей растила без посторонней помощи. А это и стирка, и уборка, и сумки.
Стадиончик был маленький, дорожка, наверное, метров двести, не больше. Екатерина Алексеевна с радостным ощущением, что и она приобщилась к великой армии физкультурников, старалась усложнить себе работу, бежала по наружному краю дорожки, чтобы было по-честному, по максимуму.
Пробежав легко один круг, она с удовольствием загнула мизинец на правой руке. Так, один есть. Прислушавшись к себе, отметила – ничего не болит, сердце не колет. Дышать, правда, тяжеловато, но это и понятно, с детства постоянно бронхиты, воспаления. Ничего, надо тренировать дыхание. “Для начала пробегу кругов пять и все. А потом буду постепенно увеличивать”.
Второй круг дался труднее, дыхание сбивалось, ветерок уже не холодил. Добежав до столба и загнув второй палец, она со страхом подумала: “Еще три круга!” Другая мысль перебила страх: “Должно быть преодоление. Ведь если бегать помалу, то и результатов не будет. Надо потрудиться, попотеть, заставить себя. А когда легко – это не занятия, везде так пишут”.
Она бежала, уже не глядя на кусты, зелень, ноги сами передвинулись к середине дорожки, глаза смотрели на асфальт, оценивая, сколько еще осталось до конца круга: ой, как много! Вдруг на нее набежала жирно написанная на асфальте мелом фраза: “Катька дура!!” Екатерина Алексеевна даже споткнулась, как будто ее кто-то толкнул. И сразу подумала: “Правда дура. Чего выдумала? Бегать захотела! С ума сошла на старости лет. Ограничилась бы в еде, зарядку начала бы делать, а то в спортсменки полезла. Тоже мне, мастер спорта международного класса! Стыд один. Квашня в футболке”.
Она почувствовала, как ноги стали заплетаться, по вискам на шею потекли липкие струйки, лицо горит, дышать нечем. Надо срочно решать, бежать дальше или нет, иначе умру. Ну, думай, решай!
Ноги сами перешли на шаг, руки опустились, расслабились. Внезапно бросило в жар – это перестал обдувать встречный поток воздуха. Лицо пылало, из горла вылетали хрипы со свистом, в широко раскрытых глазах метался ужас, началось удушье. Где-то в глубине мелькнуло: “Вот, оказывается, как смерть-то приходит”. Стараясь побольше захватить воздуху, Екатерина Алексеевна широко раскрывала рот, запрокидывала голову, отводила назад плечи, помогая расправиться грудной клетке, с силой втягивала воздух, но его все равно не хватало. Ужас проник внутрь – это точно конец.
Она в отчаянии подошла к невысокой ограде, повалилась на нее. Почувствовав себя хуже, повернулась, подыскивая более удобную для дыхания позу. Слезы текли и текли по потному лицу, не удерживаемые волей. Глаза время от времени в страхе оглядывали все вокруг, не видит ли кто? И тут же мысль: “Хоть бы кто-нибудь увидел, помог! Господи! Вот ведь себе устроила!”
Она принималась ходить взад и вперед, останавливалась, откашливалась. Постепенно дыхание успокаивалось, боль в груди затихала. Вытерев низом футболки красное лицо, еле волоча ноги, Екатерина Алексеевна побрела домой с твердой уверенностью, что это было в первый и последний раз. “Да, вот она физкультура, – продолжая кашлять и отплевываться, думала она. – Это не для меня. Надо правде в глаза смотреть. Какой уж тут бег?”
На другой день утром полусонный муж, почувствовав, что она не спит, спросил: “Кать, бегать?” Екатерина Алексеевна встала, оделась и снова вышла на свою площадку.
Как и вчера, она отсчет вела от того же столба, но бежала уже спокойнее, рассчитывая силы, дыхание. Она уже не думала о своих годах, фигуре, вольных или невольных свидетелях. Это, оказывается, все ерунда. Сейчас ей надо было доказать себе, что она человек. Волевой, сильный. Может себя заставить, преодолеть. Ей было приятно, что несмотря ни на что, она опять здесь, бежит. “Вот так, – думала Екатерина Алексеевна, – как решила, так и будет. Не надо было решать. А теперь – все”. Теперь сомнений больше не было, все встало на свои места.
Иногда мелькало знакомое “Катька-дура!!” Но Екатерина Алексеевна уже не была согласна с этим. “Посмотрим, – говорила она себе, – дура или нет”. Она старалась наступать на эту надпись и ждала ее на каждом кругу.
Сегодня все кончилось лучше. Хоть и забил кашель, и глаза на лоб полезли, но страха не было – знала, что дыхание скоро успокоится, смерти не будет.
Прошел день, другой, третий… Екатерина Алексеевна бегала, кашель уже не мучил. Так, слегка попершит в горле, и все.
Конечно, ей не хотелось ни вставать в такую рань, ни выходить на улицу, ни бегать. Удовольствие приходило на третьем круге, когда думалось: “Вот скоро и все. Молодец. Теперь целый день свободна”. Она приободрилась, подтянулась. Легкие и бронхи уже не занимали ее, не пугали. Она опять смотрела на себя со стороны, осуждала за лишний вес, с укоризной замечала, как во время бега, во время каждого прыжка инерционно запаздывают тяжелые телеса на животе, спине, бедрах, мешают ей. Мечтала освободиться от них, видела себя худенькой, стройной, подвижной.
В один из дней, когда она вышла бегать, взгляд ее упал на асфальт, и Екатерина Алексеевна от души рассмеялась – на дорожке полустершаяся надпись восклицала: “Катька ..ура!!”
1987 год
Заходи
Мне все говорили: “Не женись на ней. Зачем тебе инженер? Вон Клавдия из гастронома, чем хуже? По крайней мере, есть на что посмотреть, да и с голоду не умрешь”
Я, конечно, все это слушаю, вроде бы соглашаюсь, но как посмотрю в Женькины насмешливые глаза, так будто меня кто под дых вдарит, делаюсь ватным, слова сказать не могу. В голове все разные фразы кружатся, одна умней другой. Пока выберу самую умную, уже и говорить не надо, проехали.
Я ей художником-модельером представлялся. Все лучше, чем обыкновенным портным. Только после свадьбы признался. А она расхохоталась, погладила меня по голове и в макушку – чмок!
Частенько собирались ее институтские друзья у нас. Первое время я в их разговорах ничего не понимал. Слова-то некоторые запомнил: сумматор, дешифратор, а вот связать их в складное предложение и в разговор небрежно ввернуть – не мог.
Заговорили они как-то про разряды, будто у них восемь и один контрольный. Дай, думаю, хоть слово скажу, у нас же тоже разрядная сетка. Закройщик третьего разряда – это не то, что закройщик первого разряда. Начал я, было, про закройщиков, а Женька моя: “Филиппок, кажется, мясо подгорает”. Вот и весь разговор.
А однажды тоже собрались, сидят, едят, разговаривают. Галка Женькина жалуется: “Целый месяц сижу на прошивке памяти, глаза болят, челнок ломается”. Я возьми, да и брякни: “Может у вас нижняя нить сильно тянет?” – Женька даже вилку уронила! Кто ж знал, что она какие-то сердечники прошивала. А мне все же обидно. Готовить я люблю, хороший стол уважаю, но дайте же и мне слово сказать!
Ну, а потом легче стало. Стали говорить уже о другом: кто на ком женился, у кого кто родился, кто разошелся. Нина, Женькина подруга, разошлась, так он, подлец, даже цветочные горшки делил. Я бы так не стал. Это уж совсем совесть потерять. Я бы что взял? Магнитофон, ковер “Русскую красавицу”, машинку, кое-что из посуды. Вот и все. А то цветочные горшки!.. Правда, может там пальма ценная или фиговое дерево с плодами, тогда вопрос спорный.
А раз как-то пошел я за мясом в гастроном. Батюшки! Стоит в молочном отделе Клавдия. Как глянула – у меня ноги подкосились. Выбил я масла двести грамм, а оно мне совсем не нужно – у меня в холодильнике полкило лежит. Подхожу, чек подаю, а она: “Как поживаете, Филипп Сергеич? Чего не заходите?” “Занят я, Клава, дешифратор делаю”, – пробормотал я, сам не знаю чего. Она опять взглядом своим окатила – я чуть не умер. С этого масла все и пошло.
Теперь жизнь моя переменилась. Работаю я там же, в ателье, но живу у Клавдии. Как мечтал раньше, перевез к ней магнитофон, “Русскую красавицу”, машинку, кое-что из посуды.
Клавдия женщина добрая, правда за холодильник ругает – зачем Женьке оставил. Женька бы отдала, но теперь неудобно, все же время прошло…
Или, может, попробовать? Ведь Женька тогда сказала: “Если что будет нужно, Филипп, заходи”.
1986 год
Байки старухиного деда
В Москве-то чудес не меряно. Мужик там был, Федором звали. Не поверишь: берет он слепого, чик ему ножичком-то в глаз – и слепой уже видит. Берет другого, чик и ему в глаз – и этот видит. И так он чикал день и ночь. А может, его и не Федором зовут, врать не буду. Слушай дальше. Сел он на самолет и по свету стал летать – и за морем чикает, и за океаном чикает. Вот она, слава Федорова куда дошла. А еще этот Федор странствия любит. Сядет, говорят, в лодку и давай веслами махать вокруг земли, а то на гору полезет, прости Господи, али на коне проскачет. Бородища до пояса, суровый мужик. Но дело свое знает. Так-то вот.
* * *
Политика, политика! Сейчас в политике только дурак не разбирается. Вот ты за какую партию? Не знаешь? А я уж давно за партию “Наш дом Отечество Советский Союз вся Россия мать”. Слыхал такую? Вот я за нее. А то соседские внучата насмехаются: “Дед, – говорят, – ты голубой?” А как мы были красные, так и есть, как били белых, так и голубых будем бить, пусть не посягают. А сам-то про голубых не слыхивал? За кого они будут? Надо разобраться. Если они для нас, мужиков, стараются – это наши люди. Надо узнать, может они чего дельное предлагают, а мы – темнота: уперлись – красные, да красные, может и голубые люди.
* * *
Мне говорят: “Дед, вот ты всех знаешь, а Бушмета не знаешь”. А как его не знать-то. У нас его все знают. С ним случай был. Как-то давно стояли мы, значит, с ночи в очереди за продуктами, наборы к празднику давали: гречки, муки, одесской колбаски колесо, яички, кильки в томате, все что надо. У всех талончики: кто с фабрики, кто с завода, кто еще откуда. Я тогда на 6-м Механическом работал, мы банки делали для вазелину. Ну, ты понял?.. Подходит очередь этого Бушмета. А талона у его нету – он ни на фабрике, ни на заводе, так, то ли поет, то ли на дудке играет, точно не знаю, а врать не хочу. Ну, продавщица, понятное дело, спрашивает его: “А вы, товарищ, от какой организации будете?” А он-то, Бушмет этот: “Я, – говорит, – от Организации Объединенных Наций”, в Кремле, значит, заседает, шельма. Тут, как говорится, смех в зале. Все хохочут, а продавщица – до слез. Ну и отвесила ему на радостях, что к празднику положено. Вот он каков Бушмет – умный и смекалистый мужик. Так и пошел домой с колбаской, да яичками, ну, и все такое.
* * *
Уж ежели про кино-то говорить, то моя симпатия на век – это Нонна Мордюкова. До чего сильная женщина и красавица – глаз не оторвать. Что петь, что смеяться, что плакать, что ругаться – все с душой, по-нашему. Хоть бы разок ее живьем повидать, за руку подержать. Вот хороша женщина. Люди бают, ей первую премию всего мира дали. Вот правильно сделали, видать, знающие люди. Мать у ей строгая, говорят, была. Как Нонка-то достанет краску из ихнего сундука, губы намажет, а мать увидит – и по губам, по губам. Вот она без краски и получилась красота-то истинная.
* * *
Я артистов всех знаю. Вон по телевизии передача бывает “Поле чудес”. Вот где истинно чудеса делаются. Там у них так. Стоят люди. Им этот усатый говорит: “Скажи букву”. А кто-то из них: “А”. И сразу всем подарки несут. Вот чудеса. Я своей старухе говорю: “Сходи, дура, скажи им какую букву, может и тебе чего дадут. А попросишь, так может и шубейку”. У старухи моей шубейка под мышками протерлась, мороз туда и залетает. Так всю легкую себе и застудила. Как смеется, так до кашля. А этот усатый – вот артист. Я б ему орден дал. Кто букву скажет – всем подарки. По глазам видать хороший мужик. Сам, мабудь, тоже непросто живет, а для людей ничего не жалеет. Другой раз звук откажет, а он то в тельняшке, то поваром, а то противогаз наденет. Моя-то до кашля дойдет, да и сам сидишь, трясесся. Талану, видать, у его много. А ты говоришь.
* * *
А вот кто страшный человек – так это Никита Михалков, особливо для женского полу. Что он с ими делает! Вот моя, к примеру, старуха как увидит его, столбом встанет и ни рукой, ни ногой. Я ей: “Окстись, дура, побойся Бога!” А глаз у его прямо нутро сверлит. Во какой мужик. Голос-то у его мягкий, но с железом. И что больше гипнозу дает – глаз али голос – не понять. Тут его кино по телевизии было. Про генерала али маршала какого. Сильная вещь. Одно плохо – зачем он нам ету, как сказать, сексу показал. Она-то по-русски по-другому называется, ну, ты знаешь. Срам, да и только, такую вещь испортил. Ты вот будешь там в залах, али в посольствах каких, ты скажи ему, мол, народ, Никитушка, этого не любит. Ты же русский, мол, человек. Пущай другие позорятся. Мы к соседям ходим телевизию смотреть, когда наша откажет. А там бабы, ребятишки. Глаза не знаешь, куда девать. Вот так-то, брат, прости, Господи.
* * *
Другой раз спрашивают меня: “Ты сам-то из каких же, дед, мест будешь?” Санданский я. Местность такая есть, Санданская. Вот там мы с моей старухой и сошлись. И чего я ей приглянулся? Сама-то она и сейчас ничего себе будет, только вот лёгкую застудила. А тогда – ух ты! Что петь, что пироги печь – первая была. Частушки выдумывать тоже любила. Это она и посейчас. Тут давеча выдумала, мол, не того любите, девки, у кого большой, этот, как его, карман. А того, говорит, любите, девки, кто не делает обман. Я ей: “Дура, кто сейчас обман-то не делает, пойди, найди его”. Но смысла правильная.
* * *
Вот опять же на Москве кажный себя выпячивает. А есть люди истинные, без шуму. Мужик там один есть, скультуры делает из глины, ну, там, лепит баб, мужиков, коней, фигуры разные. В пальцах у его понятия есть, как чего лепить, талан. И работает он, говорят, с утра и до вечера. Поспит маненько – и опять лепить. Про его весь свет знает. Вот сделали раз выставку. Расставили его фигуры. Люди ходят, спрашивают: “А кто эту фигуру сделал?” А им ответ, мол, автор неизвестный. “А эту кто фигуру сделал?” А им опять – неизвестный. Люди понять не могут, в чем дело. А это у его фамилие такое, а никто ж не знает. А он, шельма, меж ими ходит, да в усы усмехается. А может и нет у него усов-то, а одна борода, я не видел, а врать не хочу. А глаз, говорят, у его острый, да быстрый, все примечает, где бугор, а где яма. Вот он каков, Неизвестный этот.
* * *
А что ты думаешь, я и Гагарина пускал. Это я сперва банки для вазелина делал. А было дело, и Гагарина пускал. Там как? Червяк вверх – газ идет, ракета летит. Червяк вниз – газ перекрыт, ракета стоп. Бывало, сам Гагарин, али Королев подойдет, положит руку на плечо и душевно попросит: “Вась, ты там газку-то поддай шибче”. Ну, и даешь газу на полную катушку – вона их сколько теперича ракет-то летает.
* * *
А вот, говорят, мафия, мафия. Мол, ребята бритые на не наших машинах. Со мной случай был. Я тогда хлебную палатку стерег. Дело позднее, подъезжает эта самая мафия, шесть человек в длинных польтах, деловые. Подходят: “Кто, – говорят, – тут самый главный?” А кто же? Нюрка-то палатку закрыла, ушла, стало-быть, я главный. А один мне: “Ну, как, дед, насчет денег?” “Хреново, – говорю, – ребята”. А этот: “Ты не крути, а говори, когда бабки, это…, деньги передавать будем?” Моей бабке деньги! Ну, дела. А моя-то у свояка гостит, раньше среды не приедет. “Раньше среды, – говорю, – братцы, никак”. На том и порешили. А ты говоришь. Это ж золотые ребята. И как они прознали, что у старухи моей шубенка под мышками протерлась? Деньги бабке моей решили передать. Раньше-то их тимуровцами звали. А теперь, значит, мафия? Жаль, работы я лишился, заснул, а палатку-то подожгли. Где их теперя найдешь, мафию эту? Так и остались мы со старухой без денег и без шубейки. Вот так-то, брат.
1996 год
Грядки
Юлины родители были инженерами. Как-то к Юлиной матери приехала институтская подруга. Поиграв с Юлей, подруга сказала: “Да она у тебя ничего не знает!”. Мать рассмеялась: “А что она должна знать, в восемь-то месяцев?”
Минут через 15 подруга позвала мать, которая в это время хлопотала на кухне, и показала, как ее маленькая Юленька по просьбе подруги нанизывает своими пухленькими ручками на стержень деревянной пирамидки то красное большое колечко, то маленькое зеленое, то синее, то желтое…
С тех пор мать стала заниматься с дочкой, и к пяти годам Юля бегло читала, хорошо считала, решала хитрые мамины задачки и знала наизусть множество стихов, песен и сказок.
До школы было еще два года, и мать отдала Юлю в музыкальную студию учиться игре на фортепиано. Все шло хорошо, но однажды Юлина учительница Людмила Михайловна вызвала мать и сказала: “Я для вашей девочки не гожусь, ей нужен более сильный педагог”.
Да мать и сама замечала что-то необычное в своей дочке. Детский сад, куда ходила Юля, был совсем рядом с их домом, а игровая площадка находилась прямо под их окнами. И вот как-то, Юле тогда было три года, мать видит из окна, что дети гуляют, играют в снежки, падают, смеются, весело кричат, а её Юля стоит в сторонке одна. Встревоженная мать быстро спустилась и подбежала к дочке. Присев перед ней, она спросила: “Юленька, почему ты с ребятами не играешь? Тебе не скучно?” Юля с улыбкой ответила: “Нет, не скучно, я же песенку пою!”
Когда Юля стала учиться в музыкальной студии, проходя мимо ее комнаты, мать увидела, что Юленька, играя какую-то легкую пьесу Моцарта, вытирает глаза, проводя ладошками вниз по щекам, и, подавшись вперед, вглядывается в ноты, продолжая играть. Так ее трогала эта музыка!
В другой раз, когда по телевизору певица брала очень высокую ноту, Юля срывалась с места, бежала в свою комнату, нажимала какую-то клавишу на пианино и тихо говорила сама себе: “Так я и знала!”
Даже когда звенел звонок в квартиру, Юля всегда напевала: соль-ми.
В семь лет, выдержав огромный конкурс, Юля поступила в музыкальную школу при консерватории. Проверяли и чтение, и счет, и решение задач. А главное, оказалось, что у Юли абсолютный слух. Она без ошибок называла и пропевала ноты из двойных, тройных и даже четверных созвучий.
В классе по списку было шестнадцать детей. Все ребята умные, талантливые, чуткие. Во втором классе один мальчик, Стасик, который все время получал двойки, однажды все выучил, и учительница Нина Ивановна поставила ему пять. Тогда с последней парты поднялся Саша, подошел к учительнице и поцеловал ее – за Стасика.
Эта Нина Ивановна, побывав на школьном концерте и поразившись игрой своего маленького ученика, сказала ему: “Стасик, я тебе никогда больше не поставлю плохую отметку!”
Всё в этой школе было необыкновенное, удивительное. Даже гардеробщица Мария Петровна, видя, что Юля с утра до вечера в школе, давая Юле 20 копеек из своей крошечной зарплаты, сказала: “Купи себе что-нибудь в буфете, ведь целый день не емши и не пимши!”
Школьные годы пролетели, и Юля в консерватории! Ее педагогом стал Петр Петрович Курьянов, профессор, невысокого роста, худенький, подвижный и довольно симпатичный человек.
Ей нравилось учиться, ездить на занятия, входить в огромные двери, подниматься по широкой лестнице. Правда, ездить было далековато: сначала на трамвае, потом на метро. Но все эти мелочи забывались, она опять слышала чудные звуки рояля, скрипок, виолончелей, которые прорывались даже сквозь двойные двери классов. Это была ее атмосфера, она этим дышала. Она мечтала когда-нибудь услышать: “Исполняет Юлия Лаврова, Россия!”, понимая, однако, что это просто так не дается, что надо работать и работать. И она старалась. Занималась по пять, шесть, а то и по восемь часов каждый день. Получив новую программу, она к следующему уроку уже играла ее наизусть.
Петр Петрович занимался с Юлей положенное время, делая незначительные замечания типа “громче-тише”, “быстрее-медленнее”. На все конкурсы и концерты он всегда направлял другого ученика, Серёжу, как потом оказалось, своего внука, который после выступления всегда уходил со сцены под звук собственных шагов.
Мать Юли решила поговорить с профессором. Они встретились на улице возле консерватории. Мать, набравшись смелости, сказала, что хорошо бы Юлю отправить на международный конкурс. Петр Петрович спросил, когда начало, какая там программа, немного подумал и вдруг неожиданно сказал: “Нет, Сережка не успеет!”. Быстро попрощался и ушел. Мать опешила: “Какой Серёжка? При чём тут Серёжка?” Но профессор был уже далеко…
Петр Петрович к Юле относился дружелюбно. И когда он начал строить дачу, он посвящал Юлю во все тонкости строительства: показывал чертежи, рассказывал, какие нужны доски, какой он заказал камин, и особенно, как и где он будет строить веранду. Юля изнывала, ей хотелось крикнуть: “Ну хватит! Давайте заниматься!”
И вот очередное занятие. Юля играла вдохновенно, постепенно забывая, что она в классе, что идет урок. Петр Петрович внимательно слушал. Краем глаза она увидела, что он взял листок бумаги и, поглядывая на нее, стал что-то писать. “Наконец-то, – подумала Юля, – он что-то отмечает, сейчас что-то важное скажет!” И радость от внимания учителя согрела её, и, окутанная прекрасными звуками, она неслась по волнам божественной мелодии…
И вдруг кто-то приоткрыл дверь, заглянул в класс и обратился к профессору. Ветерок сдул со стола листок, и он плавно опустился у ног Юли. Она быстро подняла его, чтобы отдать учителю, но глаза сами пробежали по записке. И она прочла: “Лук – 1 грядка, укроп – 2 грядки, редис – 1 грядка…”
У нее потемнело в глазах…
2020 год
Дочь
– Ладно тебе, Михалыч, плюнь. Ну случилось, ну что теперь? Не в петлю же?
– Да понимаешь, Серега, обидно. Я же прав, он меня должен был пропустить!
– Забудь. Что, разве ничего хорошего не было? Ты, видать, давно за баранкой.
– Больше 40 лет. Ах, я ж дурак, дурак! Такую машину загубил!
– А вот послушай, Михалыч, какой со мной случай был. Не могу забыть одного мужика. Кстати, Николаем звали. Ехали мы с женой с дачи. Уже смеркалось. Надо было доехать до Каширки и уже по ней шпарить до Москвы. И при спуске с небольшого уклона у меня вылетела шаровая. Правое переднее колесо поперёк. Как мы в овраг не угодили – не знаю. Что делать? Никого. Будни, сумерки, малозначительная дорога. Может, только утром кто по ней поедет. До ближайшего поста ГАИ восемь километров… Вдруг фарами светит встречная Волга. В ней мужик лет сорока пяти. Остановился, вышел, стал смотреть, что да как. Потом велел его ждать, а сам развернулся и уехал обратно. Я уж и так, и так думал… Что за мужик? Почему его ждать? Но надежду всё-таки оставил…
Через минут тридцать-сорок вижу – кто-то едет. Он! Вышел, стал менять узел. И сделал! Сколько буду жить, не забуду этого Николая. Да всё так тихо, без лишних слов, и ведь скромно так уехал, даже денег не взял… Вот и думай, кто это был… Меня аж до слёз прошибло.
В полной ночи мы ехали тогда домой и всё говорили об этом мужике.
– Да… Ну а я-то хорош! Дурак дураком!
– А ты погоди, слушай дальше. Вот были ещё случаи. У меня была сноха, сестра жены. Эта сестра сломала себе ногу как-то непоправимо. Короче, стала инвалидом. И ей государство бесплатно выделило автомобиль “Ока” инвалидного варианта. Эта сестра вроде выучилась вождению, но очень боялась ездить по городу и отдала свою машину мне, пока мои “Жигули” были в ремонте. Я везде ездил на этой инвалидной “Оке”. Сам-то я мужик крепкий, ты ж видишь. Росту у меня метр девяносто. Даже сейчас не пойму, как я в эту “Оку” влезал? Она ещё так тарахтела – один стыд ехать. И вот как-то жена послала меня купить мешок сахару для наливок там, варенья…
На Варшавском шоссе возле Рыбокомбината была овощная база. Тогда на этой базе продавали всё: и шмотки, и продукты всякие, в том числе и сахар.
У ворот базы стоял молодой охранник в камуфляже и никого на автомобилях не пропускал, кроме спец. машин. Увидев инвалидную “Оку”, он сказал мне: “Проезжай, отец!” Я не ожидал такой удачи. Мне так не хотелось вылезать из тесной “Оки”, и я с удовольствием как инвалид проехал на территорию базы. А тут продавцы: “Отец, чего тебе?” Отвечаю: “Сахару”. И хотел было вылезти из своей машины. Молодые парни запротестовали: “Сиди, сиди, отец, мы сами тебе погрузим! Сколько тебе?” – “Мешок”. А это ведь пятьдесят килограмм! Двое парней с трудом подняли огромный мешок и, кряхтя, потащили к машине, погрузили в багажник, я расплатился и поехал домой. Взяв из багажника мешок, я один донес его до дома. Тяжёлый, собака!
– Да-а, понимаю. Но я-то… Э-эх, дурак, идиот!
– А вот еще случай. Однажды как-то заворачиваю я с Садового Кольца на Тверскую, и никто мою “Оку” не пропускает. Обгоняют, оттесняют, вообще перекрывают дорогу. Я растерялся. Вдруг какой-то “Мерседес”, дай Бог ему здоровья, встал поперек всех и машет мне: езжай, мол! И все пропустили меня. И я поехал на своей таратайке. Хороший, видать, парень сидел в этом Мерсе, хоть и новый русский… Или еще был случай…
И Николай рассказал, как он в начале лета поехал с женой на дачу. Машина загружена под завяз. Тут и рассада, и печка, и удобрения, и одеяло, и подушки. Короче, битком. Проехали семьдесят километров – пост ГАИ.
– А нам осталось каких-то десять километров. Выходит инспектор. Останавливает: “Ваши документы?”. А я – лопух! – права, техпаспорт – все оставил дома, забыл. Что делать?! Инспектор ушел в свою будку. Ну, думаю, кранты. Потом выходит и говорит: “Я проверял, в угоне ли твоя машина. Сейчас отпускаю тебя, в другой раз не забывай документы”. И отпустил! Веришь? Вот человек! И среди гаишников люди попадаются.
– Да-а, – сказал Егор Михайлович. – Попадаются.
И вдруг с горечью воскликнул: “Ну я дурак! Дочка только недавно этот “Форд” купила. Он стоял на дворе, такой новый, блестящий. А дочь сделала на меня доверенность на всякий случай.
А сегодня собрался я на дачу. Пошел. А во дворе “Форд” стоит. Иду мимо него. И так мне захотелось сесть за руль этого “Форда”! Я не выдержал, сбегал домой. Взял документы и поехал! До чего ж хорошая машина! Удобная, мягкая. Не то что моя “Нива”. И как это меня чёрт дернул поехать на ее “Форде”! Шикануть захотел, пижон…
Ехал я вроде нормально, когда сворачивал с Дона на Каширку, застрял в пробке, которая собирала машины из разных направлений, ну ты, Серега, знаешь это место. И все друг другу мешали, не пропускали, перегораживали путь, лезли вперед, как всегда. Я решил проскочить перед “Камазом”. Наполовину влез, а он меня не пускает – то ли не видит, то ли не хочет пропустить. И так получилось, что я не выдержал и полез дальше, а он, гад, меня зацепил своей махиной и протащил метров двадцать. Весь зад, весь бок разворотил. Меня охватил ужас – машина-то не моя!
Тут же регулировщик остановил движение, приехала ДПС, стали составлять протокол. И все в один голос говорят, что виноват я. Я, конечно, доказываю, что он должен был меня пропустить, но инспектор и водила этот – знай свое!
Даже звонить дочке рука не поднимается. Что я ей скажу? Что отец у нее – лопух, пижон и балбес? От нее вызовы один за другим идут, а я всё их сбрасываю.
– Егор Михалыч, опять звонит. Отвечай уж.
– Алло! Алло!
– Папа!!! Папочка!!! Где ты?!! Папа!! Что с тобой?!! Почему молчишь?!!!
– Да я…
– Что?! Что?! Говори!! Я тебя не слышу!!!
– Да я… В аварию попал…
– Что?! В аварию?! Ой!!! Господи!!! Что с тобой?!! Что болит?!! Дай трубку врачу!!!
– Да я здоров, дочка… Только я… твой “Форд”… разбил…
– Форд?.. Какой Форд?.. Ах, “Форд”!.. Да Бог с ним! Не думай об этом, папочка! Как ты-то?!! Я сейчас приеду!!! Ах, папа… папа!! Сильно поранился?!!
– Да на мне ни царапины… а вот “Форд”…
– Ты, наверно, обманываешь, что здоров?! Я еду!!! Где ты?!!
– Я в эвакуаторе… В Москву едем… Ты не плачь, дочка… Не рви душу… Я живой…
Они еще долго успокаивали друг друга, и плакали, и смеялись.
Сергей слышал весь разговор, сам растрогался. Вот ведь как бывает…
– Слышь, Серега… Она же на этот “Форд” долго откладывала… Кредит взяла… Только начала выплачивать. А я…
Егор Михалыч опустил голову, закрыл ладонями лицо.
– А дочь-то у тебя, Михалыч, человек!
“Да-а… – думал Сергей. – Черт с ним, говорит, с этим “Фордом”, с кредитом!.. В обнимку, говорит, как-нибудь проживём!.. Да-а… Бывают же дочеря!..”
2019 год
Первая молитва
Вилена Петровна приехала с группой в Петербург на экскурсию. Когда-то студенткой в летние каникулы работала проводницей по маршрутам Москва-Ленинград, Москва-Мурманск, Москва-Никель. Могла ночь на пути из Москвы проработать проводницей, день с друзьями погулять по городу, а ночью в обратный путь – в полудрёме опять сажать редких пассажиров (или безденежных зайцев) в Бологое, выставлять машинисту жёлтый флажок, закрывать вагон, выдавать бельё. Сил было много, хватало на всё.
Прошли годы учебы, годы работы. Остались позади разные должности, в том числе и руководящие, собрания, заседания. Да где это всё теперь? Под конец жизни катастрофически потеряла зрение. Но все равно тянуло её в ставшие родными с молодости края.
Один из экскурсионных дней оказался свободным, и Вилена Петровна решила пройтись по Невскому без суеты, спокойно, а не как обычно – боясь отстать от группы, всё время думая о том, как бы не потеряться среди толпы туристов. Радовалась, что ещё что-то видит и не натыкается на людей. Долго шла по правой, по левой стороне по направлению к Адмиралтейству. В солнечную погоду колонны Казанского собора казались волшебным гребнем. Вилена Петровна решила войти в собор.
В молодые годы она была активной комсомолкой и даже секретарем комсомольской организации на работе. Её воспитали атеисткой: школа, мама – партийный работник на заводе. Вилена Петровна всю жизнь помнила, как во время какого-то праздника они, девочки, должны были выступать с танцевальным номером, и сквозь щелки в занавесе заводского клуба поглядывали в огромный гудящий зрительный зал. И вот выходит на сцену её мама и начинает громко: “Товарищи!!” И потом, подавшись вперед, c жаром говорит о том, что трудно, голодно, но надо еще напрячься, ведь враги только и ждут, чтобы наброситься на ослабевшую после войны страну, что надо помочь Родине. Мама как будто не говорила, а кричала от боли про фашистов, про страдания народа, про погибших и про другое. Маленькая Виленка видела, как многие женщины, а в зале были в основном они, вытирали слёзы. Ей и самой было жалко и погибших солдат, и этих женщин, и вообще всю страну. Вилена Петровна помнила, как, давая клятву, при вступлении в пионеры она становилась на колено и целовала угол знамени, как щипало в носу и сердце стучало в горле. Теперь же удивлялась без злорадства и сарказма, как бывшие комсомольцы и коммунисты вдруг в одночасье все стали верующими. Искала в себе эту веру и пока не находила её, хотя понимала, что с верой легче жить и переносить несчастья.
Войдя в Казанский собор, Вилена Петровна в который раз восхитилась его красотой, обилием пространства и воздуха. Посреди храма увидела длинную очередь. Узнала у прихожанки, что это стоят к Матроне Московской. Вилена Петровна вспомнила, что её племянница, фанатично преданная Богу и церкви, как-то говорила ей, что для исцеления зрения надо помолиться Матронушке Московской, она всегда поможет. “Вот и случай”, – подумала Вилена Петровна и встала в конец. Очередь шажок за шажком приближалась к иконе. Вилена Петровна стала думать, как ей, бывшей атеистке, попросить эту святую о помощи. Она мысленно обратилась к ней со словами: “Милая Матронушка, вот где довелось встретиться. Ты помогаешь стольким людям, и если у тебя еще остались силы, помоги и мне, сотвори чудо, чтобы я смогла наконец видеть лица любимых людей, читать книги, смотреть вокруг и радоваться. Прошу тебя и умоляю”. Вилена Петровна растрогалась, глаза её увлажнились. “Что это со мной?” Вот и первая короткая лесенка. Перед Виленой Петровной два человека, которые друг за другом поднимаются еще выше, ближе к иконе, что-то шепчут и целуют её. Но вот Вилена Петровна делает последние шаги и, подойдя совсем близко, видит, что это не Матронушка. “Господи, да это сама Царица Небесная с Младенцем!” Вилена Петровна растерялась, мысли заскакали, засуетились, вся приготовленная молитва рассыпалась. Она сказала только: “Матерь Божия, прости меня и помоги мне вылечить глаза”. А что дальше-то говорить? И в полной растерянности, глядя на скорбное лицо Богоматери, с искренним сочувствием зачем-то под конец добавила: “Желаю Вам здоровья и счастья”. Дотянуться до иконы, чтобы поцеловать её, не смогла – не решилась встать на последнюю маленькую ступенечку, боясь упасть перед всеми, и, махнув рукой, досадуя на себя, повернулась, и, согнувшись, глядя в пол, кое-как сошла с лесенки, опираясь на протянутые руки, ругая себя мысленно: “Вот дура-то! Дура ты старая! Стыд-то какой! Что ж ты ляпнула Божией Матери! Что она теперь о тебе подумает? Какое здоровье? Какое счастье?”
С этой досадой и ушла из собора. И только к вечеру, когда неловкость и стыд кое-как улеглись, Вилена Петровна подумала: “Ну ничего, ничего, не надо расстраиваться. Может, Дева Мария даже и улыбнется на мою глупость…”
2017 год
Звездный час
Валерий Николаевич уже давно стоял на дорожке, окаймлявшей школьное футбольное поле. На нем был новый тренировочный костюм и кеды. Пока его внучка Натка училась кататься на велосипеде, он смотрел, как играют в футбол мальчишки из соседних домов. Забывшись, невольно повторял движения игроков, и со стороны было забавно смотреть на полного, немолодого мужчину с большим животом и очень редкими волосами на макушке, который время от времени смешно взмахивал руками, чертыхался, приседал, двигал плечами.
Если бы не жена, которая пилила его уже много дней, что одна только Натка из всего дома не умеет кататься, он бы ни за что не оказался здесь.
В глубине души он завидовал этим парням. Ему самому хотелось побегать по сырому еще от весенних вод полю, постучать по мячу, ощутить азарт игрока. Хотелось очень. Но он не представлял себе, как это осуществить. Как подойти и что сказать ребятам. Да и все окна четырнадцати этажей их дома смотрели на поле.
Это желание представлялось нереальной мечтой, жизнь прожитой. Никогда он уже не сможет так беззаботно бегать, падать, бить по воротам, спорить, доказывать. Теперь только стой тут, да смотри, как другие играют, а ты уже отыграл. Он ощутил горечь в душе от сознания невозвратности силы, молодости. Да и много ли он играл тогда? Отец погиб на фронте, мать болела, младший брат учился. Валерий Николаевич вспомнил, как он работал на бумажном комбинате, таскал тяжелые тюки с отходами, а вечерами учился. Уставал ужасно. Потом втянулся. Окончил школу, институт, защитил диссертацию. внучке уже пять лет. До игры ли было?
И теперь он с завистью смотрел на раскрасневшихся, потных ребят, которые не замечали его. Он бы им показал класс. И Валерий Николаевич представил себе, что бы он выделывал с мячом, как бы его подбрасывал, ловил носком, потом опять подбрасывал, принимал на голову, и так без конца.
Вдруг мяч полетел прямо на него. Валерий Николаевич вздрогнул, сердце ёкнуло, кровь бросилась в лицо. Вот он его звездный час. Настал.
От неожиданности он не сумел быстро отреагировать, и мяч покатился дальше. Валерий Николаевич неловко повернулся и побежал за ним. Не заметив косогора, отделявшего футбольное поле от баскетбольной площадки, он начал падать, делая неестественные скачкообразные шаги, взмахивая неуклюже руками, вытянув вперед шею, чтобы сохранить равновесие. Все-таки удержаться не смог, упал.
Отчаяние и стыд захлестнули его – показал класс. Хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть. Он видел, чувствовал, что пацаны стоят, смотрят, может быть, смеются. Да, конечно, смеются. Тут он услышал: “Кончай ночевать, дядя!”
Валерий Николаевич подавил боль и обиду, рывком поднялся, не поднимая головы, посмотрел на ребят – стоят, ждут.
Медленно, потом быстрей, быстрей побежал за мячом. Тот уже лежал, покачиваясь в лунке. Валерий Николаевич носком кеды выбросил его и повел к полю. Он чувствовал, как с каждым прыжком стряхиваются с плеч тяжелые годы, возвращается уверенность в себе, бег его становится упругим, ловким, наливаются мышцы. Наконец, оценив расстояние, он размахнулся и ударил по мячу. Мяч взлетел и со свистом понесся к игрокам. Валерий Николаевич с гордостью следил за ним. Ребята подхватили его, и игра снова завертелась.
А Валерий Николаевич отдышался и уже не смотрел на поле. Он ходил туда и обратно по дорожке, вспоминал подробности своего удара и, глядя под ноги, чему-то счастливо улыбался.
1975 год
Молоток
Баба Шура расплатилась, проводила ребят, закрыла калитку и села отдохнуть на лавку возле кухни.
“Хорошие эти ребята – таджики, – думала она, – сколько мне всего сделали! Вот считай: на прошлой неделе траву покосили, полку прибили, кран на кухне починили. “
Она вспомнила про Толю. Это их местный умелец. Попросишь его прийти, отвечает: “Я на стакане.” Значит, запил. А если не на стакане – придет и сделает, что попросишь. Так Толя несколько часов с этим краном возился: “Не пойму, почему, блин, текёт? Текёт и все, блин! “ Мужик-то он неплохой, но уж больно сквернослов: ведь вместо “блин”, как говорит молодежь, по-русски режет. Да то и дело её столовым ножичком чешет свою потную голову. Тьфу, пропасть. Так и не починил кран-то.
А таджики за десять минут починили его. И теперь он совсем “не текёт”.
Таджики тут на дачных участках подрабатывают: кому покосить, кому вскопать, а деньги домой отсылают.
Баба Шура их иногда расспрашивала об их жизни на родине после развала Союза. Интересно, как женщины теперь там одеваются. Один из ребят, который лучше других говорил по-русски, сказал: “Одеваются, как ты, а у кого совест ест, – вот так” – и указательный палец положил на запястье другой руки. Значит, с длинными рукавами ходят – это у кого совесть есть. Вон оно как…
Баба Шура посмотрела на печку – трубы нет. Теперь с крыши ничего не течёт. Осенью будет, конечно, холодновато, но у неё электрическая плитка “Мечта”. Они с дедом её лет тридцать назад покупали. Хорошая плитка, беленькая.
Деда уже два года как нет. И все стало потихоньку разваливаться. То дверь перекосило, полка упала, щепок для печки некому настругать. То крыша потекла, то мыши проводку обгрызли, и чуть пожар не случился. Хорошо таджики каждый день к калитке приезжают на велосипедах и просят работы.
Слава Богу, и провод починили, и трубу сняли. Этот Хуршет (или как его там) говорит: “Турбу я сняла, течь не будет.” А потом, когда починил проводку, сказал: “Теперь можешь включать мешта”.
Баба Шура заволновалась, задергалась: какая мешта? У неё нету мешта!
Тут Хуршет показал на плитку. “Ах, – обрадовалась баба Шура – это ж “Мечта”, наша с дедом плитка! “
А когда Хуршет стал забивать в кухне дырку от трубы на потолке, он взял дедов молоток, такой жёлтый с красной полосой на ручке. Дед его очень любил. Говорил, что он хорошо лежит в руке.
Баба Шура проводила ребят и стала искать молоток. На кухне нет, всё просмотрела, на лавке нет, в дом они не заходили. По участку, у колодца – нигде нет! “Куда ж я его засунула?”
До самой темноты она искала молоток. Раздвигала руками траву, смотрела в кустах, за домом и за кухней, хотя кто сюда мог его закинуть… Нет, и всё тут!
Темно, надо бы поужинать да идти спать. Баба Шура села за стол, суетиться не хотелось.
Она помнила, как они с дедом прожили вместе 57 лет, как они познакомились, как ехали из ЗАГСа на трамвае, стоя на задней площадке вагона, и всё, всё, всё… Он был неласков, только однажды, выпивши, сказал заплетающимся языком: “Шурок, ты у меня лучше всех!” И она до сих пор это помнит.
В последний раз она видела его в больнице. В палате было ещё трое мужчин. Было жарко и душно. Он лежал по пояс голый, красивый, широкоплечий, с синими-синими глазами и всё смотрел на неё. Говорить он не мог, чуть могла двигаться левая рука. И он старался дотянуться до её щеки.
Она сама наклонилась и легла щекой в его ладонь, обняла его, сильного, красивого.
Под вечер ему стало трудно дышать, его повезли куда-то… Она бежала рядом с каталкой по длинному коридору, испуганная, и уже не скрывала слёз, а он всё смотрел и смотрел на неё.
Прошло два года, а она всё видит его родные синие глаза. Тихонько всхлипывая, глядя в тёмное окно, баба Шура зашептала: “Васенька… Где ты?..”
И, помолчав, добавила: “А я вот твой молоток потеряла… Завтра опять поищу…”
2019 год
Короткая командировка в Минск
Имея в виду мой опыт работы на выставках – а у меня есть даже медаль участника ВДНХ – российско-китайское акционерное общество “Бинмэкс” пригласило меня принять участие в организации и проведении выставки китайских промышленных и продовольственных товаров в Минске, где “Бинмэкс” имел целью наладить коммерческие связи с местными потребителями.
Выставка проводилась с 6 по 18 декабря 1992 года. И вот в начале декабря я в поезде, направляюсь в Минск. На все смотрю с большим интересом и удивлением, так как в последнее время не приходилось много путешествовать: и билеты дорогие, и привычные южные маршруты отпали из-за невероятных, немыслимых несколько лет назад событий, превративших всеми любимые и желанные курорты в арену боевых действий.
Поразило явное падение культуры, выражавшееся и в поведении моих попутчиков по купе – двух молодых людей, парня и девушки, судя по их разговору, недавно познакомившихся, однако плотно прилепившихся друг к другу и которые, не стесняясь моего присутствия, принимали позы, какие печатаются в известных изданиях, и в странных небритых лицах с подбитыми скулами, то и дело заглядывавших в наше купе, и в жалком виде группы молодых людей со шприцами, вывалившихся из туалета, и в других горьких мелочах, которые замечал мой удивленный взгляд.
Но все это ушло, забылось, как только поезд прибыл в Минск. Здесь я была четырнадцать лет назад. В те далекие времена на одном из заводов мы, московские разработчики, вместе с ребятами из Ленинградского университета отрабатывали программно-аппаратную часть сопряжения дисплейного комплекса для вычислительных машин серии ЕС на опытных образцах, изготовленных в Минске.
И вот теперь я снова здесь. В это раннее утро город показался мне еще более красивым, чем тогда. Я узнавала улицы, переходы, здания. Конечно же он был мне знакомым и близким. Он светил мне теплым светом из моей молодости, полной творческой энергии и грандиозных планов, полной бессмысленных увлечений и ожиданий.
Теперь я медленно с улыбкой на лице иду под моросящим колким дождем. Признаюсь честно, в глубине души думалось, что по приезду обязательно натолкнусь на неприязнь со стороны местных жителей, которые сразу же распознают во мне чужака и по говору, отнюдь не минскому, и по внешнему виду, тоже явно не белорусскому.
Но все было как тогда. Приветливые, спокойные, скромные люди с удовольствием отвечали на мои вопросы и объясняли мне, как проехать к гостинице “Дружба”, что у парка “Челюскинцев” и напротив часового завода “Луч”.
Гостиница оказалась старая, номера без душа, туалета, хотя кругом было довольно чисто. Запомнилась администратор – энергичная русская женщина, которая, подавшись всем корпусом к окошку, с жаром доказывала, что самые надежные в мире мужчины – это белорусы: никогда не предадут, не обманут. Ее возраст и жизненный опыт – а, по ее словам, живет она в Белоруссии более тридцати лет – заставляли с большим доверием и уважением отнестись к ее словам.
В четырехместном номере мы жили вдвоем с еще одной москвичкой, пока к нам не привели четырех тоненьких девочек-сестер в возрасте от семи до двенадцати лет и попросили разместить их у себя. Оказывается, приехал целый автобус детей с родителями из деревни Семиостич для очередного медицинского обследования в клиниках Минска.
Девочки приехали с отцом, а мать осталась в деревне ухаживать за скотиной. Мы усадили их пить чай с московским, вернее, подмосковным клубничным вареньем. За шутками и разговорами узнали нечто непривычное для московского слуха – у кого сколько накоплено единиц радиации, узнали, что у младшей Оленьки, как сказали почти хором девочки, “щитовидка второй степени”. Живут они в “грязной” зоне. Отец говорит: “Надо бы уехать, но куда? Да и дом новый, большой, скотины полно…”
Весь вечер мы слушали их рассказы о деревне, об их доме, о коровах, поросятах. Читали стихи: они нам Якуба Колоса, а мы им – Лермонтова. Хотелось их обнять, прижать к себе, содрать с них эту невидимую радиацию…
Утром чуть свет их подняли, и больше мы их не видели. В памяти остались синие глаза, светлые тонкие косички и смешное перешептывание: “Яки добрые тетки”.
Во время работы для завершения переговоров с одним клиентом – это была директор крупного “Универсама” – мы с сотрудницей “Бинмэкса” были приглашены к ним в магазин. Переговоры завершились, и хозяева предложили нам воспользоваться возможностью купить интересующие нас продукты.
Директор “Универсама”, холеная белокурая красавица, задав нам вопрос: “Чего бы вы хотели?”, приготовилась записывать наш заказ, чтобы тут же отдать распоряжение на его подборку. И как в юмореске Жванецкого у простака, попавшего в спец. распределитель в голове все кружились “пирамидон” и “валенки”, так и мы, растерянно переглядываясь, ища поддержки друг у друга и представляя пустые московские прилавки, кроме “мяса” и “масла” ничего с ходу вспомнить не могли.
Сочувственно улыбаясь, директор сама составила сказочный перечень и, находясь в каком-то гипнотическом состоянии, расплатившись почти копейками, мы ушли, нагруженные до предела.
Очутившись на улице, мы почувствовали досаду за то, что такие неловкие, ничего-то не знаем, за то, что поддались соблазну, за тот взгляд, которым нас провожала директриса. Было стыдно за полные сумки перед другими, снующими по пустым магазинам людьми, такими же работягами. Пропади пропадом все эти деликатесы, половину которых я видела в первый раз. Но дело сделано, и надо это пережить.
Вечерами после работы ходила по городу, чистому и красивому в любую погоду. На проспекте Франсиска Скорины, бывшем проспекте Ленина, увидела бетонную стену – забор строящегося метро с письмами Виктору Цою, полными отчаяния и боли. Этот необыкновенный певец дорог и сейчас здешней молодежи. Запомнилась надпись: “Витя, ты спас нас, так зачем ты ушел?”
Спускаюсь в метро. Прямо на торцевой балке перекрытия согрела душу листовка с таким обращением: “Держитесь, друзья! Мы все равно будем единой державой!” А мне казалось, что только россияне жалеют о распаде Союза.
Хотя с некоторой ревностью отмечаю, что многие минчане едут в Польшу охотнее, чем в Москву. Правда, это, в основном, коммерческие поездки на два – три дня, но они становятся обычным явлением. Везут все, кроме электротоваров, вывоз которых запрещен. В основном вывозят бытовую химию. В декабре стоимость такой поездки на автобусе составляла 6 долларов и 4000 рублей.
Кстати, о рублях. Если промтовары в магазинах можно еще купить за российские рубли, то продукты, которые здесь существенно дешевле, чем в Москве, – только за “зайчики”. Так называют повсеместно белорусские деньги любого достоинства, хотя бегущий заяц изображен лишь на рублевой купюре. А вообще денежный зверинец составляют и волки, и рыси, и медведь, и зубр, и белка, и лось.
Намеренно ничего не пишу о выставке. Она прошла как надо и 18 декабря закрылась. Командировка окончилась.
Уезжала я из Минска с двойственным чувством: это и радость, что возвращаюсь в любимую, родную Москву, к себе домой, но это была и печаль, которая вобрала в себя и воспоминания четырнадцатилетней давности, и встречу с больными девочками в гостинице, и эти “зайчики”, и эти разрозненные штрихи былого единства…
Но, может быть, просто поезд отходил вечером, а в это время, как известно, печаль вылетает из своего убежища и опускает свои мягкие темные крылья на одинокие души.
1992 год
Экология в музыке
В конце августа – начале сентября 1994 года мне, обычному инженеру-электрику, проработавшему 25 лет в обычном московском НИИ, по счастливой случайности удалось побывать в Греции. До этого многие годы приходилось безнадежно завидовать всем тем, кто, не имея допуска к секретным работам и за государственный счет или накопив солидную сумму денег и пройдя многочисленные проверки благонадежности до третьего колена – или не проходя никаких проверок – мог съездить на две недельки посмотреть, как живут другие люди, наши соседи по планете.
Времена изменились, и так случилось, что тогда заболел один скрипач оркестра, а билет пропадал. Быстро все оформили на меня, и вот я в замечательной компании московских музыкантов лечу в неведомые края.
Мы направлялись в небольшую греческую деревушку Хорто, что приуютилась между холмами на побережье залива Погасикос Эгейского моря, где в это время проходил музыкальный фестиваль “Экология в музыке”, в котором приняли участие музыканты разных стран. Россию представлял симфонический оркестр Московского Баховского центра.
Поскольку я очутилась за границей первый раз, все мои чувства были обострены и схватывали самые мелкие отличия от нашей жизни. Я была человеком, наслушавшимся всякой всячины о чужих краях, и теперь с любопытством сравнивала эти слухи с увиденным.
Дорога от афинского аэропорта до нашей деревни заняла шесть часов езды на автобусе. Сразу же за столицей, за ее фешенебельными пригородными коттеджами начинались поля – небольшие по российским масштабам прямоугольники красной земли, на которых зеленели кусты хлопчатника, перца, томатов. Удивило обилие поливных установок, далеко разбрызгивающих драгоценную влагу на поля. В водяной пыли рождались искрящиеся радуги – десятки, сотни маленьких переливающихся радуг.
За полями раскинулись оливковые рощи. Вот огромная плантация молодых посадок, где среди красной земли поднимались растеньица не выше человеческого роста. А вот зрелый оливковый сад, серебристыми кронами закрывающий землю. А дальше – старые, столетней и большей давности посадки. Огромные деревья с корявыми, закрученными причудливым образом, натруженными при добывании из-под земли влаги, кажущимися безжизненными стволами.
Вдоль дороги можно было увидеть и тополя, и пушистые сосны, которые яркой нежной зеленью украшали выжженную 45-градусной жарой землю. Кое-где мелькали пальмы, кипарисы, акации.
Дальше дорога пролегла между холмами, каменистые склоны которых были также засажены оливковыми деревьями. Еще дальше верхушки холмов были срыты и распаханы под пшеницу.
Но вот и Хорто, который на несколько сотен метров вытянулся вдоль залива. Двух— и трехэтажные дома, стоящие фасадами к морю, почти все в первом этаже имеют кафе или ресторан со столиками у самой воды, куда вечерами стекается все здешнее население – а это и местные жители, и туристы, и горожане, как мы говорим, дачники. Один общий пляж проходит вдоль всего берега и лишь изредка прерывается нагромождением камней, пирсом или каналом, врезающимся в глубь материка, в котором покачиваются привязанные лодки. Среди них и обычные, простые, виденные много раз, и катера разных моделей, похожие на нарядные автомобили, сверкающие полированными поверхностями. Поодаль лежат сложенные серфы – доски с парусом, на которых после трудового дня любят покататься мужчины.
Берег гористый, и дома то прижаты к самому морю внизу, то взбегают на гору и радуют глаз с высоты своими белыми стенами, черепичными крышами, резными балкончиками, ажурными решетками, цветниками. Узкие улочки отходят перпендикулярно от моря, и там, в палисадничке, среди листвы мелькнет заботливая хозяйка, поливающая цветы или чистящая овощи, или молодая мать, укачивающая ребенка, а то и хозяин с газетой.
Возле каждого дома – многолетние виноградные лозы, образующие шатры над двориками, с которых свешивались большие кисти крупных ягод. Здесь также росли груша, персик, оливки, в тени которых паслись козы. Что интересно, коз здесь привязывают не веревкой, которая врезается в шею, а надевают специальный намордник. Некоторые хозяева держат кур, индюков.
Каждый день на небольшую площадь у моря приезжает грузовик с овощами и фруктами. Его владелец выносит большие, диаметром в полметра пружинные весы и выставляет корзины с помидорами, луком, картофелем, виноградом, перцем, баклажанами и огромными персиками.
Узнав, что я из России, продавец оживился, что-то быстро заговорил, особо выделяя слова “Херсон” и “Одесса”. Я, до этого просто улыбавшаяся, вдруг, не узнавая себя, радостно закивала и с удовольствием заповторяла эти магические слова, которые сделали этого человека хорошим знакомым, своим на все остальное время.
Здесь же на площади среди пыли, высохших стеблей бамбука, мелких камешков стоит стеклянная будочка с телефоном. Купив рядом в киоске карточку, я через минуту разговаривала с Москвой. Причем не приходилось ни кричать, ни бить по аппарату, ни прикрывать трубку рукой, а просто нормально разговаривать. И только дрожание руки выдавало волнение от необычности для простого россиянина вот так запросто из деревни за многие тысячи километров поговорить с Москвой, да не с Кремлем или Белым Домом, а позвонить в обычную квартиру из спального района.
В Хорто два магазинчика, где можно купить все. В одном из них стоит музыкальный синтезатор, наверное, довоенного выпуска, на котором хозяин по имени Косто, подвижный веселый мужчина лет сорока пяти, иногда музицирует даже в присутствии покупателей. Наших ребят он полюбил сразу и от души каждый день всем дарил сувениры – открытки, зажигалки, редкие у нас специи, а то и угощал рюмочкой водки.
Каждое утро в магазин Косто привозят две большие корзины с вертикально торчащими палками свежего хлеба, который на вкус оказался абсолютно не соленым. Может быть, это и полезно, но непривычно. Купив такую палку в Москве, я обычно домой привожу в лучшем случае половину, а здесь больше одного кусочка есть не хотелось.
Как и глаза, слух тоже находит много нового. Крик осла, быстрый греческий говор, необычный звуковой сигнал у промчавшегося автобуса. Но каждое утро начиналось с радости – раздавался чистый голос трубы, напевающей родное “Наверх вы, товарищи, все по местам…”. Это наши музыканты играли “подъем”. И вся деревня это слышала!
Армянские гены в моей крови почувствовали в Эгейском море что-то родное. Всегда присутствующий страх перед водой здесь наконец-то отпустил меня, и я погрузилась на старости лет в родную стихию, отдала себя ее ласковому касанию, ее заботливому материнскому поддерживанию. Лишь время от времени она заигрывала со мной, щекоча неизвестно откуда взявшимися прохладными струйками. Прошел час, другой… Но нельзя же совсем не выходить из воды. Это же ненормально! Возникла мысль, что неплохо бы спать ночью в море. Явно перегрелась на солнце.
Первый концерт нашего оркестра состоялся вечером на открытой сцене деревенского амфитеатра. Музыканты расселись внизу на полукруглой каменной площадке, а зрители – на веером расходящихся древних каменных ступенях. Собралось около двухсот человек.
Греческий дирижер Георгиос Хадзиникос, выступавший в Москве с этим оркестром весной, был хорошо знаком нашим музыкантам. Зазвучала музыка Дебюсси, Пёрсела, Баха. Приятным сюрпризом для слушателей стало исполнение танцев для оркестра греческого композитора Николаоса Скалькотаса. Пели цикады, качался десятиметровый бамбук, стоящий стеной за спинами музыкантов, звучала прекрасная музыка…
С этого дня я как прикормленная собачонка ходила за оркестром на все его репетиции, концерты, на все выступления наших и других музыкантов, на мастер-классы по вокалу и ансамблю, которые проводились в рамках этого фестиваля, и даже на семинары, которые велись на греческом языке.
В один из дней я познакомилась с 25-летней гречанкой из Афин по имени Лица, которая прекрасно, почти без акцента говорит по-русски, хотя ни разу не была в России, является большой поклонницей русской культуры, любит наши стихи, переводит их на греческий язык, обожает русскую музыку, имеет прекрасный голос и с удовольствием поет романсы Чайковского и Рахманинова. Использует малейшую возможность для выступлений с русской программой, однако с сожалением замечает, что русскую музыку в Греции знают плохо.
Отец и дядя Лицы партизанили в горах во время Второй Мировой войны, а Лицу воспитали в любви ко всему русскому, будучи в полной уверенности, что лучше русских людей на свете никого нет. Это слово в слово поведала мне сама Лица. И если она узнаёт, что в Грецию приехала русская делегация, особенно музыканты, Лица летит на эту встречу.
Сейчас она огорчена тем, что на нынешнем фестивале ее педагог по мастер-классу американка Гаелин Сабора не разрешает ей петь русскую программу. Лица говорит: “Я не могу без этого. Ну, разве ей объяснишь? Это надо рассказывать всю мою жизнь!”
Я сижу за столиком в кафе у моря. Поблизости никого нет. Лишь старик с черно-седой бородой и такой же роскошной гривой вьющихся волос налаживает серф. И вот он, стройный, богоподобный, несется на фоне дальнего холмистого берега залива по гладкой поверхности воды, ловко подхватывая парусом ветер.
Как-то с виолончелисткой оркестра мы решили пойти пешком в соседний город (или деревню) с красивым названием Милина. По дороге среди дикой флоры радостно было встретить в такой дали от дома синенькие цветочки цикория, сочную полынь, такой русский подорожник и бесконечные кусты ежевики, за которую то и дело цеплялись наши лучшие наряды. Идти минут сорок, но по дороге попадались такие уютные бухточки с неправдоподобно чистой изумрудной водой и зовущим песчаным берегом, что наше путешествие затянулось. Хотелось побыть в этой воде, понежиться, потрогать ее, рассмотреть как следует дно, пособирать камушки.
Но вот и Милина. Чуть больше Хорто и вся распласталась вдоль шоссе, протянувшемуся у самой кромки моря, одетой в камень. Так что можно было спуститься на две-три ступеньки, искупаться и тут же сесть за столик ресторана и роскошно пообедать, что мы и сделали. Побродили по улочкам, полюбовались прекрасным православным храмом, купили карту Греции, кое-какие сувениры, но неизменно ноги приводили нас к морю, от которого невозможно было надолго оторваться.
Обратно идти не хотелось, надо было переждать жару. А тут как раз носатый молодой грек впрыгнул в свою моторку “Анастасию”, которая покачивалась среди множества других лодок, и стал тихо отгребать от берега. Уловив наши завистливые взгляды, он не торопился и явно ждал чего-то. Мы не выдержали, извинились и хитро спросили, как нам добраться до Хорто. Он с готовностью показал на “Анастасию”, подкатил ее к берегу, и вот мы летим по воде с бешеной скоростью, кричим на английском что есть мочи от ощущения счастья: “Да здравствует Греция! Да здравствуют греки! Греция – прекрасная страна!!!” На что он согласно кивал, улыбаясь, и только в конце пути, причалив в Хорто, поинтересовался, не англичане ли мы. От русских такого поведения он явно не ожидал. И когда мы, желая расплатиться, спросили его: “Сколько?”, свое отношение к русским он выразил, решительно ответив: “Никогда!”
Спать в Греции мне казалось преступлением. В шесть часов утра я была уже у моря. Старый рыбак в лодке у берега распутывал из сетей рыбу, которую уже успел наловить, и кидал ее старухе в клеенчатом переднике. То он, то она время от времени обращались ко мне по-гречески. Видя, что я ни бельмеса не понимаю, старик спросил: “Итальяно? Джёман?” Я отвечаю: “Роша”– так они называют Россию. Он спросил с видом знатока: “Роша Украйна?” Я: “Роша Москау”. Они, кивая в знак того, что как же, знают, несколько раз повторили друг другу “Роша Москау”. И пока старуха относила рыбу в дом, лукавый старик сумел на пальцах предложить мне в 10 часов покататься с ним на лодке, и даже показал, куда он меня повезет и как там прекрасно нам будет плавать. Вот это старик!
По поводу жестов еще один случай: вчера вечером проходящему во дворе владельцу гостиницы постоялец безуспешно долго пытался сказать, что у него в номере кончилась туалетная бумага. Что русского, что английского хозяин не понимал. Парню пришлось перейти на выразительный язык жестов, что вызвало всеобщее веселье и долгожданное взаимопонимание.
Мы сидим в ресторане “Амбросиа” и пьем отличное греческое вино Кава 1989 года, закусываем креветками, ягненком, тушенном в лимоне и каком-то соусе, и смотрим на корявые палки молний, врезающиеся в холмы на противоположной стороне залива, поскольку невинный вначале дождь перешел в грозу. Внизу под нами молодые греки веселой стайкой высыпали на волны, и до нас долетают их радостные крики.
Картина перед глазами поминутно меняется. Вот холмы за заливом постепенно одеваются туманом, их контуры тают в дымке, вот их совсем не видно, сплошная сизая пелена над морем, но через минуту-другую край неба впереди светлеет, становится видимой первая гряда холмов, потом вторая, третья, и вот уже полностью прояснились знакомые очертания. Пусть гроза продолжается, и дождь, утихнувший было, принимается жарить вновь и опять затихает и возобновляется, но золотая полоса неба ширится от горизонта, растекается все дальше и дальше. Мудрая природа, умыв и напоив все вокруг, позволит своим неразумным детям выползти из укрытий, подставить горячему солнышку намокшие спины, плечи, головы, обласкает и приголубит всех.
Музыкальные вечера проводились и в деревенском музее. Сюда на концерты почти каждый вечер собирались местные жители, заезжие туристы и участники фестиваля. Большой длинный зал музея не имеет потолка как такового, потолком служит внутренняя поверхность крыши, перетянутая стропилами. Толстые желтоватые балки кажутся отполированными. Рельефные каменные стены внизу на полтора метра обшиты узкой вертикальной доской, покрытой светлым лаком. Белый лакированный пол кажется сделанным из карельской березы. По стенам развешаны картины, выполненные в наивной манере, из которых мне понравилась одна: изображен старый грек без руки, на поводке пасущий в лесу рыжую с белыми пятнами свинью, которая гуляет на задних ногах.
Постепенно нарядные зрители заполнили зал. Хадзиникос извинился, что долго будет говорить по-гречески и по-английски, и меньше по-русски, поскольку русская публика более остальных подготовлена к восприятию классической музыки. Что ж, неплохое начало.
Концерт начался с “Фантазии” Шумана в исполнении американского пианиста. Деревенский рояль звучал прекрасно.
Было удивительно сознавать, что из разных точек земли люди съехались сюда, в небольшую отдаленную от столицы деревню, пришли в этот зал, слушают музыку Шумана. А ведь живут за тысячи километров друг от друга, говорят на разных языках, имеют совершенно различные традиции, уровень жизни, культуры, образования. И вот здесь вместе сидят в маленьком на двести мест зальчике, и эта музыка что-то делает с их душами – ласкает, будоражит, успокаивает, извлекает из памяти множество разнообразных чувств. Меня поразила мысль – выходит, что мы все одно и то же?! В сущности? Получается, что так.
Выступление американской певицы Гаэлин Саборы на меня впечатления не произвело. Может быть оттого, что я все еще находилась под гипнозом удивительного пения нашей певицы Хиблы Герзмава, которое мне удалось послушать в Москве? До того мне еще не приходилось слышать такой поразительный по красоте голос, наслаждаться необыкновенной чистотой интонации, восхищаться профессионализмом, всем тем, что делает певицу прекрасной, любимой, известной. Что же касается американки, то она пела довольно нежно, но даже я могла заметить, что она расходится с пианистом, шумно набирает воздух, что ей совсем не даются низкие ноты. Весь голос булькал в ее больших щеках.
Хотя, впрочем, это я чересчур. Пусть поет женщина. Но милосердная публика терпеливо выдержала затянувшееся пение и аплодировала искренне.
Вечером у скрипачки нашего оркестра отмечали день рождения. Двое парней – трубач Илья и валторнист Миша – нарядились римскими патрициями, в тогах из простыней и в лавровых венках приветствовали нас сдержанным поднятием руки. Правда, у одного патриция вместо руки оказался протез, под который он приспособил детские грабельки и все норовил ими по громкому требованию повеселевшей от возлияний публики почесать имениннице спинку.
Совсем поздно, вернувшись в свою гостиницу, я очень хотела присоединиться к моим соседкам из Голландии, которые беседовали у меня под окном, попивая кофе. Но проклятое косноязычие, вернее, незнание языка, который я много лет “изучала”, не позволило вклиниться в их разговор и дальше худо-бедно изъясняться.
А ведь очень хотелось рассказать им, как мы живем, чтобы они не думали, что у нас ходят медведи по улицам, а все мы носим исключительно шапки-ушанки и тулупы. Хотелось рассказать, что наши ребята – отличные музыканты, веселые и остроумные люди. Что наша Россия – слегка приболевшая матушка, которая, без сомнения, скоро выздоровеет, потому что у нее могучий организм от природы и в ней заложены великие силы. И хотя многие бегут из России, ей от этого хуже не будет. Да, сейчас уровень исполнительского искусства снизился, но это все временно, появятся новые люди, новые таланты, их в России на душу населения больше, чем где бы то ни было. Это абсолютно точно, это проверено.
Но вернемся к Хорто. Греческий альтист Димитрис предложил нашим ребятам сыграть вместе флейтовый квартет Моцарта. Они сели попробовать, и родилось чудо. Все сбежались послушать, даже из соседних домов. Было такое впечатление, что они вместе играли много-много раз. Димитрис сказал, что это чудо сотворила музыка Моцарта, и, конечно же, он был прав. Сами музыканты с удивлением обнаружили, что трехчасовая репетиция пролетела несколькими минутами.
Вечером того же дня в деревенском театре при большом стечении народу состоялся очередной концерт. Программа включала музыку Нильсона “Гелиос” в исполнении российско-греческого оркестра, концерт для двух гитар и камерного оркестра Вивальди, романсы Рахманинова в исполнении греческой певицы, концерт Мендельсона, который с нашим оркестром играла 14-летняя армянская скрипачка. Завершился концерт 1-й симфонией Сибелиуса в исполнении составного российско-греческого оркестра.
На мой взгляд, лучше всего прозвучали русские романсы, хотя на фоне стрекотания цикад, шелеста листвы и шуршания ветра сопрано звучит несколько необычно. Но публика отдала свои симпатии оркестру и юной скрипачке. Сами оркестранты своим исполнением остались недовольны, но известно, что настоящие музыканты бывают иногда излишне требовательны к себе. Хорошее вино в ночном ресторанчике слегка исправило упавшее было настроение, а греческие блюда с большим количеством перца вообще переключили внимание от этой темы.
Удивительные закаты в Греции. Желтое, красноватое, алое и изумрудное море, фиолетовое, пепельно-синее небо и стремительно падающий, быстро меняющий очертания по нижнему краю оранжевый с синевой потухший диск солнца. Добавьте сюда кружева аспарагуса, растущего здесь кудрявым деревом, через которые смотришь на эту картину, и вы поймете, что если бы вся прелесть Греции заключалась только в этом, то и тогда стоило бы ехать за тридевять земель, чтобы не пропустить эти мгновения.
Понятно, что повсюду на земле можно увидеть не менее прекрасные закаты и восходы нашего солнца, не одной Греции оно светит, но для северян южное очарование такого вечера подсознательно окрашено всплывающими из памяти стихами, живописными полотнами, музыкой, волшебными сказками, собираемыми как бы просто так, про запас, до поры нашим чутким восприятием жизни, и лишь теперь, на отдыхе, когда голова и душа не обременены будничными заботами, силою приятных обстоятельств отодвинутыми на задний план, на потом, глаза отрываются от земли под ногами, душа распрямляется, выставляя на поверхность то огромное знание, которое копилось на протяжении жизни, навстречу морю, закату, этому чудному вечеру и ночному небу.
Поначалу в Хорто вызывало беспокойство то обстоятельство, что там по утрам в рупор произносят какое-то объявление или предупреждают о чем-то, да так громко и строго, как будто везут контейнеры с ядерным топливом и просят всех разойтись по домам подобру-поздорову. Оказалось, немного не то. Это торговцы арбузами на своих машинах, в основном хондах и сузуках, проезжая по деревне, объявляют о своем товаре. Так же хозяева развозят лук, картофель и другие овощи и фрукты. Вот тебе и ядерное топливо.
Занятия по мастер-классу струнного квартета вела мадам Морган из Франции. Замечания она делала только на французском языке. Димитрис же переводил их нашим ребятам на английский. А если у них возникали какие-то вопросы, перевод происходил в обратном направлении. Но жесты, мимика, экспрессия и обаяние мадам Морган делали порой перевод ненужным.
Мне, однако, показалось странным, что она не знает английского языка, хотя, быть может, это принципиально. Ведь французы ревниво оберегают свой язык, свою культуру от надвигающегося американского поп-монстра.
Мадам осталась очень довольна игрой наших ребят и предложила им сыграть этот квартет на одном из фестивальных концертов, что они и проделали в один из вечеров с большим успехом, повторив этот квартет на бис.
Удалось мне побывать на репетиции исполняемого совместно с греками концерта для трубы и струнных Торелли. Странное на взгляд новичка сочетание инструментов оказалось удивительно приятным. Мягкий, нежный голос трубы гармонично ложился на бархатные звуки виолончели, альта и скрипки. Хотелось слушать еще и еще, но нас ждали автобусы, и надо было всем срочно отправляться в город Волос, где должен состояться концерт. Ребята шутили, что, когда приедут русские, Волос встанет дыбом.
Приехали вечером, когда Волос был весь в огнях. Уютный небольшой театр еле уместил на своей сцене пятьдесят музыкантов. Концерт начался вступительным словом Хадзиникоса и прошел успешно: музыка Сибелиуса и исполнение понравились слушателям. Хадзиникосу и музыкантам долго аплодировали. Дирижер был очень доволен таким вниманием соотечественников, благодарно кланялся и излучал счастье.
Но вот настала пора уезжать, фестиваль окончился. Последняя ночь в Хорто. Никто не спит. Греки с нашими ребятами обмениваются адресами, бродят по деревне, заглядывают во все ресторанчики, прощаются.
В семь часов утра автобус на Афины. Лица едет с нами. Погрузили вещи, инструменты и – в путь. Взгляд старается все увидеть, запомнить.
Ударник Максим вышел к водителю, повернулся к нам и сказал благодарное слово всем музыкантам, грекам, нашим спонсорам, которые организовали этот фестиваль. Дело кончилось объятиями и поцелуями.
А мы все едем и едем… Несколько раз мы видели Хорто, когда автобус менял направление, набирая высоту на холмах. Сначала это были его последние дома, потом нам представилась почти вся деревня, утопающая в зелени, и в последний раз мы увидели между огромными холмами маленький треугольничек домиков, прилепившийся длинным основанием к берегу залива. Печаль расставания смешалась с радостными впечатлениями проведенного в Хорто времени, и было непросто это пережить.
За окнами пшеничные поля на срезанных вершинах холмов, бесконечные оливковые рощи, огороды, и так почти шесть часов езды.
Пригороды Афин встретили нас прекрасными коттеджами. Лица села к микрофону и объясняла нам по ходу, где что. Вот стадион, где в 1896 году возобновились Олимпийские игры, вот здание парламента, вот университет, где наша Лица учится на юридическом факультете.
Разместили нас в двухместных номерах гостиницы “Декарт”. Было воскресенье, 14 часов. Завтра утром улетаем в Москву. Наша задача попасть в Акрополь, который сегодня закрывается в 15 часов. И мы с этой задачей справились. Бегом вверх по афинским улицам, бегом мимо километрового вещевого рынка, где в сутолоке людей и машин можно было легко затеряться. Все выше, выше, сердце уже стучит где-то в горле. Но как только увидела огромные колонны Парфенона, как только ступила на священные камни Акрополя, отполированные миллионами ног, забылось и то, что невозможно дышать от беготни и жары, что блузка прилипла к спине, и что пот в три ручья, и что ноги до крови стерты пылью, попавшей в босоножки, и что некуда спрятаться от солнца.
Успели только ахнуть – вот они, кариатиды! – посмотреть на открывающийся отсюда вид на город, постоять в тени древних колонн, как резкие свистки служителей погнали нас вон к выходу, не давая отдышаться, подумать, проникнуть мысленно в толщу веков. Увы, пришлось оставить все это на потом. А сейчас вместе с тысячами других туристов, старых и молодых, белых, черных и желтых, в шортах, рясах, сутанах, туниках, сарафанах, с детьми, внуками, вместе со всей этой пестрой массой нехотя перетекать от площадки к площадке вниз, подгоняясь пронзительными свистками вежливого персонала: “Пожалуйте на выход, господа”.
Остаток дня пролетел быстро. Купила себе шубу, ажурную, как бы связанную крючком клеенчатую скатерть, сувениры.
Вечером улица Плутарха – огромная крутая лестница – привела нас к фуникулеру, который еще дальше взбирался почти вертикально, и мы поднялись, наконец, на смотровую площадку самой высокой точки Афин. Трудно передать, что открылось нашему взору: огромный город где-то внизу, весь в мерцающих разноцветных огнях, обозначающих проспекты, улицы, площади, потоки машин. И так во все стороны. А мы, внезапно онемевшие, стоим наверху и с поднебесной высоты смотрим на таинственное, непостижимое творение рук человеческих.
Последнее утро в Греции. Собираемся, грузим вещи в автобус, укладываем инструменты. Лица здесь. Фотографируется со всеми, ее целуют, обмениваются адресами, звучат последние прощальные фразы. Я сижу в автобусе. Мне из окна видно, как Лица еле сдерживает слезы, улыбается, по ее лицу время от времени пробегает то ли тень, то ли судорога. Увидев в автобусе кого-то еще, она вновь вспыхивает, что-то кричит, машет рукой, делает какие-то знаки… Отвернувшись от всех, я вытираю мокрые глаза.
1994 год
За двумя морями
В июле 1997 года путевку в Египет я купила в турфирме в самом центре Москвы у приветливой девушки, которая на мой вопрос о классе отеля ответила: “Звездочек где-то между тремя и четырьмью”. Удивившись новой категории отеля, но удовлетворившись ценой путевки, я отправилась в Египет.
В самолете Москва—Хургада в салоне для некурящих было полно детей. Одиннадцатилетнему парнишке, сидящему прямо за мной, весь полет было плохо, его тошнило. По радио объявили, что нужен врач. Мать у всех просит активированный уголь. Мой молодой сосед сострил: “Тут надо шахтера вызывать, а не врача”. Сам он хирург-офтальмолог, однако сейчас работает по сбыту автомобильных запчастей. Жалеет о том, что не удалась врачебная деятельность, но ему с семьей на зарплату 200 тысяч рублей не прожить.
Летели 4,5 часа, плавно приземлились. Несмотря на сильный ветер, раздувающий юбку парусом, прямо на трапе пахнуло жаром, температура плюс 34 градуса. В аэровокзале формальности сведены до минимума: заполнила карточку прибывшего, в паспорт наклеили визовую марку, шлепнули рядом печать и пропустили в зал, где выдают багаж. Таких чемоданов, как у меня, на конвейере крутилось несколько, и лишь то, что я предварительно начертила фломастером под ручкой большую букву “Л”, помогло мне избежать неприятности – схватить чужие вещи.
Из прохладного аэровокзала уходить в жару не хотелось. Кое-как добежала до микроавтобуса с кондиционером. Практичный гид-египтянин по имени Мустафа на ломаном русском языке сразу выдал самые, по его мнению, необходимые нам сведения: курс доллара – 3,39 египетских фунта, один грамм серебра стоит 1-2 фунта, золота – 10-12 долларов.
Город Хургада молодой, ему всего 20 или 12 лет – точно не разобрала, еще не привыкла к акценту нашего Сусанина. Прежде это был рыбацкий поселок, здесь также жили британцы, которые искали нефть в этих местах. Сейчас город протянулся более чем на 20 километров вдоль моря. Население – 200 тысяч человек.
В Хургаде дождей не бывает. Иногда небо нахмурится, проплывут облака, тем дело и кончится. В прошлом году один раз шел дождь – город понес огромные убытки. В 20 километрах к северу находится самая большая каменоломня Египта, где во времена владычества римлян добывали ценный камень порфир.
Теперь египтяне здесь, в голой пустыне, стали строить отели, шикарные и простенькие, для привлечения туристов с разными кошельками. Большинство неприхотливых россиян, выбравших для зарубежной поездки Египет, откликнулись именно на отели типа между “тремя и четырьмью” звездочками. Поначалу им было уже достаточно того, что это Африка, что жара под пятьдесят, что выйди из отеля – и вот оно, море, с теплой прозрачной водой, что кругом иностранцы. Это потом они будут возмущаться, если им вовремя не поменяют полотенца или постельное белье, будут требовать встречи с хозяином и отстаивать свои права.
Дорога к отелю ужаснула, настроение упало: никакого города, кругом большая стройка, вдоль дороги кучи строительного и бытового мусора, постоянно дующий сильный ветер гоняет пластиковые бутылки, пакеты, обрывки бумаг. Земли нет – одни желтые камни, песок… Ни кустика, ни веточки, и надо всем этим – жаркое густое марево.
Дорога вьется вдоль берега. Прежде отели строили лишь на дальней от моря стороне дороги, а теперь все ринулись застраивать сам берег. Более того, купив землю для строительства, отхватив кусок берега, хозяева стали возводить по краям этого куска насыпи, уходящие далеко в море, и на них строить бунгало, навесы, кафе, пляжные грибки с крышами из засохших пальмовых листьев. Так что отели, стоящие за дорогой, оказались отодвинуты далеко от воды. И теперь они заключают договоры с владельцами прибрежных отелей на использование их отдыхающими пляжа этого отеля-паразита, присвоившего берег. Местные говорят, что скоро эти насыпи дойдут до середины моря, благо оно здесь довольно мелкое, а камней хватит, чтобы вообще все на свете засыпать. Если прежде здесь один квадратный метр прибрежной земли стоил один или два доллара, то теперь, с развитием весьма выгодного туризма, – 250 долларов.
Едешь мимо этого мусора, мимо лачуг, мимо простых, обыкновенных домов, мимо рядовых, иногда неплохих на вид строений – и вдруг среди всего этого неустройства покажется сказочный дворец великолепной арабской архитектуры, отель высокого класса, сверкающий, нарядный, с большими окнами, золотыми украшениями, ухоженной территорией вокруг, с пальмами и цветами. Как будто павлин залетел в стаю бесхвостых кур.
Я сижу на бережку Красного моря в тени от стенки из плетеной соломы, отделяющей пляж соседнего отеля. До меня долетают брызги волн, бьющихся о прибрежные камни, и приятно обдувает ветер, позволяя спокойно переносить мне, северному жителю, сорокоградусную жару. Но в море идти не хочется – уж очень много на воде взбитой ветром со дна грязи. Плавать я не большой мастер, даже, можно сказать, не умею, далеко не уплыву, так что мой удел – бултыхаться среди этого мусора.
Что же такое это Красное море? Пока не знаю. Сразу за песчаной косой и прибрежными камнями – салатного цвета пояс с белыми барашками волн, за ним восхитительное изумрудное пространство, кое-где перечеркнутое синими полосами, постепенно переходящее в сплошную черно-синюю даль, где у самого горизонта розовеют кажущиеся отсюда невысокими горы.
Номер в отеле мне не понравился. Маленький, окно “упирается” в соседнюю стену, расположенную в двух метрах от моего окна. Кондиционер не работает. Единственное привлекательное место – потолок в виде высокого купола с четырьмя узкими не застекленными бойницами по 4 сторонам.
От отчаяния, что придется две недели провести в этой каморке, пошла в рецепшен, где стала врать, что я художница и хотела бы по утрам видеть перед глазами море. И – о чудо! – мне номер поменяли, правда, запросили 10 немецких марок, которые тут в большом ходу.
Новый номер располагался на втором этаже – огромный, комната метров 50 с балконом, с которого как утром, так и в любое другое время можно любоваться морем, правда, для этого надо свеситься с балкона далеко вперед и вытянуть что есть мочи шею, так как прямой обзор затрудняют вышеописанные купола. Но это намного лучше прежнего.
Из окна, смотрящего на дорогу, видно, как по шоссе в сторону белой, состоящей из кубических конструкций, виллы, пристроившейся поодаль на невысоком холме, не торопясь идут два худых египтянина в чалмах и длинных до щиколоток холщовых рубашках и несут на плечах большие прозрачные бутыли с водой. Время от времени изнутри к чугунным воротам особняка подходит привратник, вяло помахивая метлой. На крыше – спутниковая антенна. Больше ничего не видно. Кто там живет? Есть ли женщины, дети? Мустафа сказал, что у богачей сейчас в моде приглашать в качестве домоправительницы француженку, которой платят большие деньги.
Удалось выпросить телевизор. Пришлось сказать, что я очень люблю египетскую музыку, что было недалеко от истины, так как меня всегда привлекала любая народная музыка. Оказалось, что египтяне питают пристрастие к пышным красавицам: все дикторши, героини всех спектаклей были именно такими – пухленькими, черноволосыми, кареглазыми с белой нежной кожей и сочными яркими губами.
На ужин предложили овощи, кусок курицы, макароны и на десерт кусочки арбуза. От Африки я ожидала чего-то более экзотического, типа жареных личинок или маринованных жуков. На завтрак тоже все знакомое – хлеб, сыр, хлопья, молоко и масло. Правда, в один из дней в числе других блюд на обед подали барракуду (а может быть и не барракуду вовсе). Шеф-повар в белом халате, накрахмаленном колпаке и в красном шарфе на шее гордо стоял возле овального блюда с огромной рыбой, украшенной соусами и зеленью, и лопаткой отделял каждому кусок, на который тот указывал. Что там курица! Мясо таяло во рту.
В городе на первый взгляд везде беспросветная бедность. Еще бы: 96 процентов территории страны – пустыня с невероятной жарой. В таких условиях трудно жить богато. А грязь, по-моему, оттого, что работают горничными и убираются везде – на улице, в номерах – мужчины. Ну как может мужчина убраться? Размазать грязь равномерно – это да, а навести чистоту – вряд ли. Тут мужчины и официанты, и повара, и экскурсоводы, и продавцы, и начальники. Женщин совсем не видно.
Экскурсия в Каир, стоимостью 80 долларов, началась в 2 часа ночи. Потратить такую сумму я решилась по многим причинам, первая из которых – это то, что 500 километров будем ехать по египетской земле, и можно будет за шесть часов посмотреть, что это за страна, какая тут земля, какие будут встречаться поселения, люди, повозки, строения. Хотелось увидеть Каир и Нил. Когда еще доведется побывать в Африке? И, наконец, предел мечтаний – пирамиды, Сфинкс и Каирский Национальный музей. Огорчало, что едем ночью – что-то увидеть удастся лишь под утро.
На окраине Хургады у полицейского поста собралась вереница туристических автобусов, цепочку возглавила полицейская машина, и мы отправились. Ехать далеко, в дороге всякое может случиться, могут даже напасть террористы, поэтому водители собираются и едут вместе, чтобы при случае помочь друг другу. По той же причине обеспечения безопасности у въезда на территорию каждого отеля дежурит полицейский с рацией и оружием.
Большую часть пути за окном красный песок. Это Аравийская пустыня. Слева поодаль от шоссе – равномерными зубцами кучи белой щебенки для предохранения от разлива Нила, который течет параллельно дороге в ста километрах отсюда. Песок постоянно засыпает трассу, и по обеим сторонам видны следы работы бульдозеров, отодвигающих его от проезжей части.
Бывшие слева в отдалении красноватые горы приблизились и совсем наступают на нас. В горах добывают красный, белый и зеленый гранит. Из самого ценного, черного гранита сделаны знаменитые гробницы в Луксоре. Но кирпич для строительства по всему Египту возят из Каира, так как нигде больше нет кирпичных заводов.
Приближаемся к Суэцкому каналу. Справа – огромные танкеры с крошечными катерками-лоцманами, слева – нефтяная база, гостиница. До Каира осталось 125 километров. На рыжей земле появилась кое-какая зелень, маленькие белесоватые кустики, чувствуется близость Нила, который снабжает водой всю страну. Вот деревня бедуинов с жилищами из тростника.
А гид в это время рассказывает нам, кто сколько в Египте зарабатывает. Средняя зарплата – 70-100 долларов в месяц. В турфирмах – 650-900 долларов, банковские служащие получают 300 долларов. Самые высокооплачиваемые люди в Египте – это врачи. Врач получает 4-5 тысяч долларов в месяц. Один литр бензина стоит один фунт, т.е. менее 30 центов. Один килограмм цемента стоит 50 пиастров. Наша “Лада” стоит здесь 18 тысяч долларов.
Но вот и Каир. Пригород, по которому мы въезжали в город, представлял собой огромное многоквартальное кладбище с одноэтажными, двух— и даже трехэтажными склепами. В некоторых были заметны признаки жизни. Кто-то из живых – родственники ли, другие, посторонние люди – облюбовали себе это жутковатое жилище и живут рядом с усопшими. Кое-где на крышах склепов на веревке болталось выстиранное белье, где-то стояли стулья, лавки вокруг низкого очага, горел свет. Жилья в городе с 18-милионным населением не хватает, многие рады и такому. Вторые этажи в склепах предназначены для родственников, которые приходят иногда навестить умершего, посидеть около него, подумать, в определенные дни здесь собирается большая родня и устраивается пышная трапеза. Если родных не осталось, то второй этаж пустует и его может занять любой. В богатые склепы проведен телефон. Богатые родственники нанимают специального смотрителя, который, может быть даже с семьей, живет в склепе, убирает там, следит за порядком и все готовит к приходу хозяев.
В городе нас передали каирскому немолодому экскурсоводу, г-ну Абдель Хади Мохамеду. Он окончил Каирский университет. Два года работал на строительстве Асуанской плотины. Знает русский и английский языки. В 70-х годах был в Запорожье на Днепрогэсе, в Москве, Хабаровске, Братске. Его жена – агроном, дочери 10 лет. Первым делом он повез нас в Каирский Национальный музей. На площади перед музеем газовало и разворачивалось множество автобусов, которые привозили и отвозили экскурсантов, толпились люди, слышалась разноязыкая речь.
В этом удивительном музее полтора миллиона экспонатов. Толкаясь среди туристических групп, мы еле успевали за нашим Мохамедом, который устало, без напряжения голоса, монотонно перечислял все, мимо чего мы проходили. Вот стол для бальзамирования, вот саркофаги из прочного дерева сикомора, а вот из мрамора, из известняка, вот статуя фараона Микериноса, а вот из черного гранита изваяна богиня любви Хато. Вот статуи фараонов Хеопса и Хефрейна из темно-зеленого диорита. Если на статуе изображен лотос и папирус, значит, фараон был властителем Верхнего и Нижнего Египта.
Мохамед слегка оживился, когда начал хвастать секретами египтян, которые никто не может разгадать до сих пор. Первый – секрет бальзамирования, второй – изготовление натуральных растительных красок. Краски, которыми изображены, например, известные на весь мир Мейдумские гуси, не потеряли своей яркости в течение двух с лишним тысяч лет без реставрации.
Гробницы фараонов и богатых жрецов веками привлекали к себе грабителей, которые вскрывали входы в пирамиды и, проникая в замаскированные камеры, забирали все ценное: золотые украшения, изящные изделия, предметы культа. Современные грабители уносят из гробниц даже фрагменты настенных надписей, нелегально сбывая их в европейские и американские музеи. Древние пытались обезопасить свои гробницы от грабежей и устраивали так, что, когда вор протягивал к саркофагу руку, на него сверху падал камень и убивал его. Но, увы, вслед за первым приходили другие воры…
На втором этаже этого уникального хранилища расположена огромная коллекция предметов, найденных в 20 веке в не тронутой ворами гробнице умершего почти три тысячи лет назад в возрасте 18 лет фараона Тутанхамона. Рассказывая об этом правителе, Мохамед называл его “этот мальчик” или “Тутанхамончик”, говорил о нем с любовью, как будто бы знал его живого. Меня поразили столы для бальзамирования, которые изображали спины львицы и бегемота. Ножки столов сделаны в виде лап этих животных, а спереди изображена голова плачущей львицы и плачущего бегемота. Можно было представить себе, как поочередно на спинах этих животных лежало тело фараона, как в течение 90 дней его натирали бальзамами, как плакала его жена и все вокруг. Древний мастер так прекрасно изобразил горе животных, что, глядя на них и представив всеобщую скорбь, было трудно оставаться спокойной.
В зале можно было увидеть кровать Тутанхамона, его сандалии, щит, покрытый пятнистой шкурой леопарда, стрелы, посуду, бумеранги из слоновой кости для ловли птиц, ларец для драгоценностей, водяные часы, боевые колесницы, трон фараона, его веер из перьев страуса, шахматы и даже букетики васильков, которые принесла умершему мужу молодая жена. Показав нам походную раскладную кровать, а проще говоря раскладушку, Мохамед сказал: “Как видите, ничего нового нет под солнцем, все это уже было”. Эту фразу он с философской интонацией повторял не раз и не два. Вот маленький саркофаг размером с табуретку в виде небольшого сундучка для сердца, печени, других внутренностей, которые бальзамировались отдельно. И, конечно, мы увидели знаменитую маску фараона, золотые украшения и его золотой саркофаг весом 207 кг.
Времени было немного, программа экскурсии обширна и, с сожалением простившись с музеем, мы отправились дальше.
В Каире множество машин. В пробках рядом с нами стояли автобусы, автомобили разных марок, мотоциклы, ослики с тележками. Проехали мимо памятника “Пробуждение Египта”, изображающего сфинкса рядом с египетской крестьянкой. Вот Каирский университет с 35 тысячами студентов, 40 % из них – женщины. Начальная школа – шестилетка, среднее образование получают в течение трех и высшее тоже в течение трех лет. Вступительные экзамены не сдают, принимают по последним школьным баллам. Если набрал 95 баллов, можешь поступать на медицинский факультет, 90 баллов – можешь учиться на инженера, если набрал 80 баллов, то пустят учиться только на агронома. Если набрал еще меньше, то иди в торговлю. Отличникам платят стипендию 120 фунтов в месяц.
По широкому проспекту доехали до плато Гиза, на котором увидели седьмое чудо света – пирамиды фараонов. Они все ближе, ближе, вот мы едем мимо одной из них, пирамиды Хеопса, и наш автобус кажется муравьем рядом с огромным слоном. Повсюду машины, верблюды, кони, туристы из разных стран, разного возраста, в разных одеждах, организованные в группы или путешествующие самостоятельно. Шум, крики, цокот копыт, храп животных, призывные голоса торговцев. Среди всего этого носятся, завернутые почти до глаз в светлые ткани, бедуины в тюрбанах на стройных лошадках или на украшенных кисточками и бубенчиками верблюдах, покрытых яркими попонами. Они предлагают прокатиться или просто посидеть в высоком седле. Этот бизнес запрещен, и можно было заметить группу всадников, спрятавшихся за углом пирамиды и опасливо выглядывающих оттуда. Они высматривали, нет ли поблизости полиции. Полиция не дремала, то и дело площадь перед пирамидой пересекали всадники в серой униформе на скромных, без украшений верблюдах, разгоняя услужливых хозяев пустыни.
Это, как сказал г-н Абдель Хади Мохамед, как наши цыгане, они сажают туриста на коня или верблюда, скачут далеко в пустыню и там требуют сто долларов за возвращение его к автобусу. Или же сажают на верблюда бесплатно, а сойти с него ты можешь, лишь уплатив хозяину животного 10 долларов.
Но что же пирамида? Огромное, поражающее своими размерами сооружение. Чтобы увидеть его верхушку, надо далеко назад запрокинуть голову. Огромные с мелкими щербинками желтые блоки плотно пригнаны друг к другу. По ним, кажущиеся муравьями или просто темными точками, ползают смельчаки, пытающиеся взобраться выше и выше, но дальше двух-трех ярусов этого делать не разрешается или невозможно, т. к. это довольно опасно. Был случай, когда с верхушки упал кусок гладкой облицовочной плиты, которыми прежде была покрыта вся пирамида. Многие сидят на корточках или просто на земле в тени пирамиды, прислонившись к ней, наблюдая за происходящим на площади или мыслью проникая в тысячелетия.
Жара под 50 градусов. Я сумела только выскочить из прохладного автобуса, добежать до пирамиды метров сто-сто пятьдесят, погладить древний, отполированный миллионами рук блок основания и броситься назад, пока от меня не осталась горстка пепла. По дороге, правда, успела купить арабский головной убор – белый платок с черным валиком. Короткий бросок к пирамиде все же дал много впечатлений: почувствовать, как можно вдруг задохнуться от жары и ослепнуть от безжалостного солнца, ужаснуться отчаянности самодеятельных альпинистов, вздрогнуть, услышав внезапно прямо над ухом храп проносящегося мимо коня с мальчишкой-наездником, потрогать время, остановившееся в прохладных блоках пирамиды, отбиться от назойливых всадников, мечтающих умчать меня в пустыню, разглядеть красивую, мышиного цвета полицейскую форму, насладиться шумом и толкотней восточной площади, запруженной людьми со всего света, поминутно оглядывая пирамиду снизу вверх и обратно, цепляясь взглядом за малейшую неровность, за изменение оттенка камней, восхищаясь игрой света и тени, стараясь навсегда запомнить эту удивительную картину.
Постепенно все возвращаются в автобус. Зашла девушка и говорит своей маме, показывая платок: “Вот, мне подарили подарок”. Никто не удивился – девушка молодая, симпатичная. Вдруг на большой скорости к автобусу мчится разъяренный всадник и требует подарок назад. Оказывается, как объяснил нам Мохамед, если тебе дают подарок, ты должен что-то подарить в ответ или дать деньги. Смущенная девушка вернула платок.
Но вот вся наша группа на месте, и мы едем дальше. Составители маршрута экскурсии решили окончательно сразить нас, и автобус сначала сделал прощальный круг, объехав пирамиды, а затем повез нас выше и выше, на самую высокую точку плато. Здесь взгляду открылась восхитительная панорама с тремя пирамидами, видимыми одновременно, одна больше другой: Хеопса, Хефрена и Микериноса, отца, сына и внука. Справа, насколько хватал взгляд, расстилалась песчаная пустыня. И там, далеко-далеко, в ложбинах между барханами, были видны небольшие группы всадников, которые, наверное, должны были сменить тех, что зарабатывали свой нелегкий хлеб на площади перед пирамидой. На желтом песчаном фоне из вишнево-голубой группы вдруг выделится изящный маленький силуэт верблюда или впереди всех окажется как бы игрушечная тонконогая лошадка. Белые тюрбаны, голубые длинные одежды, бордовые попоны, яркие цветные сбруи с кисточками – незабываемое зрелище.
От сфинкса, казалось, уйти невозможно. Притягивал загадочный величественный вид его фигуры, высеченной из цельной скалы, его огромные размеры: высота 20, длина 73 метра, притягивала его многовековая служба на страже пирамид, его драматическая судьба, когда несколько раз его откапывали из поглотившего песка, или когда по нему прицельно стреляли из пушки и отбили часть лица. Прошли века, сменились десятки, сотни поколений, а он все так же, вытянув вперед лапы, день и ночь настороженно смотрит в пустыню. Кажется, что этот страж живой, просто он не обращает на нас, копошащихся у его ног, никакого внимания. Надо только постоять, пристально приглядеться – и тогда наверняка можно будет заметить, что да, действительно, он живой.
Наступило время долгожданного обеда. Нас повезли в ресторан. Когда автобус стал притормаживать у невысокого заведения, грянула ритмичная радостная музыка. Мы с изумлением увидели группу из 5-6 музыкантов в длинных одеждах, которые, высоко подняв бубны, азартно отбивали ритм, гудели в дудки, и под эти оглушительные приветствия, пройдя мимо них, мимо уличной печи, где тут же на наших глазах выпекали пышные лепешки, мы погрузились в темноту обеденного зала. Все сели за один длинный стол. Предложили на выбор морскую жареную рыбу, курицу, люля-кебаб и шашлык. Вино, разнообразные салаты, десерт в дополнение к мясу составили неплохой обед.
Вещевой базар, куда нас привез Мохамед, располагался на длинной, может быть даже с километр, улице, застроенной высокими домами. По обеим сторонам и даже посередине улицы – бесконечные лотки, палатки, магазинчики, тележки. Вещи повсюду: справа, слева, спереди, сзади и высоко над головой, на уровне второго и даже третьего этажа. Продавцы истошно кричат, зазывают покупателей. Если тебе что-то приглянулось, но не устроила цена, продавец начнет уступать. Войдя в азарт, он может отдать вещь почти бесплатно. Отойти нельзя. Мохамед сказал, что если после многократного снижения цены ты все же ничего не купишь и отойдешь от прилавка, продавец может пырнуть тебя ножом, так как ты своим отказом опозоришь его перед другими продавцами.
В этом месте Каир поразил меня обилием людей, грязью, прекрасными зданиями и сооружениями, множеством калек с изуродованными конечностями, нищих всех возрастов, которые толпами сидели на лестницах подземного перехода. Жаль, что не удалось посетить мечеть Салах эд-Дина, лучшую мечеть Каира. А вообще со средних веков в городе сохранилось 1000 мечетей, как сказал Мохамед, одна лучше другой.
Мы посетили еще одно замечательное место – папирусную мастерскую. Хозяин рассказал, как долго современные египтяне искали секрет изготовления папируса. Особенно не давались поиски нужного клея. И лишь недавно, лет сорок назад, загадка разрешилась. Папирус – это тростник высотой три – пять метров, сечение стебля треугольное. Со стеблей снимали кожицу, их отбивали, делали плоскими. Затем прокатывали катком и погружали в воду на шесть дней. После этого полоски укладывали крест на крест, формируя нужный размер листа, и помещали под пресс на шесть дней. Стебли склеивались автоматически без какого бы то ни было клея. Хозяин во время своего рассказа показывал и срез папируса, и как его отбивают, прокатывают, как формируют лист, как укладывают под пресс, и что получается в конце. Он сказал, что по такой технологии теперь делают “папирус” из банановых и кукурузных листьев, рисуют на нем древние картинки и продают невежественным туристам. В книжном магазине в Хургаде все полки были завалены именно такими “папирусами”, в том числе и с Мейдумскими гусями.
Обратная дорога далась тяжело. Уезжали вечером, все устали, притихли, многие дремали в темном автобусе. Сидя за водителем, я видела, что и у него слипаются глаза, что он вот-вот заснет – автобус налетит на камни, перевернется. Я начинала ерзать, покашливать, шуршать пакетами, водитель вздрагивал, выпрямлялся, глаза его открывались, и мы сколько-то ехали спокойно. Однообразная дорога вновь убаюкивала его, и все повторялось. В таком напряжении прошло несколько часов.
Но вот и Хургада, вот наш замечательный, такой желанный отель, где можно вымыться, лечь в широкую кровать, вытянуть, наконец, уставшие ноги и заснуть в чистоте и приятной прохладе.
С утра море было спокойным, и можно было купаться. Красное море – это изумрудное чудо. Только входишь в воду, как у самого берега от ног отлетают серые с желтыми плавниками и хвостиками рыбки. Это могут быть и малыши по 10-12 сантиметров, а могут быть крупные рыбины в полметра длиной. Если остановиться в воде по щиколотку и замереть, то, осмелев, малыши будут тыкаться тебе в ноги, пробуя откусить от них кусочек. Это очень необычное ощущение. А если отплыть подальше от берега – чего только не увидишь: кораллы разной формы и цвета, моллюски невиданных очертаний: трубчатые, круглые, волнистые, с рогами, а рыбки – как будто плывешь в самом изысканном аквариуме. Тут тебе и с синими вуалевыми хвостами, и красные с пышным оперением, и золотые, зеленые, голубые, и всякие, всякие. Удивила скорость, с которой загораешь даже в тени.
На лежаках 4–5 человек, разморенных жарой. Подошел парень с соседнего пляжа: “Ну, наконец слышу родную русскую речь. Дайте огонька”. Двое в толстых золотых цепях, с массивными золотыми перстнями, громко поинтересовались: “А ты сам откуда?”
– Из Минска.
– Работаешь тут?
– Почему сразу “работаешь”? Отдыхаю.
– Ему еще огонька, ё! Кормили их, кормили всю жизнь, сосали Россию, а теперь еще закурить дай. А не хочешь, нефть и газ перекроем? Попляшете тогда. Огонька ему.
