Россия: страна, которая хочет быть другой. Двадцать пять лет – взгляд изнутри
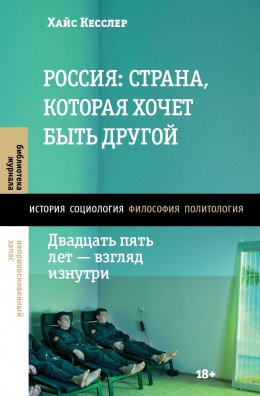
Copyright © 2022 by Gijs Kessler
Originally published in 2022 by Uitgeverij Prometheus, Amsterdam
© М. Снук-Горелик, перевод с голландского, 2025
© И. Дик, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Даше (1973–2015)
Предисловие к русскому изданию
Эту книгу я написал для голландского читателя, чтобы рассказать ему об «эпохе перемен» постсоветской России, где я провел бо́льшую часть своей взрослой жизни. Мне хотелось поделиться с публикой своим опытом работы и жизни в той далекой стране, которую у нас до сих пор так мало знают и еще меньше понимают. Нынешним изданием русского перевода книга, можно сказать, «возвращается домой» – это очень много значит для меня. И я искренне надеюсь, что российский читатель найдет в ней интересное для себя. Для тех, кто пережил тот период, о котором идет речь в книге, мой «взгляд со стороны» высветит порой неожиданные грани в уже знакомом. А тем, кто родился позже, моя книга поможет понять и, надеюсь, почувствовать то недавнее прошлое, о котором теперь идет оживленная дискуссия.
Выражаю свою глубокую признательность всем людям, которые сделали это издание возможным! Основной текст книги остался таким, каким он был 14 марта 2022 года, когда работа над книгой была завершена. Для удобства русского читателя я лишь дополнил раздел «Примечания» указанием на русские переводы источников, использованных в процессе написания книги.
Хайс Кесслер, Амстердам, 10 февраля 2025 года
Пролог
Жарким июльским днем 1991 года, выйдя из здания Белорусского вокзала в Москве, я оказался в совершенно неожиданном городе, совсем не похожем на тот, что жил в моем представлении как город пятидесятых – опрятный, размеренный, серый. На его месте шумела пестрая мозаика старого и нового, ветхого и желто-золотистого, которая искрилась неукротимой энергией, готовой вот-вот выплеснуться наружу. Газетные киоски и ларьки с продуктами, подновленные здания минувшего века, заслоняющие собой более современные элементы уличного пейзажа, рыкающие моторы грузовиков чуть ли не военного образца… Город дышал ранним утром, благоухал копченой колбасой, каким-то ацетоном и выхлопными газами.
Целый месяц я бродил по Москве, методично разбираясь в устройстве этой колоссальной метрополии: описывал концентрические круги, начиная от станции, и продолжал до тех пор, пока не начинал понимать характер этого квартала или района. Город настолько противоречил моим ожиданиям, а общество настолько отличалось от нидерландского, в котором я вырос, что ужиться здесь мне представлялось маловероятным. Но, возможно, именно поэтому город притягивал меня, как магнит.
В конце концов случилось так, что мне удалось стать его обитателем и непосредственным свидетелем современной российской истории на протяжении долгих двадцати пяти лет. Это были годы коренных преобразований, целой эпохи, свидетелем которой мне довелось быть. О ней, об этой эпохе повествует моя книга.
3 февраля 2022 года я поставил точку в конце последнего предложения и отправил рукопись в издательство Prometheus Amsterdam. А три недели спустя Россия ввела войска на территорию Украины. Это событие целиком перевернуло мир, описанный в книге, что поставило меня перед выбором – пересмотреть рукопись в свете новой реальности или оставить ее без изменений. Я решил удержаться от соблазна заняться правкой, потому что она нарушила бы то, что составило основной смысл этой книги: летопись эпохи глазами очевидца. Нити, прерванные недавними событиями, – неотъемлемая часть той эпохи. Поэтому я осознанно не стал вносить корректив в книгу, за исключением небольших добавлений в текст пролога.
Ключевой для эпохи, ставшей предметом моего рассказа, была идея о том, что России предстояло пройти путь преобразований: от «реального социализма», построенного в Советском Союзе, до рыночной экономики, демократии либерального толка и правового государства. Если Горбачев стремился адаптировать социалистическую систему к требованиям времени, то его преемник Борис Ельцин, первый президент новой России с 1991 года, взял гораздо более радикальный курс. Кардинальные реформы ставили целью демонтаж советской системы и создание в кратчайшие сроки базовых условий для развития рыночной экономики и демократического правления.
Эта радикальная идея, основанная на представлении, что изменение правил игры автоматически приведет к изменению поведения человека в обществе и в итоге – к созданию нового общества, оказалась наивной. Выяснилось, что добиться изменения в поведении людей гораздо сложнее, чем представлялось. Вместо стремительного перехода к новым общественным устоям начался затяжной и во многих отношениях несовершенный процесс реформирования.
Но этот процесс преследовал ясную цель. В России 1990‑х годов эта цель витала в воздухе почти осязаемо. Страна была охвачена пламенным желанием стать другой, отличной от прежней. Всякий раз, прилетая в Москву, я слышал рассказы друзей о новых магазинах, барах, выставках, книгах, фильмах, беседах, встречах и событиях, которые они воспринимали как малые вехи на верном пути. Никто не подвергал сомнению цели этого пути: Россия должна была стать «нормальной» страной, что означало не только изобилие в магазинах, но и свободу от указаний «сверху» – что делать, чего не делать, что думать. «Нормальная страна» означало также и хорошо организованное общество, в котором главенствуют порядочность и честность. При этом многие ссылались на Нидерланды – «Как у вас в Голландии», – хотя почти никто там еще не был.
Все как один мечтали о свободе, достатке и благополучии. Это была важная, не связанная с политикой мечта, несмотря на порой значительные разногласия по поводу путей ее достижения. Для одних это был тот же Советский Союз, но с полными прилавками и свободой слова. Для других воплощением этой мечты были Европа или США. Но очень многими владело чувство, что эта мечта достижима и что она выражает вполне справедливые чаяния или даже права. И как бы сейчас ни осуждались «лихие девяностые», это чувство действительно жило в коллективном сознании россиян.
Оно жило, в отличие от последующих лет, когда распространилось убеждение, что страна зашла в тупик, что у нее нет цели и, вероятно, будущего. Так с течением времени ощущение светлой перспективы обещанного будущего уступало место мрачному чувству обреченности. В какой момент окончилась эпоха преобразований? Все время, что я работал над этой книгой, я понимал, что эта эпоха ушла в прошлое окончательно и бесповоротно, и пытался найти, выделить, определить те события, которые можно принять за ее конечную дату. И вот наступило 24 февраля 2022 года. Это событие стало явной, не подлежащей сомнению вехой конца этой эпохи.
Эта книга – личное видение, личные воспоминания. В 1991 году меня привела в Россию цепь случайных событий, которые начались благодаря моему учителю истории в классической гимназии. Во время срочной армейской службы он освоил русский язык и, чтобы его не забыть, ввел у нас факультатив по русскому языку. Как я попал на эти занятия? Меня привело отчасти любопытство, отчасти некоторое бахвальство. Языки я любил, а русский был, вне всяких сомнений, самым экзотическим из тех, которые предлагались в школе.
Дело было в начале 1980‑х, во времена расцвета холодной войны, когда от соцлагеря нас отделяла пропасть. Они считались нашими врагами, хотя никто не знал почему. Во время службы в армии в середине 1950‑х годов мой отец, стоя на берегу Эльбы, еще, бывало, слышал от командира: «Там, на той стороне, враг!», но я вырос с уже гораздо более стершимся, абстрактным образом врага. А Советский Союз меня вообще не привлекал – добираться туда представлялось сложной задачей, сама страна виделась унылой и скучной. Фактически, русский язык был для меня таким же мертвым, как латынь и греческий, которые преподавались в нашей гимназии.
Но история меня поторопила. В 1985 году генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Горбачев. Его реформы должны были послужить началом нового курса Советского Союза. Неотъемлемыми элементами этого курса стали гласность и разрядка в отношениях с внешним миром. За несколько лет политика перестройки и гласности привела к окончанию холодной войны, и Россия распахнула свои двери миру. В университете, где я в то время учился на историческом факультете, я мог выбирать факультативные курсы и выбрал курс русского языка, надеясь теперь овладеть им по-настоящему.
Освоив язык, я решил на этом не останавливаться: посетил страну, обзавелся там друзьями и каждый год в «лихие девяностые» проводил там по несколько месяцев. В 1996 году я познакомился с Дашей, моей будущей женой. Сначала мы жили в Италии, где я тогда учился, но в 2002‑м мы перебрались в Москву, из которой я уехал только в 2016 году.
Российской историей я начал заниматься уже в начале 1990‑х годов. Это было невероятно увлекательное время. Открылись советские архивы, и я присоединился к небольшой группе российских и зарубежных «первопроходцев», занимавшихся инвентаризацией всего того, что могли поведать нам километры собранных в архивах исторических документов. Переехав в Москву, я стал более тесно сотрудничать со своими российскими коллегами, сначала в рамках серии исследовательских проектов, а позднее и в качестве приглашенного профессора Российской экономической школы (РЭШ), одного из первых негосударственных высших учебных заведений России.
Даша родилась в Москве, ее детство и взросление пришлись на два последних десятилетия Советского Союза. В школе ей рассказывали о коммунистическом будущем. Пытаясь объяснить, что это значит конкретно, учительница, будучи не в состоянии придумать ничего другого, как-то заявила, что все станет бесплатным: «И детские колготки тоже! Ведь здорово!?» Как раз эти постоянно сползающие колготки Даша ненавидела лютой ненавистью, как, впрочем, и ее одноклассницы. Еще в школьном возрасте она для себя решила, что, когда вырастет, уедет из России, а пока – лелеяла свою мечту и романтическую открытку с видом вечернего Парижа. Но по-настоящему она увидела Париж уже во время нашего свадебного путешествия. После нашего переезда из Италии в Москву она начала работу на телевидении, затем в кино, став в итоге режиссером-документалистом.
Все те годы Москва оставалась постоянным местом моего жительства, и это, несомненно, повлияло на мои наблюдения. Как и в других странах, столица представляет собой особую, нетипичную часть страны, где концентрация власти, денег и информации является мощным катализатором социальных, экономических и культурных преобразований, заметно опережающих другие регионы. В России этот контраст разителен. Во все времена страна отличалась высокой степенью централизации власти. Но и по сей день Москва сохраняет колоссальное влияние на всю остальную Россию. Москва – государство в государстве. В некотором смысле это другая страна, другая цивилизация, что до боли ясно всем – как жителям Москвы, так и жителям остальной страны. Работая над этой книгой, я старался принимать во внимание позицию регионов России, учитывая не только свою практику, но и впечатления других людей. Москва притягивает к себе, как магнит, а с ними в Москву приходит и опыт, полученный в других регионах страны.
Эта книга – взгляд изнутри. Она основана на личном опыте и наблюдениях, дополненных рассказами и мыслями других. Отсылки к источникам читатель найдет в конце книги в комментариях к главам. Глав всего пять, каждая из них посвящена одному из аспектов изменений, произошедших за двадцатипятилетний период.
Первая глава описывает социальные и культурные преобразования в России, начавшиеся с момента распада СССР в 1991 году. В ней повествуется о свободе и о тех обещаниях и напряжении, которые свобода приносит с собой.
Во второй главе речь идет о неминуемо и повсеместно присутствующем призраке прошлого, советского прошлого, прославленного и осмеянного, которое, однако, всякий раз используется как мера для оценки перемен в настоящем. «Совковое мышление» и «гомо советикус» – часто используемые понятия, но из чего, собственно, на самом деле состоит советское наследие?
Третья глава посвящена одной из двух составляющих процесса общественной трансформации, а именно – переходу от экономики государственного центрального планирования к рыночной.
Четвертая глава сосредоточена на другой, намного более проблематичной части трансформации: в основном провалившейся попытке превратить Россию – жестко управляемую страну с однопартийной системой – в демократическое правовое государство.
В последней главе этой книги речь пойдет о, возможно, самом фундаментальном, но также и наименее распознанном преобразовании, а именно – о превращении России из практически закрытого для внешнего мира общества в общество открытое, сплетенное множеством нитей с мировой экономикой, тесно взаимодействующее с остальным миром. Поэтому особенно горько, что в тот момент, когда эта рукопись идет в печать, именно это завоевание становится жертвой жестких санкций, вызванных вводом российских войск на территорию Украины.
В заключение своего предисловия я хочу сказать о России кое-что для меня очень важное. Это связано со способностью России меняться в принципе. Бессчетное количество раз за прошедшие тридцать лет и в России, и за ее пределами мне приходилось слышать, что на самом деле в России никогда ничего не меняется, что страна обречена на рабство, что в ней не ценят человеческую жизнь и между гражданами и правителями лежит непреодолимая пропасть. Эти слова проявляют иногда разочарование, иногда осуждение. Зачастую в качестве аргументов притягиваются исторические параллели, восходящие аж к татаро-монгольскому игу XIII века. Сейчас, когда мы стали свидетелями начала специальной военной операции в Украине, сопровождающейся подавлением в самой России элементарных проявлений свободы, подобные аргументы набирают новую силу. Но, оглядываясь на колоссальные изменения, произошедшие в России за последние тридцать лет, я не могу согласиться с утверждением, что Россия не способна меняться. Лишь горстка стран в мире сумела пройти столь радикальные и масштабные перемены за такой короткий срок.
Когда меня спрашивают, каким я вижу будущее России, я часто оказываюсь едва ли не единственным оптимистом среди сплошных пессимистов. Я попросту отказываюсь верить в то, что нынешний мрак может оказаться «концом истории». Ведь когда-то же будет востребован тот прежний опыт, от которого мы с вами сейчас отрезаны? Но не исключено, что на мои суждения налагает отпечаток мой личный опыт, причем в большей степени, чем я думаю. С Россией я познакомился в те годы, когда страна была охвачена вирусом ожидания лучшего будущего, и, возможно, это слегка пьянящее и захватывающее чувство причастности к процессу «важных реальных перемен» со временем стало неотъемлемой частью моего «я».
Здесь я хотел бы поблагодарить тех, кто принял участие в создании этой книги. Прежде всего это Йоб Лисман, шеф-редактор издательства Prometheus, поддержавший меня своей верой в мою рукопись и умело руководивший творческим процессом. Ключевую роль сыграли Ян Люкассен и Яап Клостерман из Международного института социальной истории (IISG) в Амстердаме, которые вовлекли меня в первые совместные проекты с Россией. Благодаря Карин Хофмейстер и Лео Люкассену я смог работать над этой книгой в рамках моей нынешней должности в IISG. Франка Херфорта я хотел бы поблагодарить за фотографию, украшающую обложку этой книги. Дафне Бергсма, Арьен Берквенс, Элине Хелмер, Олав Хофланд, Аннет Кесслер, Тимен Каувенар, Ян Люкассен, Мартейн Рютте, Девика Строкер и Йерун де Врис читали части рукописи. Они сделали очень важные замечания и ценные предложения, улучшившие книгу.
Наконец, я благодарю всех людей, названных и не названных здесь по имени, чьи жизненные истории вдохновили меня написать эту книгу.
Посвящаю эту книгу Даше, с любовью и преданностью.
Амстердам, 14 марта 2022 года
1
Человек
Летом 1991 года, которое, как оказалось, стало последним летом Советского Союза, я записался на месячный курс русского языка в Москве. До тех пор Россию можно было посетить лишь с обязательным гидом и вынужденным пребыванием в отеле «Интурист». Но вдруг на доске объявлений Амстердамского университета появилось предложение летнего курса русского языка, причем с выбором проживания – в общежитии или в русскоязычной семье. Последнее показалось мне избыточно «глубоким погружением», и я выбрал более безопасный вариант общежития. В отличие от меня, Вильберт, один из моих амстердамских сокурсников, поставил галочку в графе «семья» и таким образом попал к Алексею.
Двадцать восемь лет спустя холодным октябрьским днем в Москве в переполненном грузинском ресторане за Курским вокзалом я спросил Алешу, как он в те годы, в свои восемнадцать лет, решился вписаться в это дело с иностранными студентами – в стране, где контакты с иностранцами еще совсем недавно вызывали подозрение и могли привести к серьезнейшим проблемам. К тому же он жил с родителями. Оказалось, что типичное для восемнадцатилетнего парня любопытство взяло верх над всеми сомнениями, хотя «на всякий случай» он не поделился своими планами с родителями. Так они ничего и не знали до того жаркого июльского дня, когда ему на Белорусском вокзале «выделили» Вильберта, двухметрового великана, бывшего сквоттера из Амстердама с двадцатью колечками в ухе. «Мама, это Вильберт, он поживет у нас где-то с месяц».
Свобода
Я познакомился с Алешей и его друзьями – Костей, Юрием, Глебом, Васей, Мишаней, Пашей, Андреем, Темой и Мариной. Они были одноклассниками и, значит, согласно российской системе образования, росли вместе с семи лет и до окончания школы. Все жили в районе станции метро Алексеевская, чуть к северу от центра Москвы. Станция метро выходила на проспект Мира, шестиполосную автомагистраль, окруженную монументальными жилыми зданиями сталинской архитектуры, за которыми с обеих сторон тянулись незамысловатые строения шестидесятых и семидесятых. После окончания школы друзья разбрелись по разным институтам и университетам города, но учеба была для всех делом второй важности. Школа и школьное время оставались точкой отсчета и ключом для отношений внутри компании – тусовки, как они ее называли на молодежном сленге, которым я в то время еще не владел.
И эта тусовка взяла тем летом над нами, Вильбертом и мной, шефство. Все ребята, принадлежащие к тусовке, жили дома с родителями. Студенческие общежития в Москве предназначались только для иногородних студентов, а снять комнату было настолько дорого, что это было никому не по карману. Кафе или баров просто не существовало, и поэтому тем летом мы в основном слонялись по городу. Так и продолжалось, пока не оказывалось, что чьи-то родители уехали на вечер или на все выходные, и тогда вся толпа устремлялась в свободную квартиру товарища.
Днем мы перемещались по Москве на метро или автобусами, ночью же приходилось «голосовать» на проспекте Мира – поднять руку, чтобы остановить проезжающую машину. Если водителю было по пути, следовал короткий кивок – приглашение сесть в машину. В конце поездки вы без лишних разговоров платили какую-ту адекватную сумму. Если водителю было не по пути, сумму следовало оговорить заранее. Официальных такси не было, вернее, они были, но почему-то никогда не останавливались, чтобы подобрать голосующего, и занимались всем, кроме перевозки пассажиров. В особенности торговлей спиртным – дефицитным товаром, продающимся тогда по талонам. Этот бизнес был полностью сосредоточен в руках таксистов. Из окна моей комнаты в общежитии открывался вид на стоянку такси, где шла круглосуточная бойкая торговля. Один водитель продавал пиво, другой водку, а его сосед – коньяк. Все багажники были забиты аккуратно разложенными бутылками.
Алеша и его лучший друг Костя выглядели очень стильно. Их запястья украшали кожаные браслеты, точно как у их кумира Мортена Харкета, певца норвежской группы а-ha, которая, как оказалось, была в Москве культовой. Группа пользовалась беспрецедентной популярностью, равно как и пара других хитовых авторов восьмидесятых, которых я уже успел подзабыть, – Depeche Mode и немецкий поп-дуэт Modern Talking.
Для Алеши, Кости и их друзей музыка имела колоссальное значение. О ней беспрестанно говорили, менялись пластинками, кассетами с записями – и все это слушали с восторгом. Их любовь к музыке была явно глубже, чем то, что было мне знакомо по Нидерландам. Для этих ребят музыка означала нечто важное, ключевое – она отражала и жизненную позицию, и состояние души. Вообще, все это мне очень напоминало европейские шестидесятые, с той разницей, что Россия не знала тех «свингующих» лет и что первые ростки настоящей рок- и молодежной культуры, как мы ее знаем по тому периоду, возникли здесь лишь в начале восьмидесятых годов.
Связанное с этим острое чувство важности момента было недавно прекрасно показано в фильме Кирилла Серебренникова «Лето»[1]. Фильм переносит нас в начало 1980‑х в Ленинград, своего рода культурный центр Советского Союза. Действие фильма разворачивается в эпоху Брежнева, когда о реформах еще нет и речи, но уже пробиваются первые ростки «перемен», появляются ценители андерграунда, рок-музыки, жадно впитывающие музыку Запада. Такую музыку слушают по домам с огромных бобин на массивных старомодных магнитофонах, потому что рок не услышишь по радио и не купишь в магазине. Уже есть рок-клубы, в которых под строжайшим контролем властей можно играть подобную музыку, но публика должна чинно сидеть на своих стульях, а тексты песен должны получить предварительное одобрение на предмет их оптимистически бодрящего содержания. И именно тексты были главным на этих концертах.
«Слова гораздо важней музыки», – подчеркивает Артемий Троицкий[2], продюсер, музыкант и музыкальный критик, летописец рок-движения с его первых дней – чья «история» русского рока вышла в свет в 1990 году[3]. Это первенство слов по отношению к аккордам – ключевой момент в появлении и развитии молодежной культуры в Советском Союзе. В песенном тексте звучало то, что не говорилось и не могло быть сказано в другой форме. Влюбленность, сомнения, надежда, неудачи, экзистенциальная тревога, запой, депрессия и эйфория – ключевые ингредиенты жизни молодых. Но для всего этого не находилось места в официальной советской культуре, призванной укреплять высокий моральный дух советского человека. «Я бездельник, о-о, мама, мама, я бездельник»[4], – пел Виктор Цой, лидер группы «Кино», – величайшая рок-звезда, которую когда-либо знала Россия. В 1990 году двадцативосьмилетний Цой погиб в автокатастрофе. В фильме «Лето» он показан в образе угловатого застенчивого парня с гитарой, которого поддержал Майк Науменко из группы «Зоопарк» – тогдашняя звезда, сейчас уже мало кому известная.
Виктор Цой начал выступать еще в дни правления Брежнева, когда советский рок был настоящим андерграундным явлением. Во второй половине 1980‑х на крыльях перестройки такие группы, как «Аквариум», «Зоопарк», «Звуки Му», «ДДТ» и «Кино», вышли из подполья, совершив прыжок в открытое пространство, к звездному статусу и многомиллионной аудитории.
Когда я познакомился с Алешей и его друзьями летом 1991 года, все это только-только начиналось, было новым и волнующим. Костя и Юрий иногда пели на улице под гитару кавер-версии песен советских рокеров, которые тут же подхватывались прохожими. Они выступали на Арбате, на пешеходной улице, любимом месте сбора молодых, ищущих близких по духу. Там стихийно возникла стена памяти Виктора Цоя с толпящимися около нее почитателями, которые оставляли на ней свои стихи, послания и граффити. Встречи с единомышленниками были именно тем, что искали Костя и Юрий. Эти встречи значили гораздо больше, чем рубли, собранные по копейке у публики, – рубли сразу же обменивались на вино, которое на месте распивалось со старыми и новыми друзьями.
Я не утверждаю, что деньги не играли никакой роли в жизни моих друзей. Но если наши шестидесятые были периодом экономического расцвета, рождению молодежной культуры в России сопутствовала бедность. Крах коммунизма и переход к рынку сопровождались глубоким экономическим кризисом, пустыми полками магазинов, обесцениванием рубля и отсутствием фактически всего необходимого. В свои восемнадцать лет Алеша, Костя, Юрий и их друзья о деньгах особенно не заботились. Возможно, безденежье создавало даже некий романтический ореол вокруг обретенной свободы. Хотя деньги, естественно, были необходимы, чтобы заполучить основные атрибуты молодости: модную одежду, крутую обувь, а девушкам еще и косметику. И эта модная, «правильная» одежда, обувь и косметика были, понятно, импортными, западными и, следовательно, жутко дорогими, а у ребят – ни гроша в кармане. Даша, моя будущая жена, которая начала работать в семнадцать лет, на всю первую зарплату купила вожделенную красную помаду – ведь без такой помады ты была никто. Помада приближала на шаг к такому миру, каким он, собственно, должен был быть.
Потребление было средством достижения высшей цели. Правильными брюками, платьем, обувью или браслетом можно выделиться из толпы, показать, к какой тусовке ты принадлежишь или хочешь принадлежать. Это свойственно всем мирам, но значило в три раза больше в стране, где в магазинах висела скучная однообразная одежда, и то не всегда. Главное для молодых – проявить индивидуальность. Это как раз то, что в Советском Союзе, где приветствовались лишь интересы «коллектива», всегда вызывало настороженность, но теперь стало возможным благодаря обретенной свободе. Свобода и потребление стали взаимодополняющими элементами. Свобода ассоциировалась с возможностью потребления, а потребление – с возможностью свободы. И это имело магический эффект, который мы, на Западе, выросшие в обществе потребления, с трудом можем себе представить.
Свобода, в представлении Алеши и его друзей, была прежде всего личной свободой, свободой жить по собственным представлениям. В этом смысле политическая свобода была необходимым условием, но интересы и чаяния моей компании были направлены не туда. Более того, они даже и не скрывали равнодушия к политике и отмахивались от всех моих попыток обсудить с ними те эпохальные события, которыми была охвачена страна. Они почти ничего об этом не знали и не хотели знать. Это их не интересовало. Их жизнь вращалась вокруг совершенно других проблем. Перестройка освободила их, и теперь, когда они были свободны, они больше не хотели даже слышать про политику, успевшую набить оскомину в советской юности.
Однажды на уроке учительница спросила Дашу: «Что ты думаешь о политической ситуации в Пакистане?» Она понятия не имела, где находится эта страна, ничего не знала о какой-то там ситуации и, соответственно, не имела о ней никакого мнения и вообще не понимала, почему она должна его иметь. Для ее поколения политические преобразования в Советском Союзе означали и освобождение от обязательных политических бредней.
Получив свободу, они никому не позволяли лишить себя этой свободы. Тем более – гостю со «свободного» Запада: со мной они хотели обсуждать совершенно иные вопросы. Это аполитичное отношение к жизни моих новых друзей, разумеется, не было исключением. Практически все, с кем я пытался поговорить о политике, обходили эту тему стороной. Меня это удивляло, но тогда я еще не мог предвидеть серьезных последствий такого равнодушия к политике.
Для моих российских друзей в начале девяностых свобода означала отказ от удушливого политического, социального и культурного климата советской эпохи. Они принадлежали к счастливому поколению, для которого бурные перемены в стране совпали с фазой жизни, в любом случае означающей отказ от защищенности семейного гнезда и готовность принять все новое и неизведанное, что приготовил для них мир. Если ты сам меняешься, то и перемены вокруг тебя кажутся тебе вполне естественными. Может, это нас и роднило, хотя я и был на несколько лет старше. Зачастую то, что казалось мне новым и неизвестным в этой далекой стране, для них было столь же новым, и «лихие девяностые» представлялись нам безбрежным и увлекательным путешествием в новую действительность, захватывающую и не вызывающую страха.
После того первого визита в 1991 году я практически ежегодно приезжал в Россию к друзьям и всякий раз находил Москву изменившейся до неузнаваемости. Появились первые бары. Это было абсолютным новшеством, потому что до этого, кроме как в паре-тройке ресторанов, кафетериев и гостиничных баров, провести свободное время в Москве было негде. Эти первые бары часто были показушными, вульгарными, гламурными заведениями, где зависали проститутки и расчеты велись в долларах, но постепенно стали появляться и другие заведения.
Одним из популярнейших мест встреч стал бар «Кризис жанра». Он находился в душном подвале, где табачный дым стоял столбом, хоть топор вешай. Бокал пива там был даже мне едва по карману, не говоря уже о моих российских друзьях, но там выступали музыкальные группы. И если необходимого градуса достичь заранее дома, то в баре можно продержаться на одних сигаретах, а после закрытия продолжить ночь у кого-то в гостях, в одной из тех случайных компаний единомышленников, которые каждой ночью возникали в «Кризисе жанра».
Еще более альтернативной тусовкой был «Третий путь» – клуб в какой-то сквоттерской квартире в самом центре Москвы, организованный худощавым Борей Раскольниковым, культовой фигурой московского андерграунда. Пиво и водка там были дешевыми, музыка громкой, а многострадальные туалеты разваливались буквально на глазах.
Но самые невероятные приключения происходили практически всегда на улице, особенно весной и летом, когда было достаточно тепло для уличных скитаний. Тогда в барах отпадала всякая необходимость, потому что по всему городу стояли ларьки – маленькие деревянные или металлические постройки, работающие круглосуточно, в которых можно было купить сигареты, напитки, жевательную резинку, сникерсы и кое-что из продуктов: хлеб, сахар, воблу, соленые огурцы и консервы. Но самыми важными товарами были, конечно, алкоголь и сигареты, потому что почти каждый пил и курил так, как будто от этого зависела вся его жизнь. Ассортимент сигарет был колоссальным, от самых дешевых местных сигарет без фильтра до дорогих западных марок, которые люди со скудными доходами могли купить даже поштучно. Из алкоголя была в основном водка – в пол-литровых бутылках или в пластиковых стаканчиках, запаянных серебряной фольгой, в которых обычно продаются сливки или сметана, точно рассчитанных на одну порцию. Даже по российским меркам все это стоило копейки.
Ларек был чем-то средним между забегаловкой по соседству и ночным магазином, и вместе с тем – определяющим элементом уличного пейзажа девяностых. Всю ночь открытые, всю ночь доступные, ларьки стали центром всеобщего притяжения. Там можно было встретить самую разношерстную публику: от беспробудных опустившихся алкоголиков до новой молодежи России. Все праздновали свободу во хмелю, пока были деньги или не начинали слипаться глаза, а Москва, многомиллионный город, не просыпалась, встречая новый день.
Неопределенность
То, что для одних несло в себе обещание свободы и ощущение распахнутости мира, означало для других фундаментальную неопределенность и крах мира, к которому они принадлежали. Это одна из сторон тех же «лихих девяностых», которую я осознал лишь позже, и не только потому, что я сам стал старше и начал смотреть назад уже другими глазами, но также и потому, что последствия стали вырисовываться гораздо позже.
Трудно переоценить кардинальные и порой драматичные социальные, экономические, моральные и психологические сдвиги, которые повлек за собой крах советской системы. Наиболее острой проблемой стала экономическая неопределенность. Ее начало уже ощущалось на закате Советского Союза с исчезновением продуктов, лекарств, одежды и постепенно – дефицитом всех видов потребительских товаров, вплоть до полного опустения магазинов и жуткого дефицита продуктов зимой 1991/92 года.
В отчаянной попытке выровнять курс корабля на ходу в январе 1992 года была проведена либерализация цен. Отмена контроля над ценами наполнила прилавки магазинов, но привела к высокой инфляции, подорвавшей платежеспособность населения и обесценившей сбережения граждан. Купить теперь можно было все, но мало кто мог себе это позволить. Моя жена Даша рассказывала, как однажды в ее семье из четырех человек денег оставалось лишь на одну поездку в метро, и поэтому было решено бросить жребий. Счастливец смог воспользоваться метро, остальным пришлось идти пешком. Для молодой беззаботной восемнадцатилетней девушки это был лишь забавный анекдот, но для ее родителей, на тот момент растивших еще шестилетнюю Дашину сестру Сашу, это событие, должно быть, имело совсем другие краски.
Помимо экономической неопределенности, был еще и страх перед неумолимо растущей преступностью. В те годы раскрадывалось буквально все. Сергей, Дашин дядя, у которого был домик в деревне на Волге, рассказывал, как сначала у них вскрывались боксы, где хранились подвесные моторы для лодок, а затем с берега стали одна за другой исчезать и привязанные цепями моторные лодки; в итоге уже никто не мог переправиться на другую сторону реки. Московские автомобилисты, припарковав машину, снимали дворники, иначе они «не доживали» до возвращения владельца. Из страха перед взломщиками и ворами люди баррикадировали окна своих квартир топорно сваренными решетками и скрывались от злого внешнего мира за входными дверями из листовой стали с крошечным «глазком», едва позволяющим увидеть посетителя. В те годы мои друзья и знакомые убедительно просили меня после наступления вечера ни в коем случае не выходить на улицу и не открывать никому дверей.
Тогда я лишь посмеивался над этим – Москва никогда не казалась мне более опасной, чем Амстердам или другие города. Но страх был неподдельным, люди не чувствовали себя в безопасности, и справиться с этим им было нелегко. В Советском Союзе преступность почти не освещалась в прессе. Но во времена 1990‑х средства массовой информации заполнились сочными историями о кражах, мошенничестве, изнасилованиях, избиениях и убийствах.
Возможно, самый глубокий страх вызывал неудержимый рост организованной преступности, или бандитизма, как это явление называлось в народе. Это было действительно новое явление, порожденное капиталистическими отношениями без четких правовых рамок, при которых горстка «серьезных парней» была единственной гарантией защиты от покупателей, которые не платили, или поставщиков, которые после оплаты товара его не поставляли. И если к «защитникам» не обращались по собственному желанию, они сами предлагали «крышу», независимо от того, нуждался в ней предприниматель или нет.
Эти бандиты формировали параллельные структуры власти в обществе, которое все больше и больше опиралось на закон силы. В этом отношении их появление было также прямым следствием краха государственных устоев, сопровождавшегося дезинтеграцией советской системы. Милиция была бессильна или же сливалась с организованной преступностью, став просто одним из рэкетиров, поделивших город на сферы влияния. Рядовой гражданин непосредственно с этим не сталкивался, но постоянные разборки в преступных кругах, перестрелки и демонстративное проявление власти со стороны бандитов людей пугали.
Бандитов можно было легко узнать не только по их мосластому, угловатому «быкованию», но и по одежде. Излюбленная «униформа» бандита состояла из черных брюк, малинового пиджака и болтающейся на запястье кожаной барсетки, получившей свое название от итальянского слова borsetta. В кафе и ресторанах их можно было увидеть невооруженным глазом. Их узнавали не только по «униформе», но еще и по тому, что они никогда не платили, по крайней мере если находились на «собственной территории».
Люди доверяли только ближайшему кругу общения: родным, друзьям, коллегам. Все за пределами этого круга считались врагами, пока не доказывалось обратное. При встрече люди опускали глаза и старались не пересекаться взглядами. Прямой взгляд на улице или в метро воспринимался как угроза, за него на вас могли огрызнуться или попросить не лезть не в свое дело. Открытость или попытка поделиться информацией считались опасными, ведь никогда не знаешь, кто и как может воспользоваться ею или использовать эту информацию против тебя. Без особой необходимости никто не рассказывал, где он живет, откуда приехал, где и кем работает, чем занимается в повседневной жизни. В магазинах люди не здоровались, и, даже если вы покупали хлеб изо дня в день у одной и той же продавщицы, она никогда не показывала, что узнала вас. Вначале я еще иногда совершал ошибку, приветствуя кого-нибудь на моем лучшем ломаном русском языке, но в конце концов перестал, постепенно поняв, что людей пугало, когда их узнавали, и что такое поведение не доставляет им ни малейшей радости.
Я по-прежнему жалею, что не сфотографировал одно место на московском рынке. Там был киоск, где продавались вареные раки. Этот киоск состоял из четырех металлических сваренных листов, с узкой щелью на уровне живота. Через эту щель из киоска просовывались раки, а в обратную сторону совались смятые рубли. Такая картина казалась символом времени: голая рыночная экономика, сделка без прикрас, сведенная до функционального минимума. Строгая анонимность была нормой общественной жизни, и там, где это возможно, все организовывалось таким образом, чтобы работники были буквально скрыты от посторонних глаз. Окошки всегда были маленькими и низкими, чтобы вы не могли видеть лицо человека, стоящего за прилавком. Единственное, что было видно находящимся по разным сторонам окошка, – это руки.
Особенно недружелюбно и грубо вели себя люди, когда от них требовалось что-то сделать или вы от них зависели. В магазинах, казалось, ты мешал продавцам, а не предлагал им свои деньги. Это был замечательный пример того, что экономисты называют seller’s market, рынок, на котором спрос настолько превышает предложение, что предлагающий товар устанавливает свои правила. Покупателю остается лишь довольствоваться тем, что есть в наличии, и соглашаться на запрошенную цену по принципу «не нравится – уходи». Если же кто-то проявлял недовольство, задавал лишние вопросы или жаловался на качество, его игнорировали, ему грубили или просто прогоняли.
Та же атмосфера царила в государственных учреждениях, где приходилось выстаивать ужасные очереди, чтобы склониться к окошку на уровне живота, где вам в лицо бросали запрашиваемую информацию или, еще чаще, облаивали, чтобы в следующий раз вам не повадно было приходить. Если вы артачились или задавали заковыристые вопросы, окошко просто захлопывалось у вас перед носом. После такого обращения люди сдавались и уходили, бормоча проклятия, качая головой или просто вздыхая. Слезы в глазах ты видел не часто – тонкая нервная организация в таком обществе лишь усложняла жизнь.
