По обе стороны океана
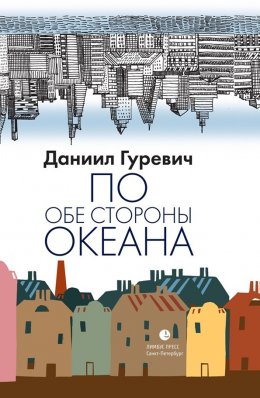
Следуй своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно.
Данте Алигьери.
Путь в тысячу ли начинается с первого шага.
Лао-Цзы
Каждое событие в настоящем рождается из прошлого и является отцом будущего.
Вольтер
Для счастья нужен еще и случай.
Аристотель
© Даниил Гуревич, 2025
© ООО «Издательство К. Тублина», 2025
© А. Веселов, обложка, 2025
Предисловие
Считается, что автобиографии пишут либо известные люди, либо люди, просто оставившие после себя хоть какой-то след. Я не принадлежу ни к тем, ни к другим. Уйдя в мир иной, я оставлю после себя свою жену (надеюсь, она переживет меня), свою дочь, своих внучек и четыре изданные книги. Одна из которых – «Премьера» – самая первая и моя самая любимая. Тема «Премьеры» была мне хорошо знакома. Можно даже сказать, что в ней много личного. Но лишь на четверть. Сейчас же я хочу написать автобиографию полностью. И делаю я это не для потомков и не из тщеславия. Отнюдь. Просто мне уже под восемьдесят, и я прожил насыщенную и интересную жизнь. За эти долгие годы мне повезло повстречаться и даже породниться со многими, если не со знаменитыми, то с довольно известными и очень интересными людьми.
Без какого-либо отношения к сказанному выше я недавно сел писать новый роман. И чувствуя, что у меня ничего, кроме пошлости, не получается, я переслал первую сотню страниц моим родственникам, живущим в Питере. Люди они с яркой и совсем нелегкой судьбой – вот кому следует писать автобиографии! Анатолий Бергер, великолепнейший поэт и необыкновенный человек, еще совсем молодым за свои стихи был осужден, отсидел четыре года в лагере, а затем был направлен на два года в сибирскую ссылку. В ссылку за ним последовала его жена, с которой они поженились буквально перед самым его арестом. Лена окончила факультет журналистики Львовского государственного университета и театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Печаталась в театральных журналах. Но когда его сослали, не задумываясь все бросила и поехала вслед за мужем в Сибирь. Только не надо сравнивать ее поступок с женами декабристов. В советское время все было намного сложнее и суровее. В наше время и Толя, и Лена много печатаются и довольно известны не только в писательской среде, но и среди петербургской интеллигенции. Мне же они с самого начала редактировали все мои книги, которые без их редакции выглядели бы довольно убогими. Все мною написанное перед тем, как отправить в редакцию, я посылал им. Вот и сейчас, прочитав мои посланные сто страниц, они сказали, что у них огромное количество претензий, и они пришлют мне свои правки. По тону их письма я понял, что написанное мною и гроша ломаного не стоит, и решил на этом поставить точку. А скорее всего, поставить точку на своем сочинительстве.
Обдумывая это решение, я вспомнил, как много лет назад, написав свою первую и единственную пьесу, я показал ее главному редактору театрального журнала «Балтийские сезоны» Елене Алексеевой. То, что свое творчество я решил начать с пьесы было естественно и легко объяснимо. Еще с детства я проводил много времени в театре, которым руководил мой отец. Я сидел на репетициях, ездил с труппой по области на гастроли, даже помогал осветителю в его будке. Я знаю, мой папа в душе лелеял надежду, что я пойду по его стопам. Каково же было его разочарование и огорчение, когда он дома задал мне, тогда еще подростку, простейший этюд, который я с треском провалил. Кто мне посоветовал обратиться к Алексеевой, я уже не помню, да это и неважно. Я тогда уже давно с семьей жил в Америке, и после того, как рухнул железный занавес, мы с женой каждые несколько лет старались приезжать в Питер, где у нее оставалась вся семья: мать, сестра и брат. Самым близким для меня человеком, по-прежнему жившим в Питере, был Илюша Штемлер, уже тогда довольно известный писатель и муж моей сестры. Первой после меня в эмиграцию отправилась их дочка Ириша. За ней сразу потянулась моя сестра Ленуся. Илюша эмигрировать категорически отказался. Ему, популярному советскому писателю, в Америке делать было абсолютно нечего. Штемлер был хорошим, даже талантливым писателем, пишущим на советские темы. Он имел своего обширного советского читателя. По его книгам ставились фильмы; папа по его первому роману «Гроссмейстерский балл», напечатанному в журнале «Юность», написал инсценировку, которая шла во многих театрах СССР. Так, для того, чтобы эмигрировать вслед за дочкой, Ленусе пришлось с ним развестись. Эмиграция тех лет была сложным переплетением множества судеб, которые или следовали друг за другом, или расставались. Причем в те времена семидесятых и восьмидесятых эти расставания были навечно.
Алексеева, узнав, что я сын главного режиссера Ленинградского драматического театра Григория Израилевича Гуревича, спросила, не хочу ли я написать воспоминания о нем. Ведь он был таким незаурядным и талантливым человеком. Сейчас я уже не помню, почему тогда не ухватился за эту идею. Скорее всего, почувствовал, что у меня не хватит для этого мастерства. Не знаю, обладаю ли я сейчас достаточными способностями, но с тех пор у меня издано уже четыре книги, а та пьеса была все-таки поставлена. Вот тут-то и пришла идея об автобиографии. То есть о попытке вернуться в прожитый мною путь, который я начал, много лет назад. Проследить его с раннего детства, которое я, кстати, не очень хорошо помню, и до сегодняшней старости, которая у меня вся в голове, слава Б-у, не затронутой Альцгеймером. А так как мой отец занимал в моей жизни очень важное место, описать и его жизнь как можно полнее и ярче. Я прекрасно понимаю, что задача эта совсем непростая, но попробовать я обязан. Хотя бы для себя самого. И в память о нем.
И еще я считаю себя обязанным внести некоторое разъяснение. Как я уже писал выше, моя первая книга «Премьера» была в какой-то степени автобиографична. Поэтому в этой книге вы, при условии, что читали первую, иногда будете сталкиваться с событиями и описаниями, встречавшимися вам в «Премьере». Но главное, я хочу заверить читателя, что, в отличие от «Премьеры», все описанное в этой книге в действительности происходило в жизни ее героев. Если же я в чем-то сомневался, то я сразу на это и указывал.
Часть первая
В России
Глава первая
Семья отца
В жизни мне везло с самого рождения. Мой отец, Григорий Израилевич Гуревич, к моменту моего рождения работал главным режиссером Малого драматического театра. Человеком он был не только большого ума и профессионализма, но и интеллигентным и добрым. Об уме и профессионализме писать я не буду – подтверждением этому его звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР, а вот в подтверждение его доброты приведу несколько примеров.
Известнейший киноактер Георгий Жженов, будучи совсем молодым актером на киностудии «Ленфильм», был арестован в тысяча девятьсот тридцать восьмом году. Обвиняли его в шпионаже в пользу США. Причиной обвинения был его разговор в поезде из Ленинграда в Москву с американским дипломатом, с которым они вместе вышли покурить в тамбур. Жженов, проведя пять лет в лагерях, после освобождения работал в Магаданском драматическом театре. Затем был опять арестован и выслан в город Норильск, где стал работать в местном драматическом театре. Наконец, в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году был реабилитирован и вернулся в Ленинград. Стал искать работу в театрах, но ему, несмотря на полную реабилитацию, всюду отказывали. И только Гуревич, не размышляя, сразу принял его в свой театр. Распознав талант актера, он стал распределять его на главные роли. Жженов стал его большим другом и ко мне, мальчишке, относился, как к родному сыну. Вскоре Жженов уехал в Москву и начал сниматься в кино. Но с отцом они навсегда остались друзьями.
А вот еще небольшой пример великодушия моего отца. Папа принял на работу молодого театрального художника, только что окончившего институт, Эдуарда Кочергина, который впоследствии стал ведущим театральным художником России. Буквально в этом же году отца вызвали в горком Ленинграда, где ему поручили отобрать спектакль самодеятельного коллектива для Всесоюзного конкурса самодеятельности в Москве. Партийное начальство обратились именно к нему по той причине, что отец, кроме работы в театре, ставил спектакли самодеятельности в разных коллективах и дворцах культуры города. Занимался он этим по двум причинам.
Во-первых, ему нравилось работать с непрофессиональными актерами, влюбленными в театр. Он получал удовольствие, создавая с ними спектакль, в котором они изо всех сил старались хотя бы приблизиться к игре профессионалов. Он чувствовал глубокое удовлетворение, когда работа над спектаклем была завершена, и он видел их счастливые лица, когда они выходили на поклон. Все это было несравнимо с премьерой в его театре. Там это была работа, а здесь – пристрастие. Но кроме получаемого им удовольствия в работе с самодеятельностью была еще одна маленькая, но существенная деталь. Моя мама очень любила тратить деньги. Неважно на что. Сколько я помню, мама старалась скопить деньги на дачу, правда у нее это никогда не получалось. Потом на машину – с тем же результатом. А работа с самодеятельностью приносила какие-то деньги. Но подробнее о маме я буду писать дальше. Просмотрев несколько самодеятельных спектаклей, папа отобрал один, по пьесе Маяковского «Клоп». В горкоме папе сказали, что на оформлении спектакля ему экономить не надо. Узнав об этом, Кочергин, начинающий художник, решил превзойти самого себя и заказал для задника парашютный шелк. Поработав над спектаклем, отец повез его в Москву. На конкурсе спектакль получил первое место. В горкоме по возвращении папе дали грамоту и сказали, что он может просить все, что захочет. Вплоть до новой квартиры. С жильем у нас было действительно туговато. Жили мы довольно большой семьей в двухкомнатной квартире. Папа, мама и я обитали в восемнадцатиметровой комнате, а моя сестра с мужем и шестимесячной дочерью теснились в девятиметровой клетушке. Но папа на предложение председателя горкома сказал, что художник Кочергин с женой и маленьким ребенком живут в общежитии, и им квартира нужнее. Художнику дали двухкомнатную квартиру, а мама устроила папе скандал. Какой – я описывать не стану.
Мой отец родился в тысяча девятьсот пятом году в Перми в семье женского портного по верхней одежде Израиля Лазаревича Гуревича. Портным он считался лучшим в городе и обшивал всю пермскую знать, включая жену губернатора. Семья была большая, очень дружная и очень верующая. Все дети ходили в хедер. Старшей из детей была Кейла, родившаяся в тысяча девятьсот втором году; за ней, в тысяча девятьсот пятом, родился мой папа, которого звали Гершель; за ним средний брат Давид, родившийся в тысяча девятьсот седьмом; и, наконец, младший брат Мойша, родившийся в тысяча девятьсот девятом. Бабушка умерла сразу после рождения Мойши. Звали ее Эсфирь. Фотографии ее я не видел, но папа говорил, что была она невероятно красивой, яркой, с прекрасной фигурой, а самое главное – добрейшим человеком. Добрее он в своей жизни не встречал. Дедушка боготворил ее, и ни о какой повторной женитьбе после ее смерти не могло быть и речи, хотя он был красив и со своей бородкой и пенсне чем-то походил на Чехова, но уж никак не на еврейского портного.
Жили они в одном из самых больших домов в еврейском квартале. В доме всегда было чисто и уютно. На заднем дворе цвел небольшой яблоневый сад, и его сладкий запах свежего меда, проникая в дом, кружил голову. После смерти матери роль хозяйки дома, как само собой разумеющееся, взяла на себя Кейла, которая характером – добрым, мягким, отзывчивым – как и своей красотой, пошла в мать. Сыновья были похожими на отца, кроме, пожалуй, Давида, который не был красив, но своим обаянием и мягким характером от других в этой семье не отличался. Когда дети стали из хедера перебираться в обычную школу, отец поменял им имена. Гершель стал Григорием, Давид – Даниилом, Кейлу переименовал в Катю, а Моисея – в Мишу.
Отношения в семье Гуревичей всегда были настолько дружелюбные, что не только ссор, но даже разговоров на повышенных тонах в их доме никогда не случалось. Особенно были дружны между собой Гриша и Даня. Хотя Гриша был на два года старше, и их характеры и интересы были совершенно разными, можно сказать, даже противоположенными, они были не разлей вода.
Даня, неукротимый среди детей на улице и на школьных переменах, на занятиях сразу преображался, полностью погружаясь в то, что говорил или писал на доске учитель. Правда, это относилось только к точным наукам. У Гриши же все было наоборот: мальчишеские игры ему были неинтересны, как были неинтересны и школьные занятия (кроме литературы), на которых он витал где-то в облаках, чаще всего воображая себя героем читаемой им книжки или недавно увиденного им спектакля или фильма. Читать Гриша научился рано, где-то лет в пять, и самостоятельно: по Катиному букварю. С тех пор он читал запоем. Театр он тоже полюбил еще в детстве – сразу после первого семейного похода на детский спектакль. Посмотрев спектакль, Гриша уже ни о чем другом думать не мог. Немного позже он стал ходить в театр самостоятельно, покупая билеты на скопленные деньги, которые отцом выдавались всем детям на их личные расходы. У Кати своих увлечений не было – она полностью отдалась семейным делам, с которыми, несмотря на свой юный возраст, справлялась как взрослая женщина. И все трое, тоже со взрослой ответственностью, опекали младшего брата Мишу.
Невозможно было представить, что эта семья когда-нибудь разъедется и распадется. Она и не распалась. Даня, считавшийся лучшим учеником в классе, сказал отцу, что в Пермском университете нет подходящего для него факультета, и он хочет поехать учиться в Московский или Ленинградский институт. К этому времени Гриша уже два года как работал в Пермском драмтеатре актером вспомогательного состава. Но его уже тогда интересовала режиссура, и он тоже изъявил желание перебраться в Москву или в Ленинград, где собирался поступать на режиссерский факультет театрального института. Израилю Гуревичу ничего не оставалась делать, кроме как переехать вместе с детьми в Ленинград, где жила его двоюродная сестра. Решение это для него было нелегким. Он никогда из Перми не выезжал, а главное – он должен был оставить могилу своей обожаемой жены. Но разорваться между покойной женой и будущим своих детей Израиль не мог, и он выбрал детей. В Ленинграде, пожив пару дней всем кагалом у своей двоюродной сестры, Израиль Лазаревич, как и предполагал, без труда устроился закройщиком в ателье в самом центре города, на Владимирском проспекте, и снял маленькую, но трехкомнатную квартиру на Загородном, совсем недалеко от работы.
Мой отец без труда поступил в театральный техникум, который потом преобразовался в театральный институт, а через два года после него Даня поступил в Политехнический. Катя в институт поступать не стала: она по-прежнему считала своей обязанностью заниматься домашним хозяйством. Миша заканчивал школу уже в Ленинграде.
Учась в театральном, папа одновременно работал руководителем Ансамбля песни и плясок Ленинградского военного округа. Вот насколько разнообразно он был одарен. На втором курсе института его послали на производственную практику в Большой драматический театр имени Горького. По окончании практики его оставили в театре режиссером. В тысяча девятьсот тридцать четвертом году мой отец женился. О том, как это произошло, он мне рассказал много лет спустя.
Глава вторая
Женитьба отца
Поздним летом тысяча девятьсот тридцать четвертого года мой отец поехал с театром на гастроли по Украине. В Днепропетровске театр давал три спектакля. На первом же спектакле отец, сидя, как всегда сидят режиссеры на еще не обкатанных спектаклях, в конце зала, на поставленном для него билетершей стуле, обратил внимание на худенькую девушку с короткой стрижкой блестящих черных волос. Войдя в зал, она приостановилась рядом с его стулом и восторженно оглянулась по сторонам. Задержав на нем взгляд, она широко улыбнулась ему, затем наклонилась к вошедшей вместе с ней подружке и что-то шепнула ей на ухо. Потом они уже обе повернули к нему головы и, широко улыбаясь, кивнули ему и пошли дальше по проходу. Мой отец настолько растерялся, что кивнул им в ответ, когда они уже отошли от него – им в спину. И покраснел. Их места были всего через ряд и слегка наискосок от его приставленного стульчика. Перед тем как сесть, худенькая брюнетка опять повернулась в его сторону. Глаза ее искрились озорством и беззаботностью, а с припухлых губ не сходила такая же озорная улыбка. Она, продолжая улыбаться, помахала ему рукой и села. Когда она села на свое место, он опять запоздало помахал ей в ответ – в спину, и опять покраснел от своей тупости.
В зале погас свет, поднялся занавес, и на сцене началось действо. Обычно внимание моего отца сразу переключалось на сцену, на игру актеров – для этого он и сидел на своем стульчике. Но сейчас он смотрел не на сцену, а на девушку: на ее узенькие плечи, на ее головку, даже в темноте зала блестевшую своими жгуче-черными волосами, и представлял себе ее лицо, которое он хоть и видел всего каких-то несколько секунд, но которое продолжало ярко стоять перед его глазами. Потом он стал думать, как ему подойти к ним, когда начнется антракт, и что ему сказать. А еще он думал, что ему скоро тридцать, что у него было достаточно много девушек, с которыми он встречался, и достаточно много женщин, с которыми он спал, но никогда не было ничего даже отдаленно похожего на ощущение, какое он испытывал сейчас, перед этой девчонкой – он был уверен, что ей еще нет и двадцати… Вдруг закрылся занавес, и в зале вспыхнул свет. Отец даже вздрогнул от неожиданности. Он встал со стула, вышел в фойе и стал их ждать около двери. Когда они появились, у него тотчас пересохло во рту и заторопилось сердце. Увидев его, девушка улыбнулась и, потянув за собой подругу, отошла в сторону, пропуская идущих сзади зрителей. Отец глубоко выдохнул, словно собирался прыгнуть в ледяную воду, и направился к ним, чувствуя, как наливается свинцом его голова.
– Здравствуйте. Я видел, как вы входили в зал и вот… – Отец на секунду замялся, подбирая слова, но так и не подобрав, протянул ей руку. – Меня зовут Григорий Гуревич. Я режиссер этого спектакля.
– Серьезно?! – Глаза девушки широко раскрылись. – Нинка, представляешь, сам режиссер! Вот это везуха! А вы в программке есть? – Она раскрыла программку и пробежала по ней глазами. – Ну да! Вот: постановщик – Г. И. Гуревич. Ничего себе! – Она торжествующе посмотрела на подругу и сразу впилась взглядом в моего отца. – А вы подпишете? Пожалуйста. – Девушка протянула ему программку с таким умоляющим выражением лица, что смущение отца сразу сменилось ликованием.
– Конечно. С удовольствием. – Отец взял у нее протянутую ему программку. – Как вас зовут? То есть кому подписать? – словно оправдываясь, спросил он.
– Женя.
– И Нине, – присоединилась подружка.
– Ага. Прямо сейчас. Иди свою купи, – сурово заявила Женя и для убедительности отодвинула ее рукой.
– Хорошо, я быстренько, – заторопилась Нина и побежала к стоявшей вдалеке билетерше.
– Ты не спеши, – сказала ей вслед Женя. – Еще та жадюга. – Повернулась она к отцу. – За десять копеек задавится. Вы думаете, она сама себе билеты в театр купила? Ага, ждите. Все на дармовщинку! А ваша жена тоже в театре работает? – вдруг без перехода с невинным выражением лица спросила Женя. – Она актриса?
– Нет, нет. Что вы! Я не женат, – испугался отец. И добавил для убедительности: – И никогда не был.
– Ну конечно. Чего вам жениться. За вами, наверное, все актрисы бегают.
– Нет, – заулыбался отец. – Не бегают. А вы, скорее всего, в школе учитесь?
– Да ну, скажете тоже. Мне уже восемнадцать, и я учусь на курсах кройки и шитья, – гордо заявила Женя.
– Это, должно быть, очень интересно, – сказал отец, хотя совсем так не думал. – А хотите, я после спектакля вас с подругой за кулисы проведу? С актерами познакомлю? – неожиданно для самого себя предложил он и замер в ожидании ответа.
– Еще бы хочу! – вскрикнула от удовольствия Женя. – Только без Нинки. Нафиг она нам, – доверительно сказала девушка и для убедительности махнула рукой.
– Вот и прекрасно, – облегченно улыбнулся отец. – Только я вас хочу предупредить: «Бесприданница» – очень длинный спектакль и закончится поздно. Вам от родителей не попадет?
– Да они и знать-то не будут, – отмахнулась Женя. Отец обратил внимание на то, что при разговоре она постоянно жестикулирует. Но это, как и все в ней, его не раздражало, а скорее даже умиляло.
– Они рано в постель, – продолжала она. – Мадмуазель – вот та меня, конечно, будет ждать. Она ни в жисть не ляжет, пока я домой не вернусь.
– Мадмуазель? Очень странное имя. У французов это означает «девушка».
– Да это не имя! – расхохоталась Женя. – Просто мы ее так все зовем. А она и есть француженка. Она и по-русски-то почти не говорит. Зато я сначала заговорила по-французски, а уж потом по-русски. И мои сестры. Мы между собой говорим только по-французски. Мама тоже немного понимает, а папа ни бельмеса. Я когда начинаю с ним ругаться, всегда ему по-французски отвечаю. Он аж белеет от злости. Да он вообще чуть что – злится…
У Самуила Радвинского был действительно довольно тяжелый характер. Как и Израиль Гуревич в Перми, купец второй гильдии Самуил Радвинский был довольно известной личностью в Днепропетровске, правда, только в еврейской общине. До революции он был богат и имел в центре Екатеринослава (как тогда именовался Днепропетровск) большой двухэтажный дом, куда он и привел молодую, небесной красоты жену – Марию Воловик. Была она из беднейшей еврейской семьи, и брак с богатым купцом Радвинским был для семьи Воловик посланием с небес, тем более что они только что лишились сына Лазаря, который в свои семнадцать лет сбежал во Францию, чтобы стать художником. Со временем он им и стал – и даже очень известным. Дружил и выставлялся с Сутиным. Был женат на Гржебиной, владеющей балетной труппой «Балет Рус». Но надежды Воловиков на то, что зять хоть как-то облегчит их непроходимую бедность, оказались беспочвенными: Самуил Радвинский никогда не был склонен к благотворительности. Когда в Днепропетровск пришла революция, и Радвинский потерял все свое достояние, он собирался рассчитать француженку, которую все звали Мадмуазель и которую Самуил нанял, когда родилась старшая дочь Алиса, а сам он еще был преуспевающим купцом второй гильдии. За время пребывания в их доме она настолько к ним привыкла, что, отказавшись от зарплаты, упросила Радвинского ее оставить. На ее руках выросли все три дочери Радвинских: Алиса, Женя и младшая Ира. И она, будучи старой девой, считала семью Радвинских своей семьей.
Самуил всегда отличался сварливым характером, а после того, как советская власть, ненависть к которой у него осталась на всю жизнь, лишила его всего, он превратился в скандалиста и деспота. Мария, мягкая и добрейшая женщина, все скандалы мужа переносила спокойно и молча, а когда очередной скандал затихал, делала все по-своему. Муж этого не замечал, потому что уже был занят следующим скандалом. Женя пошла характером в отца: она всегда была инициаторам ссор со своими подругами, с соседскими детьми, а особенно часто ругалась с отцом. Правда, Женя довольно быстро остывала и сразу забывала про ссоры, как будто их и вовсе не было. Младшая Ира тоже пошла в отца, правда, в отличие от Жени, отходчивой никогда не была и свою злость могла держать в себе бесконечно. Старшая же дочь, красавица Алиса, и внешностью и характером пошла в мать. Женю красивой нельзя было назвать, но было в ее внешности какое-то невинное очарование и притягательность, которые совсем не соответствовали ее характеру, но перед которыми трудно было устоять и которые с первого взгляда поразили моего отца. Даже если бы он и знал о сумасбродстве Жени, то это вряд ли бы его оттолкнуло: он бы убедил себя, что это девичье и скоро проходящее…
После окончания спектакля мой отец привел Женю за кулисы. Увидев собравшихся в группы спокойно разговаривающих между собой актеров, которые буквально несколько минут назад были на сцене совсем другими людьми из совсем другой далекой жизни, Женя сначала растерялась. Но когда они стали подходить к ней и приветливо с ней здороваться, она успокоилась. Когда же один из них, играющий мерзкого Кнурова, даже галантно поцеловал ей руку, что случилось с ней впервые в жизни и заставило покраснеть, она с восторгом представила, как завтра она будет всем рассказывать о том, что с ней произошло в театре, и как они ей все будут завидовать…
Когда мой отец с Женей наконец вышли из театра, было уже ближе к полуночи. Они еще долго, не торопясь, шли до ее дома: отец рассказывал ей о театре, о сказочно красивом Ленинграде и – с гордостью – о своей семье. Женя примолкла, хотя ей это было совсем несвойственно, и очень внимательно его слушала, сравнивая все, что он рассказывает, со своей жизнью, такой убогой и жалкой, даже несмотря на большую квартиру в их бывшем доме и на совершенное знание французского, которому ее с сестрами научила Мадмуазель, продолжавшая с ними жить, опекать и учить их хорошим манерам, что, конечно, ей совсем не удавалось. Слушая моего отца, Женя все больше и больше убеждалась, что сейчас перед ней, может быть, единственный шанс изменить эту свою никчемную жизнь, и нельзя, ни в коем случае нельзя этот шанс упустить. В том, что он в нее влюбился с первого взгляда, Женя нисколько не сомневалась. И как он постоянно, не отрываясь, смотрит на нее, и какое восхищение в этом его взгляде, и поход за кулисы, и вот эти дальние проводы. Конечно, влюбился по уши. И в том, что он рано или поздно сделает ей предложение, она тоже нисколечко не сомневалась, как и в том, что она, ни секунды не думая, примет его. А то, что он намного ее старше – ну и пусть! Он очень симпатичный и даже, можно сказать, красивый. Мужчина и должен быть старше. А то, что она его не любит, тоже ничего не значит. Что же ей, сидеть в своем вонючем Днепропетровске и ждать, когда любовь свалится с неба? Нет уж. Ей так опостылела жизнь с отцом, что даже в своих снах она видела, как садится на поезд, увозивший ее куда-то далеко-далеко, на самый край света. Вот, кажется, сны и сбылись – не верь после этого в вещие сны.
По дороге они договорились, что она завтра опять придет в театр – они показывают «Ричарда Третьего» Шекспира. Мой отец предупредил ее, что пьеса прекрасная, но очень тяжелая. «Ну и что?» – отмахнулась Женя. Она не маленькая. А Шекспира она уже видела в Киеве: «Ромео и Джульетта». И она даже плакала. Только завтра она придет одна, без всякой Нинки. Правда, если он хочет видеть Нину, то, конечно, пускай, ей все равно, но сама она уже не придет – чего ей тогда в театре делать. Отец стал уверять ее, что ему хочется видеть именно ее и никого больше, и если она против Нины, то ему это совсем безразлично, вернее, даже лучше. Когда они подошли к ее дому, она приблизила к нему свое лицо – ей даже не пришлось приподниматься на цыпочки (они были одного роста), – быстро коснулась губами его щеки и скрылась за большими тяжелыми дверями. У моего отца от этого неожиданного поцелуя перехватило дух, и он со счастливой улыбкой зашагал к себе в гостиницу.
Они теперь встречались каждый день, и отец окончательно поверил в то, что он влюбился, а Женя окончательно поверила в его влюбленность. Теперь они только ждали. Отец нервничал и не находил себе места от того, что он никак не может решиться сделать ей предложение, а Женя – от этой его нерешительности.
Через четыре дня театр, продолжая гастроли на Украине, переместился в Киев. Перед самым отъездом отец, не спавший перед этим всю ночь, наконец решился и предложил ей выйти за него. Женя, взвизгнув от восторга, бросилась ему на шею и прокричала: «Да, да, да!» Они договорились, что как только закончатся гастроли, он вернется в Днепропетровск, и они распишутся. Но сначала отец предложил пойти к ее родителям и попросить ее руки, на что Женя бурно запротестовала. С матерью никаких проблем не будет: она у них семейный ангел, а вот ее отец – это совсем другое. Он у них деспот и самодур. Ничего ему говорить не надо. Распишемся и все тут. Чего он потом сможет сделать? Мой отец был с этим не согласен, но противоречить ей не стал, как и потом не противоречил ей всю свою жизнь. Женя настояла на том, что после того, как они распишутся, она сама поговорит с родителями. А потом она им его представит. Отец лишь пожал плечами: такие отношения в семье ему были незнакомы и непонятны, но больше всего ему была непонятна сама Женя. Ее постоянные перепады настроения, ее неуравновешенность и необоснованная, совершенно необъяснимая вспыльчивость, которая быстро заканчивалась и забывалась: она так же моментально отходила, как моментально вспыхивала. Отец это прекрасно сознавал, но поделать с собой ничего не мог. Он был без памяти влюблен. Единственная надежда была на то, что восемнадцатилетняя Женя повзрослеет и под его влиянием и влиянием его семьи изменится, успокоится и станет той Женей, которую он себе вообразил и на которую надеялся.
Самуил Радвинский принял новость о женитьбе своей дочери на режиссере Ленинградского театра с радостью. Он сам уже давно подумывал о переезде в Ленинград. Там жил его младший брат Геся, который, в отличие от Самуила, даже при советской власти сумел сохранить свои деньги, скупив на них драгоценности, которые по необходимости сбывал нужным людям. Но вот как Геська (так пренебрежительно звал его Самуил) своими деньгами распоряжался, вызывало у него даже не насмешку, а самый настоящий гнев. Геська был большим любителем искусств, чем он также отличался от Самуила, который и читать-то не очень любил. Особенно Геська любил оперу и считался в Днепропетровске, да и в самом Киеве, известным меценатом, жертвующим чуть ли не все свои деньги талантливым, но неимущим музыкантам, певцам и актерам. Еще до революции он перебрался в Петербург, где, как и в близлежащей Москве, были лучшие в России опера и театр, и несравненно больше возможностей для его меценатства. Когда драгоценности у него кончились, а с ними, соответственно, кончились деньги, он стал буквально нищенствовать, и о меценатстве своем ему пришлось забыть. Но в театрах и в опере Ленинграда и Москвы он был настолько известен всем администраторам, контроллерам и билетерам, что его всюду пропускали бесплатно. Если свободных мест не было, ему ставился стул в конце зала. И долгие-долгие годы, до глубокой старости, когда он уже с трудом передвигался, его можно было увидеть на Невском проспекте, направляющегося своей шаркающей походкой в какой-нибудь театр. Причем в любую погоду и в любое время года на нем был его единственный потрепанный пиджак (пальто у него уже давно не было), через плечо был перевешен огромный бинокль, а в руке он всегда держал яблоко – видимо, его обед и ужин.
Отношения между братьями всегда оставляли желать лучшего, но Самуил все же надеялся, что кровь родная не водица, и хотя бы на первых порах брат, пусть немного, но поможет. Брат, конечно же, не помог. Правда, через много лет, когда старый Самуил серьезно заболел и впервые в своей жизни попал в больницу, Геська стал навещать его, принося с собой в кармане «маленькую» водки, до которой оба всегда были большими охотниками.
Ленинград настолько потряс Женю, что она долго не могла прийти в себя и целыми днями бродила по его улицам, набережным, паркам. Жила она с моим отцом в самом центре города на Владимирском проспекте, в двух минутах ходьбы от Невского. Семья Гуревичей занимала три комнаты в большой коммунальной квартире. В центральной и самой маленькой комнате жил глава семьи Израиль с младшим сыном Мишей, а по бокам от них расселились Гриша и Даня, который довольно скоро тоже женился. Катя к этому времени уже вышла замуж за Абрама Наравцевича, работавшего театральным администратором. Жила она с мужем недалеко от своих братьев, на Загородном проспекте, где у ее мужа так же в коммунальной квартире была огромная мрачная комната с единственным окном, выходящим во двор. Абрам Наравцевич оказался довольно суровым человеком, жизнь с которым была для нее просто невыносима. Но она родила ему двоих детей – сына Борю и дочку Хилю, ради которых, пока они были маленькие, она оставалась с ним жить. Когда же дети подросли, и Катя наконец решила оставить мужа, у него один за другим случились два инсульта, в результате которых его разбил полный паралич, и он оказался прикованным к своей постели. Бросить его в таком состоянии она, конечно, не могла. Когда ему что-то требовалось, он мычал или нечитаемым почерком писал записки. И его мычание, и нечитаемый почерк не были для нее проблемой: она научилась их понимать. А вот ухаживать за ним – мыть, менять постельное и нательное белье – было для нее очень тяжело, и привыкнуть к этому она не могла. Тетя Катя работала приемщицей в фотографии с соответственно мизерной зарплатой, и о том, чтобы нанять сиделку для своего парализованного мужа хотя бы на несколько часов в день, не могло быть и речи, а от помощи братьев, которые на этой помощи постоянно настаивали, она категорически отказывалась: не позволяла присущая всем Гуревичам гордость, которая даже перевешивала присущую им же необходимость поддерживать и заботиться друг о друге. Несмотря на это, они все равно довольно часто ходили к ней в гости с полными авоськами продуктов. Тем временем старший сын Боря окончил школу-студию при ленинградском БДТ, в котором сдружился с Копеляном и Стржельчиком. После этого работал режиссером, затем главным режиссером ТЮЗов в нескольких крупных городах страны. В тысяча девятьсот семидесятом году он переезжает в Горький, где с того же года становится главным режиссером Горьковского ТЮЗа, сделав его одним из лучших в стране. Приезжая в Ленинград, Боря всегда навещал нас. Был он очень веселым, жизнерадостным человеком. К сожалению, очень рано его не стало.
Сразу после женитьбы Гриша стал поговаривать о своем желании иметь ребенка, но Женя и слушать об этом не хотела. «Мне еще и девятнадцати нет, и в жизни своей я ничего еще не видела, а ты – самый настоящий эгоист! Сам-то пропадаешь в своем театре, а меня хочешь запереть дома? Нетушки!» Гриша знал, что все разговоры с ней бесполезны, что он ее никогда не переубедит по той простой причине, что он в своей любви к ней всегда отступал перед ее взбалмошным характером. И разговоры эти он прекратил, зная, что жизнь все равно возьмет свое. Так оно и получилось, и десятого апреля тысяча девятьсот тридцать шестого года Женя родила дочку, которую они назвали Еленой. В августе этого же года Алиса родила тоже дочку, которую назвали Жанной. Уже через год стало видно, что Ленуся, как ласково звал ее Гриша, становится очень похожей на свою бабушку – необыкновенную черноглазую красавицу Марию Йосифовну Радвинскую. Лена росла ребенком неугомонным, шумным и требующим бесконечного внимания. Женя от нее безумно уставала, раздражалась и была с ней холодна. К тому же она не могла забыть, какие тяжеленные у нее были роды. И от всего этого беззаветной материнской любви к ней не испытывала. Девочка это чувствовала и со временем стала отвечать ей тем же. Зато она всем сердце привязалась к отцу, который отвечал ей взаимностью и боготворил дочку.
Незадолго до рождения дочери, в конце тысяча девятьсот тридцать пятого, Григорию Гуревичу поручили организовать Театр драмы и комедии на Литейном проспекте. Одновременно ему выдали ордер на большую, в сорок квадратных метров комнату в огромной коммунальной квартире на улице Жуковского, совсем недалеко от театра на Литейном проспекте, которым он стал руководить. Отец поставил три спектакля: «Хозяйка гостиницы» Карло Гольдони, «Мещане» Горького и «Поздняя любовь» Островского. В январе тысяча девятьсот сорок первого ему было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. Стать в тридцать шесть лет главным режиссером ленинградского театра, пусть и областного, а затем еще получить звание – дело было нешуточное, и вся семья Гуревичей испытывала чувство для себя непривычной, но совершенно оправданной гордости: сын провинциального портного достиг таких высот. И не где-нибудь – в Ленинграде. Сам отец, конечно, тоже гордился своими успехами, но внешне это никак не проявлялось: как и все Гуревичи, он был скромен и незаносчив. Полной противоположностью Гуревичам был Самуил Радвинский, который теперь на каждом углу гордо объявлял, что он тесть главного режиссера театра. В Ленинград Радвинский с женой переехали меньше чем через год после замужества дочери. Почти перед самым их отъездом скончалась Мадмуазель. На похороны из Ленинграда прилетели сестры. Они вместе с матерью горько плакали на ее могиле, и даже Самуил Радвинский выглядел расстроенным, хотя и не плакал, потому что просто не умел.
Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года привычная и успешная жизнь отца, как и у всей огромной страны, неожиданно закончилась. Началась война. У папы была бронь, но он на следующий же день записался добровольцем на фронт. В этот же день, тоже имея бронь, на фронт записался и дядя Даня. Судьба свела их в последний раз на улице Некрасова. Два отряда, в одном из которых был мой отец, а в другом – дядя Даня, прошагали рядом, но только в противоположных направлениях. Увидев друг друга, они, заулыбавшись, помахали руками и разошлись. Дядя Даня, который командовал ДЗОТом, погиб в первые же месяцы войны. Хотя официально он считался пропавшим без вести. Папа провоевал всю войну на Ленинградском фронте. До начала Ленинградской блокады он отправил маму с Ленусей в эвакуацию в Куйбышев. Кончил папа войну капитаном. В коробочке он хранил полученный им орден Красной звезды и медали. О войне он говорить не любил, и единственное, чем поделился, – это тем, что за всю войну ни разу не заболел, хотя спал в окопах. И даже избавился от жуткого гастрита, которым страдал до войны.
Глава третья
Беспечные годы
Двадцать седьмого июня тысяча девятьсот сорок пятого года мамина сестра Алиса Брегман родила сына Юрия, который станет мне не только двоюродным братом, но и на всю жизнь близким другом. И благодаря которому через семнадцать лет моя жизнь коренным образом изменится, и наступят годы, ставшие лучшими в моей жизни. Я же родился седьмого февраля тысяча девятьсот сорок шестого, на всю жизнь став его младшим братом, о чем при случае он до сих пор мне всегда напоминает. То, что папа назовет меня в честь своего погибшего брата – Даниилом, стало ясно, как только я появился на свет. Мама возражать не стала. По словам мамы, в отличие от Ленуси, я родился легко и быстро. Может быть, это и определило ее дальнейшую безумную любовь ко мне. А может быть, то, что она шла делать аборт и на Невском встретила свою старую знакомую, которую очень давно не видела. Узнав от мамы, что та идет делать аборт, знакомая возмутилась и стала маму отговаривать. Не знаю, какие она нашла доводы, но мама развернулась и пошла домой. В любом случае любовь мамы ко мне была требовательной и бескомпромиссной. Я был всей ее жизнью, и длилось это долго, до тех пор, пока Ленуся не вышла замуж и не родила Иришку.
Как я уже говорил раньше, детских воспоминаний у меня сохранилось немного. Те же, что остались, совсем расплывчатые и неточные. Помню свою кроватку, которая стояла рядом с родительской. Помню, что каждый год я болел воспалением среднего уха. Наша комната была на последнем, пятом этаже, и во время войны на крышу упал снаряд. Пробоину залатали, но сырость в комнату проникала, а вместе с ней приходили болезни.
В мае тысяча девятьсот пятьдесят третьего года Ленинградский горком надумал соединить Театр драмы и комедии, которым раньше руководил отец, с Областным драматическим театром. Театр назвали Областным театром драмы и комедии, а руководить им назначали отца. В тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году ему присвоили звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР. К началу шестидесятых годов у театра был уже солидный репертуар. Львиную долю спектаклей ставил сам отец. Среди них – нашумевший, вызвавший огромный отклик у прессы и публики «Сын рыбака» по роману Вилиса Лациса и не менее признанный спектакль «Каменное гнездо» по финской пьесе Хеллы Вуолийоки. Огромнейшим успехом пользовался поставленный им спектакль «Три мушкетера» по роману Александра Дюма, инсценировку которого папа написал сам. Я тоже вложил свои две копейки в эту инсценировку. В середине июля тысяча девятьсот пятьдесят пятого года папа взял меня с собой на гастроли в Выборг. Днем мы с папой сидели в гостинице. Я читал книжку, а он писал ту самую инсценировку. Он как раз писал сцену, где гвардейцы кардинала устраивали засаду мушкетерам. Папа попросил меня придумать какие-нибудь смешные имена этим трем гвардейцам. Я сразу предложил: Бородавка, Заноза, Прыщ. Папа рассмеялся и использовал эти имена в пьесе. Среди актеров труппы были народная артистка СССР Антонина Павлычева, Георгий Жженов, о котором я уже упоминал в начале моего повествования, Николай Горин. Театр много ездил с гастролями по Ленинградской области, где его всегда ждали. В Ленинграде спектакли театра тоже проходили с успехом.
В конце августа пятьдесят третьего года театр поехал на длительные гастроли в Крым. Папа взял меня и маму с собой, а Ленуся, которая только что перешла в десятый класс, переехала к маминой старшей сестре Алисе Брегман. Гастроли начались в Ялте. Поселили нас в многоэтажной гостинице из белого камня с огромными террасами, смотрящими на бухту, в которой располагался пассажирский морской порт. С нашей террасы было прекрасно видно, как швартовались или отходили большие белые с красными трубами пассажирские пароходы. Пароходы гудели, причем каждый гудок имел свой голос – от звонкого разухабистого гудка до мягкого баритона или густого протяжного баса. Все это время на причале стояли или провожающие, или встречающие. И те и другие радостно размахивали руками. Как и сама гостиница, набережная перед ней была выложена белыми плитками, по которым прогуливалась праздная толпа, в основном одетая в белое. Женщины в белых платьях, белых широкополых шляпах, мужчины в белых хлопковых костюмах с белыми хлопковыми шляпами или панамами. Среди гражданской белой публики было множество моряков в белых матросках или в белых кителях. От всего белого на набережной у меня словно кружилась голова, и тогда я задирал ее и рассматривал чистое бирюзовое небо, на котором было невозможно отыскать хотя бы крошечное беленькое облачко. Огненный, в легкой дымке солнечный шар не подпускал к себе даже маленькие перистые облачка, иногда возникающие как по мановению волшебной палочки где-то далеко по краям бесконечного неба. Дождя в Ялте не было еще задолго по нашего приезда, и по несколько раз в день по улицам и паркам ездили моющие грузовики, поливая пыльные улицы и освежая поникшую траву на газонах и в скверах. Нашим любимым детским занятием было бежать перед этими грузовиками, промокая до нитки и заглатывая бьющую из них соленую морскую воду. Но главной, ни с чем не сравнимой радостью были походы с мамой на пляж. Море было теплое, очень соленое и огромное. Далеко-далеко оно сливалось с небом. Но походы на пляж скоро кончились. Наступило первое сентября, и я пошел в школу. Память о моих первых школьных днях не сохранила ничего. Абсолютно все стерлось. Помню только, как мы с мамой долго поднимались по идущей в гору петляющей улице. Но длилось это недолго.
Вскоре гастроли закончились и мы вернулись в Ленинград, в свою сорокаметровую комнату в огромной коммунальной квартире на Жуковского. Квартира была на последнем этаже пятиэтажного дома. На весь дом был всего один балкон, и принадлежал он нашей комнате. Так как молодые в нашей квартире не жили, то и нового пополнения детей производить было некому. Насколько помню, в коммуналке было двенадцать комнат. Кто в них жил – начисто забылось. Но хорошо помню саму квартиру с длинными коридорами, которые несколькими уровнями спускались к огромнейшей кухне. По меньшей мере там было три плиты, кухонные столики на каждую семью, на стенах висели полки с кухонной утварью и посудой. Там же, на кухне, была одна раковина, и рядом с ней – дверь в туалет. По утрам там выстраивались две длинные очереди. Учился я в двести двадцатой школе, которая находилась в пяти минутах ходьбы от нашего дома в унылом, из серого кирпича здании. Вход в школу был со двора, который, как и все дворы в этой части Ленинграда, напоминал колодец. Точно такой же двор был и в нашем доме. Ни зелени, ни детских площадок в таких дворах не было, и дети в них не играли. Там всегда стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь доносившимися с улицы гудками машин и криками точильщиков, призывающих наточить ножи.
Школу я ни тогда, ни позже не любил и учился, соответственно, очень посредственно. Единственным, что мне нравилось в школе, были переменки с пацанами из моего класса. Но в пятьдесят шестом году у нас в школе стали учиться девочки, и в нашем третьем классе появилась Марина Аршинова. Она была самой красивой из всех пришедших в наш класс девочек. Да и вообще она была самой красивой из всех, кого я когда-либо видел. У Марины Аршиновой были огромные черные глаза, а над ними – густые черные брови. Ее толстая и очень блестящая черная коса была переброшена через плечо, наверное, чтобы мальчишки за нее не дергали. Естественно, я в нее сразу влюбился. И меня совсем не смущало, что она была на голову выше меня. У меня сохранилась классная фотография тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. Когда берешь ее в руки, твой взгляд сразу задерживается на Марине Аршиновой. На фотографии я сижу внизу, в первом ряду, а она стоит во втором ряду сверху. Я сейчас смотрю на эту фотографию и понимаю, почему у меня на ней такое грустное лицо. А как я еще мог себя чувствовать после того, как фотограф распределил наши места на фотографии? Если же говорить об успеваемости, то Аршинова была круглой отличницей, а я – круглым троечником. В общем, что и говорить – никаких шансов у меня не было, и мне пришлось переносить свою любовь молча. Я не мог пригласить ее в кино или просто прогуляться в садике на Восстания. Точно так же я буду переносить свою следующую любовь, но это уже произойдет в новой школе, после того, как мы наконец покинем комнату на Жуковского. А пока что я стал учиться все хуже и хуже. Видимо, моя влюбленность не шла мне на пользу, и у меня в дневнике стали мелькать уже двойки. Папа очень серьезно относился к моим занятиям и каждый день просматривал мой дневник. Конечно, удовольствия это ему не доставляло. Однажды, получив очередную двойку в дневник, я грустно брел из школы домой. Уже темнело. Вокруг меня деловито шагали взрослые прохожие, торопились домой, размахивая портфелями, школьники. С мрачного неба начали падать пушистые хлопья белого снега, создавая радужное настроение. Но только не у меня. Меня ожидал серьезный разговор с отцом. Я не помню, бил ли он меня когда-нибудь ремнем. Очень в этом сомневаюсь. Но его расстроенное лицо, его такие убедительные разговоры о моей никчемности, о том, что меня ожидает будущее неудачника, очень угнетали меня. И мне казалось, что лучше бы он меня побил моим же форменным ремнем. И вдруг я решился на то, что раньше мне никогда не могло даже прийти в голову. Не доходя до дома, я остановился, отошел к стене и, достав свой дневник, вырвал из него страницу со злосчастной двойкой. Потом я долго думал, куда мне ее выбросить. Я стоял рядом с мусорным баком, но решил, что это опасно: вдруг найдут. Тогда я пропихнул страницу через решетку уличного стока. И пошел домой. Сейчас уже не помню, чем тогда закончилась эта история с дневником, но хорошо помню, что больше она не повторялась.
На зимние каникулы папа брал меня с собой на гастроли по области. Они проходили в самых больших городах: Гатчине, Всеволожске, Тихвине. Показывали всегда один спектакль. Театр выезжал на двух автобусах и с одним грузовиком для декораций. Я всегда сидел рядом с папой, но иногда меня забирал и сажал с собой Жженов. Его преданность и любовь к отцу распространялись и на меня. Помню, как однажды я стоял с папой за кулисами и смотрел, что происходит на сцене. Не вспомню уже, какой шел спектакль. Был выход Жженова: он, проходя мимо нас, подмигнул папе и, подхватив меня на руки, вышел со мной на сцену. Я сначала обомлел, а потом стал вырываться.
– Не хочешь, малыш? – улыбаясь, спросил Жженов.
Я энергично замотал головой.
– Ну тогда брысь отсюда. – Он опустил меня на пол и, шлепнув по попке, подтолкнул в сторону кулис.
Я опрометью выбежал со сцены, где, раскинув руки, меня ждал папа, а в зале раздались смешки.
В другой раз он во время разгоревшейся на сцене ссоры вдруг воскликнул:
– Тише, Данька спит!
Первый раз папа взял меня на репетицию, когда мне было лет девять. Но увидев, что мне скучно, что я еще слишком мал, он больше этого не делал. В конце же лета пятьдесят седьмого года, когда театр только вернулся с гастролей в Выборге, на которые папа брал меня с собой, он решил, что я уже достаточно подрос и можно попробовать.
– Хочешь пойти на репетицию «Трех мушкетеров»? – спросил он меня. – Ты все же принимал участие в написании инсценировки. Помнишь?
– Да, помню. Прыщ, Бородавка, Заноза. Так ты оставил эти имена?
– Конечно оставил. Пошли со мной, я как раз репетирую эту сцену.
Когда мы вошли, в пустом зале было темно, и только где-то ряду в десятом стоял маленький столик, на котором горела настольная лампа. На сцене, собравшись в кучку, оживленно разговаривали актеры. Папа, держа меня за руку, направился к столику.
– Здравствуйте, Григорий Израилевич, – разом поздоровались актеры, увидев папу.
– Здравствуйте. Не возражаете, что я сына привел? Он мой соавтор, – сказал папа, обнимая меня за плечи.
