«Бытие и время» Мартина Хайдеггера
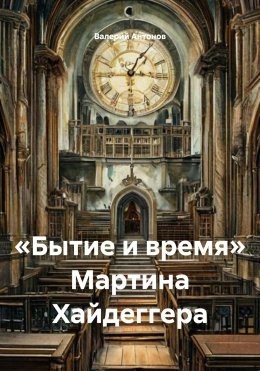
Предисловие
Представленный обзор фундаментального труда Мартина Хайдеггера «Бытие и время» не является переводом оригинала, а представляет собой аналитическую реконструкцию его содержания. Автор стремится последовательно раскрыть ключевые идеи произведения, сохраняя его структуру и логику аргументации. В тексте приводятся ссылки на соответствующие параграфы, что позволяет читателю сопоставить изложение с существующими переводами и оригинальным текстом.
Особое внимание уделяется разъяснению сложных концепций и терминологии Хайдеггера, а также комментированию наиболее трудных для понимания фрагментов. Это делает обзор полезным как для тех, кто только начинает знакомство с философией Хайдеггера, так и для более подготовленных читателей, желающих глубже разобраться в его идеях.
Рекомендуется использовать данный текст в сочетании с опубликованными переводами «Бытия и времени», чтобы точнее ориентироваться в материале. Надеемся, что эта работа послужит надежным проводником в сложном, но чрезвычайно значимом философском исследовании.»
Первая часть закладывает основы онтологии, где Dasein выступает как место раскрытия бытия, а его временность (позже раскрытая во второй части) становится горизонтом для понимания смысла бытия вообще.
Первая часть «Бытия и времени» Мартина Хайдеггера посвящена экзистенциальной аналитике Dasein (присутствия) как фундаменту для раскрытия смысла бытия. Ключевые идеи этой части можно обобщить следующим образом.
Хайдеггер начинает с постановки вопроса о бытии, подчеркивая его необходимость и приоритет перед всеми другими философскими вопросами. Он выявляет формальную структуру этого вопроса, который требует анализа самого спрашивающего – человека, Dasein, чье бытие уже изначально связано с пониманием бытия.
Основной фокус первой части – анализ Dasein через его фундаментальную структуру «бытия-в-мире» (In-der-Welt-sein). Это не просто пространственное нахождение в мире, а целостное отношение, где мир раскрывается как значимый контекст повседневных практик. Хайдеггер исследует «мирность мира» (Weltlichkeit), показывая, что вещи изначально встречаются нам не как нейтральные объекты, а как «подручные» (Zuhanden) – встроенные в сеть смыслов и практических отсылок (Verweisungen). Критикуя картезианский подход, который сводит мир к res extensa, он подчеркивает, что мир первично дан как значимое целое, а не как совокупность предметов.
Далее Хайдеггер анализирует социальное измерение Dasein – «бытие-с-другими» (Mitsein) и феномен «Man» (безличное «они»), который описывает повседневную усредненность и анонимность социального существования. Dasein здесь теряет себя в публичных интерпретациях, уклоняясь от собственной подлинности.
Центральное место занимает анализ «бытия-в» (In-Sein) как такового, раскрывающегося через «расположенность» (Befindlichkeit), «понимание» (Verstehen) и «речь» (Rede). Расположенность (например, страх или тревога) открывает Dasein его заброшенность (Geworfenheit) в мир, а понимание – его проективный характер. Повседневное бытие характеризуется «падением» (Verfallen) в мир, где доминируют болтовня (Gerede), любопытство (Neugier) и двусмысленность (Zweideutigkeit).
Итогом анализа становится определение бытия Dasein как «заботы» (Sorge), объединяющей три элемента: «бытие-впереди-себя» (экзистенциальность), «бытие-уже-в-мире» (фактичность) и «бытие-при-сущем» (падение). Забота раскрывается через феномен «тревоги» (Angst), которая обнажает ничто и подлинную возможность бытия.
Наконец, Хайдеггер связывает Dasein с проблемой реальности и истины, переосмысляя последнюю как «нескрытость» (Unverborgenheit) – открытость бытия, которая возможна благодаря экзистенциальной структуре Dasein как «бытия-в-истине».
Введение
Хайдеггер в «Бытии и времени» обосновывает необходимость заново поставить вопрос о смысле бытия, который, несмотря на свою фундаментальность, был предан забвению в философской традиции. Хотя античные мыслители, такие как Платон и Аристотель, напряжённо размышляли о бытии, их открытия со временем тривиализировались, а сама проблема была вытеснена догматическими предрассудками. Современная философия, считая себя прогрессивной, избегает подлинной «битвы гигантов о сущности» (γιγαντομαχία περί τῆς οὐσίας), о которой говорили древние, и вместо этого опирается на необоснованные допущения. Хайдеггер выделяет три таких предрассудка: первый утверждает, что бытие – это «самое общее» понятие, которое, будучи трансцендентальным (transcendens), не поддаётся родовому определению, как это показал уже Аристотель, говоривший о бытии в терминах аналогии. Однако средневековая онтология (включая томистов и скотистов), как и Гегель, который свёл бытие к «неопределённому непосредственному», не смогла прояснить его смысл. Второй предрассудок гласит, что бытие неопределимо, поскольку оно не есть сущее и не может быть выражено через род и видовое отличие, но это не отменяет необходимости его осмысления. Третий предрассудок – самоочевидность бытия, которая, по видимости, делает его понятным в повседневном употреблении (например, в высказываниях типа «небо есть голубое»), но на деле скрывает его глубинную загадочность. Кант справедливо отмечал, что философия должна исследовать эти «тайные суждения здравого смысла», а не принимать их как данность. Таким образом, Хайдеггер показывает, что вопрос о бытии не только остаётся без ответа, но и сама его постановка требует тщательной разработки, поскольку традиционные подходы, восходящие к античной онтологии, затемнили его изначальный смысл. Задача феноменологии – не давать готовые ответы, но раскрывать скрытые структуры понимания, возвращаясь к изначальному удивлению перед бытием, утраченному в метафизической традиции. Хайдеггер обосновывает необходимость заново поставить вопрос о бытии, преодолев три предрассудка:
– что бытие «очевидно»,
– что оно «неопределимо»,
– что оно «самое общее».
Подлинная философия должна вернуться к изначальному удивлению перед бытием, которое было утрачено в традиционной метафизике.
Упомянутый вопрос ныне предан забвению, хотя наше время и считает себя прогрессивным, вновь утверждая «метафизику». Тем не менее, люди избавляют себя от усилий, необходимых для разжигания новой γιγαντομαχία περί τῆς οὐσίας («битвы гигантов о сущности»). Между тем, этот вопрос отнюдь не произволен. Он занимал исследования Платона и Аристотеля, но затем, собственно, замолк – как тематический вопрос подлинного исследования. То, что они обрели, сохранилось в многообразных смещениях и «наслоениях» вплоть до «Логики» Гегеля. А то, что некогда было добыто величайшим напряжением мысли из феноменов – пусть фрагментарно и в первых подступах – давно уже тривиализировано.
Но не только это. На почве греческих подходов к истолкованию бытия сложилась догма, которая не только объявляет вопрос о смысле бытия излишним, но и санкционирует упущение этого вопроса. Говорят:
– «Бытие» – это самое общее и самое пустое понятие. Как таковое, оно сопротивляется любой попытке определения. Это самое общее, а потому неопределимое понятие не нуждается и в определении. Каждый постоянно использует его и уже понимает, что он при этом имеет в виду.
Таким образом, то, что в древней философии скрыто тревожило и поддерживало мысль, превратилось в нечто самоочевидное, настолько ясное, что тот, кто всё ещё задаётся этим вопросом, обвиняется в методологической ошибке.
В начале этого исследования мы не можем подробно разбирать предрассудки, которые постоянно подпитывают отсутствие потребности в вопрошании о бытии. Они укоренены в самой античной онтологии. Последняя, в свою очередь, может быть адекватно интерпретирована – в отношении почвы, из которой произрастают основные онтологические понятия, а также уместности и полноты категорий – лишь на основе предварительно прояснённого и разрешённого вопроса о бытии. Поэтому мы ограничим обсуждение предрассудков лишь настолько, чтобы стала ясной необходимость повторения вопроса о смысле бытия. Их три:
«τὸ ὄν ἔστι καθόλου μάλιστα πάντων» («бытие есть самое общее из всего»).
«Illud quod primo cadit sub apprehensione est ens, cuius intellectus includitur in omnibus, quaecumque quis apprehendit» («То, что первым схватывается в восприятии, – это сущее, понимание которого включено во всё, что бы ни воспринималось»).
«Понимание бытия уже заранее заключено во всём, что человек схватывает в сущем». Однако «всеобщность» бытия – не всеобщность рода. «Бытие» не ограничивает высшую область сущего, если последнее концептуально артикулировано по родам и видам: «οὔτε τὸ ὂν γένος» («бытие не есть род»). «Всеобщность» бытия «превосходит» всякую родовую всеобщность.
Согласно терминологии средневековой онтологии, «бытие» есть «transcendens» (трансцендентальное). Единство этого трансцендентально «всеобщего» по отношению к множеству содержательных высших родовых понятий уже Аристотель осознал как единство аналогии. С этим открытием Аристотель, несмотря на зависимость от онтологической постановки вопроса у Платона, перенёс проблему бытия на принципиально новую основу. Однако и он не прояснил тьму этих категориальных связей.
Средневековая онтология (особенно в томистских и скотистских школах) много обсуждала эту проблему, но так и не пришла к принципиальной ясности. А когда Гегель в конце концов определяет «бытие» как «неопределённое непосредственное» и кладёт это определение в основу всех дальнейших категориальных экспликаций своей «Логики», он остаётся в том же направлении взгляда, что и античная онтология, – с той лишь разницей, что он отказывается от проблемы единства бытия перед множеством содержательных «категорий», уже поставленной Аристотелем.
Таким образом, если говорят, что «бытие» – самое общее понятие, это не означает, что оно самое ясное и не нуждается в дальнейшем обсуждении. Напротив, понятие «бытия» – самое тёмное.
Это заключение выводится из его высшей всеобщности. И справедливо – если «definitio fit per genus proximum et differentiam specificam» («определение даётся через ближайший род и видовое отличие»).
Действительно, «бытие» нельзя постичь как сущее: «enti non additur aliqua natura» («к сущему не прибавляется никакая природа»). Бытие не может быть определено так, чтобы ему приписывалось сущее. Бытие нельзя дефинитивно вывести из высших понятий и выразить через низшие.
Но означает ли это, что «бытие» больше не представляет проблемы? Ни в коем случае. Можно заключить лишь следующее: «бытие – это не нечто сущее». Поэтому способ определения сущего (традиционная «дефиниция» логики, чьи основания лежат в античной онтологии) в определённых границах правомерен, но к бытию неприменим.
Неопределимость бытия не освобождает от вопроса о его смысле, но, напротив, требует его.
Во всяком познании, высказывании, в любом отношении к сущему, в каждом самоотношении используется «бытие», и выражение это «без дальнейших разъяснений» понятно. Каждый понимает:
– «Небо есть голубое»,
– «Я есть радостный» и т. д.
Но эта средняя понятность лишь демонстрирует непонятность. Она показывает, что в каждом отношении и способе бытия к сущему как сущему априори заложена загадка.
То, что мы всегда уже живём в понимании бытия и одновременно смысл бытия окутан тьмой, доказывает принципиальную необходимость повторения вопроса о смысле «бытия».
Опора на самоочевидность в сфере философских основополагающих понятий, а тем более в отношении понятия «бытия», – сомнительная процедура, если только «самоочевидное» (и только оно) должно стать и оставаться явной темой аналитики («дело философов») – теми «тайными суждениями здравого смысла», о которых говорил Кант.
Разбор предрассудков, однако, также показал, что не только отсутствует ответ на вопрос о бытии, но и сам вопрос остаётся тёмным и лишённым направления.
Повторить вопрос о бытии значит, прежде всего, разработать саму постановку вопроса с достаточной ясностью.
1. γιγαντομαχία περί τῆς οὐσίας – отсылка к спорам античных философов о природе сущего (бытия). Хайдеггер подчёркивает, что современная философия избегает этой глубинной проблемы.
2. Трансценденталии (transcendens) – в схоластике термины, выходящие за пределы категорий Аристотеля (бытие, единое, истинное, благое). Хайдеггер отмечает, что бытие нельзя свести к родовому понятию.
3. Аналогия бытия – у Аристотеля: бытие говорится в разных смыслах, но не произвольно, а по аналогии (например, «здоровье» в организме, цвете лица и образе жизни).
4. Критика Гегеля – Хайдеггер указывает, что Гегель, определяя бытие как «неопределённое непосредственное», упрощает проблему, теряя аристотелевскую глубину.
5. Самоочевидность как проблема – кажущаяся ясность бытия («все понимают, что это значит») скрывает его подлинную загадочность.
6. Задача феноменологии – не принимать ничего как данное, но раскрывать скрытые смыслы. Поэтому вопрос о бытии требует не ответа, а правильной постановки.
Этот параграф закладывает методологию «Бытия и времени»: вопрос о бытии требует анализа Dasein, потому что только оно способно спрашивать о смысле своего существования. Круг здесь не логический, а герменевтический – мы всегда уже «в бытии», и задача – эксплицировать это понимание.
Вопрос о смысле бытия должен быть поставлен. Если он является фундаментальным или даже самым фундаментальным вопросом, то такое вопрошание требует соответствующей ясности. Поэтому необходимо кратко рассмотреть, что вообще принадлежит к структуре вопроса, чтобы на этой основе можно было выявить вопрос о бытии как особый.
Хайдеггер начинает с утверждения, что вопрос о бытии – это не обычный вопрос, а фундаментальный. Чтобы правильно его поставить, нужно сначала понять саму структуру вопрошания.
Всякое вопрошание есть поиск. Всякий поиск заранее направлен искомым. Вопрошание – это познавательный поиск сущего в его что-бытии (Daß-sein) и как-бытии (Sosein). Познавательный поиск может стать «исследованием» – раскрывающим определением того, о чем спрашивается.
Вопрошание как вопрошание о чём-то имеет:
– Спрашиваемое (Gefragtes) – то, о чём непосредственно спрашивают.
– Опрошенное (Befragtes) – то, у чего ищут ответ (например, природа, человек, текст).
– Выспрашиваемое (Erfragtes) – то, что в итоге должно быть раскрыто (смысл, истина).
Вопрос может быть:
– случайным («просто так спросить»),
– или явной постановкой проблемы, где заранее продуманы все его структурные моменты.
Хайдеггер различает три уровня вопроса:
1. Спрашиваемое – тема (например, «бытие»).
2. Опрошенное – источник ответа (например, человек как существо, способное спрашивать).
3. Выспрашиваемое – цель (смысл бытия).
Вопрос о смысле бытия требует анализа с учётом этих структурных моментов.
Как поиск, вопрошание нуждается в предварительном ориентире от искомого. Значит, смысл бытия уже должен быть нам как-то доступен.
Мы всегда уже движемся в понимании бытия, даже если не можем его четко определить. Например, спрашивая: «Что есть бытие?», мы используем слово «есть», не зная его точного смысла. Это среднее и смутное понимание бытия – факт, который требует прояснения.
Хайдеггер говорит о «предварительном понимании бытия» – мы интуитивно знаем, что такое бытие, но не можем выразить это концептуально. Это похоже на то, как мы используем слово «время», не имея его строгого определения.
Поскольку бытие – это бытие сущего, то опрошенным в вопросе о бытии становится само сущее. Мы «допрашиваем» сущее о его бытии. Но для этого сущее должно быть доступно нам таким, каково оно само по себе.
Проблема: «сущее» мы понимаем по-разному (вещи, идеи, люди). Какое сущее следует выбрать для раскрытия бытия? Есть ли у какого-то сущего приоритет?
Здесь возникает ключевая мысль: чтобы понять бытие, нужно выбрать «образцовое сущее», через которое бытие раскроется. Позже Хайдеггер покажет, что этим сущим является Dasein (бытие-вот, человеческое существование).
Смысл бытия требует особого способа выражения, отличного от понятий, которыми мы описываем сущее.
Чтобы вопрос о бытии был поставлен явно и прозрачно, необходимо:
– прояснить способ взгляда на бытие,
– выбрать правильное сущее для анализа,
– определить подходящий метод доступа к нему.
Но само вопрошание – это способ бытия того сущего, которое спрашивает, то есть нас самих. Это сущее, способное спрашивать о бытии, Хайдеггер называет Dasein.
Таким образом, вопрос о бытии требует предварительного анализа Dasein в его бытии.
Dasein – не просто «человек», а бытие, для которого важно его собственное бытие. Именно Dasein может спрашивать о смысле бытия, поэтому его анализ – ключ к онтологии.
Не является ли такой подход порочным кругом? Ведь мы:
1. должны сначала понять бытие Dasein,
2. чтобы затем задать вопрос о бытии вообще.
Хайдеггер отвечает:
– Это не круг, потому что предварительное понимание бытия уже есть у Dasein (мы живём в нём, даже не осознавая этого).
– Онтология всегда «предполагает» бытие, но не как готовое понятие, а как то, что нужно раскрыть.
Хайдеггер отвергает формальную логику «круга в доказательстве». Для него важно феноменологическое раскрытие: мы уже находимся в бытии, и задача – сделать это неявное понимание явным.
Вопрос о бытии уникален: спрашиваемое (бытие) относится к самому вопрошанию как способу бытия Dasein. Это не круг, а «обратная отнесённость», показывающая, что Dasein имеет особую связь с вопросом о бытии.
Пока ещё не доказано, что Dasein имеет приоритет, но его особая роль уже намечена.
Здесь Хайдеггер подводит к идее, что Dasein – не просто объект исследования, а то место, где бытие раскрывается. Это станет основой его «фундаментальной онтологии».
– Бытие (Sein) – центральная тема вопроса, не сводимая к сущему.
– Сущее (Seiendes) – всё, что есть (предметы, люди, идеи).
– Dasein – человеческое бытие как место вопроса о бытии.
– Спрашиваемое/Опрошенное/Выспрашиваемое – уровни структуры вопроса.
Вопрос о бытии обладает онтологическим приоритетом, потому что он лежит в основе всех наук и самой философии. Без прояснения смысла бытия любые исследования сущего остаются непроясненными в своих основаниях. Однако, как намекает Хайдеггер, этот приоритет – не только теоретический, но и экзистенциальный (что будет раскрыто далее).
Формальная структура вопроса о бытии и его особенность
Предварительная характеристика вопроса о бытии, проведенная на основе формальной структуры вопроса как такового, выявила его своеобразие. Однако для его разработки и тем более решения требуется ряд фундаментальных размышлений. Подлинное значение вопроса о бытии прояснится лишь тогда, когда будет достаточно определено его функциональное назначение, цель и мотивы.
До сих пор необходимость повторного обращения к этому вопросу обосновывалась, во-первых, его почтенным происхождением, а во-вторых, отсутствием определенного ответа и даже недостаточной проработанностью самой постановки вопроса. Однако можно спросить: для чего вообще нужен этот вопрос? Остается ли он лишь делом отвлеченных спекуляций о самых общих абстракциях – или же он является одновременно и наиболее принципиальным, и самым конкретным вопросом?
Бытие и регионы сущего.
Бытие всегда есть бытие сущего. Все сущее в целом может быть разделено на различные регионы, которые становятся областями раскрытия и разграничения определенных предметных сфер. Эти сферы – например, история, природа, пространство, жизнь, присутствие (Dasein), язык и т. д. – могут быть тематизированы в рамках соответствующих научных исследований.
Научное исследование наивно и грубо выделяет и первоначально фиксирует эти предметные сферы. Однако проработка области в ее основных структурах в некотором смысле уже осуществляется донаучным опытом и истолкованием региона бытия, в котором сама предметная сфера очерчивается. Возникающие таким образом «основные понятия» становятся первоначальными ориентирами для конкретного раскрытия области.
Хотя вес научного исследования всегда лежит в этой позитивности (т. е. в изучении конкретного сущего), его подлинный прогресс заключается не столько в накоплении результатов и их сохранении в «руководствах», сколько в реактивном (ответном) вопрошании, которое, исходя из растущего знания вещей, обращается к основным устроениям данной области.
Кризис основных понятий в науках.
Подлинное «движение» наук происходит в более или менее радикальном и осознанном пересмотре их основных понятий. Уровень науки определяется тем, насколько она способна к кризису своих основополагающих концепций. В этих имманентных кризисах наук начинает колебаться само отношение позитивного исследовательского вопрошания к изучаемым вещам.
Сегодня в различных дисциплинах пробуждаются тенденции к переосмыслению их фундаментальных оснований:
– Математика, казавшаяся строжайшей и наиболее устойчивой наукой, переживает «кризис оснований». Борьба между формализмом и интуиционизмом ведется за первичный способ доступа к тому, что должно быть предметом этой науки.
– Физика (теория относительности) стремится выявить собственную связность природы, как она существует «сама по себе». Определяя все относительности, она пытается сохранить неизменность законов движения и тем самым ставит вопрос о структуре своей предметной области – проблеме материи.
– Биология пытается выйти за рамки механистических и виталистических определений организма и жизни, чтобы заново определить способ бытия живого как такового.
– Исторические науки усиливают стремление к самой исторической действительности, прорываясь через традицию и ее интерпретации. Литературная история должна стать историей проблем.
– Теология ищет более изначальное истолкование бытия человека перед Богом, исходящее из самого смысла веры. Она начинает заново понимать мысль Лютера о том, что ее догматическая систематика покоится на «основании», не выросшем из первичного вопрошания веры, и что ее понятийный аппарат не только недостаточен для теологической проблематики, но и искажает ее.
Основные понятия и онтологическое исследование.
Основные понятия – это определения, в которых предметная область, лежащая в основе всех тематических объектов науки, приходит к предварительному пониманию, ведущему всякое позитивное исследование. Их подлинное обоснование возможно только через предварительное исследование самой предметной области.
Поскольку каждая такая область вычленяется из региона сущего, это предварительное исследование, создающее основные понятия, есть не что иное, как истолкование сущего в его основополагающем устроении. Такое исследование должно предшествовать позитивным наукам – и оно может это делать. Работы Платона и Аристотеля служат тому доказательством.
Этот вид обоснования наук принципиально отличается от запоздалой «логики», которая лишь анализирует случайное состояние науки с точки зрения ее «метода». Он является продуктивной логикой в том смысле, что «врывается» в определенную область бытия, раскрывает ее устроение и предоставляет полученные структуры позитивным наукам как прозрачные указания для вопрошания.
Например, философски первичным является не теория образования исторических понятий, не теория исторического познания и даже не теория истории как объекта историографии, а интерпретация собственно исторического сущего в его историчности. Точно так же позитивный результат «Критики чистого разума» Канта заключается не в «теории» познания, а в попытке проработки того, что принадлежит природе как таковой. Его трансцендентальная логика – это априорная логика предметной области «природа».
Необходимость прояснения смысла бытия.
Однако такое вопрошание – онтология в самом широком смысле, независимо от конкретных онтологических направлений – само нуждается в ориентире. Онтологическое вопрошание, конечно, изначальнее онтического (предметного) вопрошания позитивных наук. Но оно остается наивным и непрозрачным, если его исследование бытия сущего оставляет нераскрытым смысл бытия вообще.
Как раз онтологическая задача недедуктивной разработки различных возможных способов бытия требует предварительного понимания того, «что мы вообще подразумеваем под выражением "бытие"».
Онтологический приоритет вопроса о бытии.
Таким образом, вопрос о бытии направлен на априорное условие возможности не только наук, исследующих сущее как таковое и уже движущихся в некотором понимании бытия, но и самих онтологий, лежащих в основе онтических наук.
Всякая онтология, сколь бы богатой и стройной системой категорий она ни обладала, остается в основе слепой и извращением своей собственной цели, если она не прояснила предварительно смысл бытия и не поняла это прояснение как свою фундаментальную задачу.
Правильно понятое онтологическое исследование придает вопросу о бытии онтологический приоритет, выходящий за рамки простого возобновления почтенной традиции или продвижения в решении до сих пор неясной проблемы. Однако этот предметно-научный приоритет – не единственный.
1. Онтологическое vs. онтическое
– Онтическое исследование изучает сущее (например, физика изучает природные явления).
– Онтологическое исследование изучает бытие этого сущего (например, что значит «быть природным явлением»).
2. Кризис наук
Хайдеггер показывает, что науки сталкиваются с проблемами, когда их основные понятия (например, «материя», «жизнь», «история») оказываются недостаточно проясненными. Это требует возврата к более фундаментальному вопрошанию – вопросу о бытии.
3. Продуктивная логика
В отличие от формальной логики, которая лишь анализирует готовые методы наук, «продуктивная логика» (как у Платона и Аристотеля) активно формирует новые способы понимания бытия.
4. Смысл бытия
Главная мысль: прежде чем исследовать как существует сущее, нужно понять, что значит «быть» вообще. Без этого любая онтология остается слепой.
Хайдеггер обосновывает, что вопрос о бытии возможен только потому, что Dasein (человеческое бытие) уже понимает бытие. Поэтому анализ Dasein – первый шаг к фундаментальной онтологии.
Наука вообще может быть определена как целое связи обоснований истинных высказываний. Это определение не является ни исчерпывающим, ни точно схватывающим науку в её сути. Науки, как способы поведения человека, обладают способом бытия этого сущего (человека). Это сущее мы терминологически обозначаем как Dasein (прим. перев.: здесь и далее оставляем без перевода, так как термин Хайдеггера не имеет точного аналога в русском языке; можно пояснить как «бытие-вот», «присутствие» или «человеческое бытие»).
Научное исследование – не единственный и не ближайший возможный способ бытия этого сущего. Более того, Dasein выделяется среди прочего сущего. Это выделение необходимо предварительно прояснить. При этом обсуждение неизбежно забегает вперёд, предвосхищая последующие и собственно демонстративные анализы.
Dasein – это сущее, которое не просто встречается среди прочего сущего. Оно онтически выделяется тем, что для этого сущего в его бытии дело идёт о самом этом бытии. К способу бытия Dasein относится то, что оно имеет отношение к своему бытию в самом этом бытии. Это, в свою очередь, означает: Dasein так или иначе, явно или неявно, понимает себя в своём бытии. Этому сущему присуще, что с его бытием и через него это бытие ему самому открыто. Понимание бытия само есть определённость бытия Dasein. Онтическое отличие Dasein заключается в том, что оно онтологично.
Быть онтологичным здесь ещё не значит: разрабатывать онтологию. Если мы сохраняем термин «онтология» за явным теоретическим вопрошанием о смысле сущего, то онтологичность Dasein следует обозначить как доонтологическую. Однако это не означает просто «быть онтически сущим», но быть в модусе понимания бытия.
Бытие, к которому Dasein может так или иначе относиться и всегда как-то относится, мы называем экзистенцией. И поскольку определение сущности этого сущего не может быть осуществлено через указание на его «что» (содержательное определение), но его сущность состоит в том, что оно всегда должно быть своим бытием, термин Dasein выбран как чистое выражение бытия для обозначения этого сущего.
Dasein всегда понимает себя исходя из своей экзистенции – возможности быть самим собой или не быть собой. Эти возможности Dasein либо само выбирает, либо оказывается в них вовлечённым, либо уже всегда в них пребывает. Экзистенция решается самим Dasein в модусе принятия или упущения. Вопрос экзистенции может быть прояснён только через само экзистирование. Ведущее в этом понимание себя мы называем экзистенциальным. Вопрос экзистенции – это онтическое «дело» Dasein. Для него не требуется теоретической прозрачности онтологической структуры экзистенции. Вопрос о ней направлен на выявление того, что конституирует экзистенцию. Связь этих структур мы называем экзистенциальностью. Её анализ имеет характер не экзистенциального, а экзистенциалного понимания. Задача экзистенциальной аналитики Dasein заранее намечена в онтическом устройстве Dasein в отношении её возможности и необходимости.
Поскольку экзистенция определяет Dasein, онтологический анализ этого сущего всегда требует предварительного взгляда на экзистенциальность. Мы понимаем её как способ бытия сущего, которое экзистирует. В идее такого способа бытия уже заложена идея бытия. И потому возможность проведения аналитики Dasein зависит от предварительной разработки вопроса о смысле бытия вообще.
Науки – это способы бытия Dasein, в которых оно также относится к сущему, каким само не является. Но для Dasein существенно: быть в мире. Поэтому понимание бытия, принадлежащее Dasein, изначально включает понимание чего-то вроде «мира» и понимание бытия сущего, которое становится доступным внутри мира. Онтологии, тематизирующие сущее с не-присутственным способом бытия, основаны и мотивированы в онтической структуре Dasein, которая включает в себя определённость доонтологического понимания бытия.
Следовательно, фундаментальную онтологию, из которой могут происходить все другие, следует искать в экзистенциальной аналитике Dasein.
Таким образом, Dasein имеет множественный приоритет перед всем прочим сущим:
1. Онтический приоритет: это сущее в своём бытии определяется экзистенцией.
2. Онтологический приоритет: Dasein в силу своей экзистенциальной определённости само «онтологично».
3. Онтически-онтологический приоритет: Dasein также изначально включает понимание бытия всего не-присутственного сущего. Поэтому Dasein есть условие возможности всех онтологий.
Dasein оказывается тем сущим, которое первично подлежит онтологическому вопрошанию.
Однако сама экзистенциальная аналитика в конечном счёте укоренена экзистенциально, то есть онтически. Только если философское вопрошание как возможность бытия экзистирующего Dasein экзистенциально принято, возможна раскрытие экзистенциальности экзистенции и, следовательно, возможность постановки достаточно обоснованной онтологической проблематики вообще. Тем самым становится ясен и онтический приоритет вопроса о бытии.
Онтически-онтологический приоритет Dasein был замечен уже давно, хотя само Dasein не схватывалось в своей подлинной онтологической структуре и даже не становилось проблемой. Аристотель говорит: «ψυχή τά ὄντα πώς ἐστιν» («душа [человека] есть в некотором смысле всё сущее»). Душа, составляющая бытие человека, в своих модусах – αἴσθησις (чувственное восприятие) и νόησις (умопостижение) – открывает всё сущее в его «что» и «как», то есть всегда также в его бытии. Этот тезис, восходящий к онтологии Парменида, был развит Фомой Аквинским в характерном рассуждении. В рамках задачи выведения «трансценденталий» (характеристик бытия, выходящих за любую содержательно-родовую определённость сущего) доказывается, что verum (истина) также принадлежит к ним. Это обосновывается через отсылку к сущему, которое по своему способу бытия способно «сходиться» с любым сущим. Это выделенное сущее – ens quod natum est convenire cum omni ente («сущее, предназначенное соединяться со всяким сущим») – есть душа (anima).
Выступающий здесь, хотя и не прояснённый онтологически, приоритет Dasein перед прочим сущим явно не имеет ничего общего с плохой субъективацией всего сущего.
Доказательство онтически-онтологического отличия вопроса о бытии основано на предварительном указании онтически-онтологического приоритета Dasein. Но анализ структуры вопроса о бытии как такового (§ 2) выявил особую функцию этого сущего в самой постановке вопроса. Dasein раскрылось как то сущее, которое должно быть предварительно онтологически проработано, чтобы вопрошание стало прозрачным. Теперь же выяснилось, что онтологическая аналитика Dasein вообще составляет фундаментальную онтологию, а значит, Dasein функционирует как то сущее, которое изначально должно быть вопрошаемо о своём бытии.
Если интерпретация смысла бытия становится задачей, то Dasein – не только первично вопрошаемое сущее, но и то сущее, которое уже всегда в своём бытии относится к тому, о чём спрашивается в этом вопросе. Тогда вопрос о бытии есть не что иное, как радикализация свойственной Dasein сущностной тенденции бытия – доонтологического понимания бытия.
Вопрос о бытии, по Хайдеггеру, возможен лишь потому, что человеческое бытие (Dasein) уже обладает неявным пониманием бытия. Dasein, ключевой термин «Бытия и времени», обозначает не просто человека как биологическое существо, а бытие, которое осознаёт себя, вопрошает о своём существовании и заботится о нём. Это «бытие-вот», всегда уже погружённое в мир и обладающее предварительным, пусть и неотрефлексированным, пониманием бытия. Поэтому анализ Dasein становится первым шагом к фундаментальной онтологии – учению о бытии как таковом. Хайдеггер различает онтическое и онтологическое: первое относится к сущему как к конкретной данности (например, человек как эмпирический объект), второе – к способу бытия этого сущего (например, человеческое бытие как понимающее бытие). Dasein обладает экзистенцией – не просто существованием, а способом бытия, который всегда проектирует себя, выбирает себя, открыт возможностям. Здесь важно разграничение между экзистенциальным (конкретный опыт Dasein) и экзистенциалльным (категории, описывающие структуру экзистенции, такие как «забота» или «бытие-к-смерти»). Приоритет Dasein тройственен: онтический (человек всегда уже относится к своему бытию), онтологический (он понимает бытие, в том числе других сущих) и онтически-онтологический (он – условие возможности всякой онтологии). Хайдеггер отмечает, что проблема приоритета человеческого бытия обсуждалась ещё у Аристотеля, который в «Никомаховой этике» указывал на связь души и бытия, и у Фомы Аквинского, размышлявшего о способности человека постигать сущее, однако, по его мнению, эти мыслители не довели анализ до онтологического уровня, не раскрыли Dasein как основу вопроса о бытии. Таким образом, фундаментальная онтология должна начинаться с экзистенциальной аналитики Dasein, поскольку только человек ставит вопрос о бытии и только через его понимание можно раскрыть смысл бытия как такового.
Этот параграф закладывает основы для хайдеггеровской аналитики времени как центральной проблемы онтологии.
При характеристике задач, заключенных в «постановке» вопроса о бытии, было показано, что требуется не только фиксация сущего, которое должно выступать в качестве первичного объекта вопрошания, но и явное усвоение и обеспечение правильного способа доступа к этому сущему. Какое сущее играет привилегированную роль в вопросе о бытии – это уже обсуждалось. Но как это сущее, Dasein, должно стать доступным и, так сказать, «прицельно» схватываемым в понимающей интерпретации?
Dasein – ключевой термин Хайдеггера, обозначающий человеческое бытие как бытие, которое всегда уже понимает себя и бытие вообще. Это не просто «человек», а способ бытия, для которого вопрос о бытии является собственным.
Онтико-онтологический приоритет Dasein и его последствия
Доказанный онтико-онтологический приоритет Dasein может привести к мнению, что это сущее должно быть также первично данным в онтико-онтологическом смысле – не только в плане «непосредственной» доступности самого сущего, но и в отношении столь же «непосредственной» предданности его способа бытия.
Однако Dasein, хотя оно онтически не только близко, но даже ближе всего (ведь мы сами есть Dasein), онтологически оказывается самым далёким.
Объяснение:
– Онтически (как фактически существующее) Dasein ближе всего, потому что это мы сами.
– Онтологически (в плане понимания его бытия) оно далёко, потому что его способ бытия не дан нам прямо, а скрыт повседневными истолкованиями.
Хотя к самому бытию Dasein принадлежит понимание этого бытия, и оно всегда уже пребывает в некоторой истолкованности своего бытия, это вовсе не значит, что ближайшее доонтологическое самоистолкование может служить адекватным руководством.
Dasein склонно понимать своё собственное бытие исходя из сущего, с которым оно по своей сути постоянно и изначально соотносится, – из «мира».
→ Онтологическая рефлексия мира на истолкование Dasein
В самом Dasein (а значит, и в его понимании бытия) заложено то, что мы назовём онтологическим отражением понимания мира на интерпретацию Dasein.
Онтико-онтологический приоритет Dasein – причина того, что его собственная структура бытия (в смысле присущих ему «категориальных» структур) остаётся скрытой.
– Онтически Dasein ближе всего к самому себе.
– Онтологически оно дальше всего.
– Доонтологически оно не является чуждым.
Хайдеггер подчёркивает, что трудности в интерпретации Dasein связаны не с недостатками нашего познания, а с самой природой его бытия.
Проблема доступа к Dasein
Dasein обладает не только пониманием бытия, но и само это понимание формируется или деградирует вместе с его собственным способом бытия. Поэтому оно может быть богато истолковано.
Философская психология, антропология, этика, «политика», поэзия, биография и историография по-разному подходили к исследованию способов поведения, возможностей, сил и судеб Dasein.
Вопрос: Были ли эти интерпретации экзистенциально (онтологически) столь же оригинальны, как они, возможно, были экзистенциально (онтически) оригинальны?
Различие:
– Экзистенциальное (онтическое) – фактическое, жизненное понимание.
– Экзистенциалное (онтологическое) – теоретическое осмысление структур бытия.
→ Философское познание требует экзистенциальной аналитики.
Только когда базовые структуры Dasein будут явно проработаны в ориентации на проблему бытия, прежние интерпретации Dasein получат своё экзистенциальное оправдание.
Аналитика Dasein как подготовка к вопросу о бытии
1. Нельзя навязывать Dasein произвольные понятия бытия.
– Никакие «очевидные» категории не должны догматически применяться к Dasein.
2. Dasein должно показывать себя из себя самого.
– Интерпретация должна раскрывать его в его повседневности – как оно есть «в первую очередь и большей частью».
3. Цель – выявить сущностные структуры.
– Не случайные, а те, что определяют бытие Dasein во всех его модусах.
Границы аналитики:
– Это не полная онтология Dasein (хотя таковая нужна для философской антропологии).
– Это предварительный анализ, раскрывающий бытие Dasein, но не его смысл.
– Его задача – подготовить горизонт для изначальной интерпретации бытия.
Время как смысл бытия Dasein
Смысл бытия Dasein – временность (Zeitlichkeit).
Доказательство:
– Все структуры Dasein должны быть переинтерпретированы как модусы временности.
– Однако это ещё не ответ на вопрос о смысле бытия вообще, а лишь подготовка почвы для него.
Время как горизонт понимания бытия:
Dasein неявно понимает бытие исходя из времени. Время должно быть раскрыто как горизонт всякого понимания бытия.
→ Необходимо:
1. Изначально эксплицировать время как горизонт понимания бытия, исходя из временности как бытия Dasein.
2. Противопоставить это понимание вульгарному понятию времени (например, у Аристотеля и Бергсона).
3. Показать, что вульгарное понимание времени само происходит из временности.
Критика традиционного понимания времени:
– Время обычно используется как критерий разделения сущего:
– «Временное» (природа, история) vs. «вневременное» (математические отношения).
– «Временное» vs. «вечное».
– Но почему время играет эту роль? Никто не спрашивал.
Новый подход:
– Бытие должно пониматься из времени.
– Даже «вневременное» и «сверхвременное» в своём бытии темпорально (но не в смысле «бытия во времени»).
Терминология:
– Чтобы избежать путаницы, Хайдеггер вводит понятие темпоральности (Temporalität) – изначальной временной определённости бытия.
Итог:
– Главная онтологическая задача – интерпретация бытия через темпоральность.
– Ответ на вопрос о смысле бытия – не в «новой» формуле, а в указании направления исследования.
– Он должен быть «достаточно старым», чтобы охватить возможности, заложенные ещё древними философами.
Только когда из ответа станет ясна сама способ бытия прежней онтологии (её поиски, находки и неудачи как необходимость Dasein), ответ будет дан достаточно.
1. Dasein – человеческое бытие как место вопроса о бытии.
2. Онтическое – относящееся к конкретному сущему.
3. Онтологическое – относящееся к бытию как таковому.
4. Временность (Zeitlichkeit) – способ бытия Dasein, его конечность и историчность.
5. Темпоральность (Temporalität) – временная структура самого бытия (не только Dasein).
Этот параграф – программа «Бытия и времени»: показать, что вопрос о бытии требует переосмысления всей истории философии через призму временности.
Только через деструкцию традиционной онтологии вопрос о бытии обретает конкретность. Необходимо заново пробудить этот вопрос и открыть поле для подлинной философской работы.
Основной текст:
Всякое исследование – и особенно то, которое движется вокруг центрального вопроса о бытии, – есть онтическая возможность присутствия (Dasein). Его бытие обретает свой смысл во временности. Однако временность одновременно является условием возможности историчности как временного способа бытия самого присутствия, независимо от того, является ли оно и каким образом «сущим во времени». Определение историчности предшествует тому, что называют историей (мировое историческое событие). Историчность означает бытийную конституцию «события» присутствия как такового, на основе чего вообще становится возможным нечто вроде «мировой истории» и принадлежности к ней.
Комментарий:
Здесь Хайдеггер вводит ключевые понятия:
– Dasein (присутствие) – человеческое бытие, которое всегда уже понимает себя в контексте мира.
– Временность – не просто линейное время, а структура, которая делает возможным само понимание бытия.
– Историчность – не история как набор событий, а способ бытия Dasein, который всегда уже укоренён в прошлом и проектирует себя в будущее.
Основной текст:
Присутствие всегда уже есть в своём фактическом бытии то, «каким» и «чем» оно уже было. Явно или нет, оно есть своё прошлое. И не так, что прошлое словно тащится за ним, а оно обладает прошлым как сохранившимся свойством, которое иногда на него влияет. Присутствие «есть» своё прошлое в способе своего бытия, грубо говоря, «происходящего» из его будущего. Присутствие в своём способе бытия – а значит, и с присущим ему пониманием бытия – вырастает внутри унаследованной интерпретации присутствия. Из неё оно первоначально и постоянно понимает себя в определённых пределах. Это понимание раскрывает возможности его бытия и регулирует их. Его собственное прошлое – а это всегда означает прошлое его «поколения» – не следует за ним, но уже всегда предшествует ему.
Комментарий:
Хайдеггер подчёркивает, что Dasein не просто «имеет» прошлое, но есть своё прошлое. Это не объективная история, а способ, каким Dasein всегда уже ориентировано в мире.
Основной текст:
Эта элементарная историчность присутствия может оставаться скрытой от него самого. Но она может быть и раскрыта, стать предметом заботы. Присутствие может обнаружить традицию, сохранить её и сознательно следовать ей. Обнаружение традиции и раскрытие того, что она «передаёт» и как передаёт, может стать самостоятельной задачей. Таким образом, присутствие входит в способ бытия исторического вопрошания и исследования. Но история (точнее, историчность) как способ бытия вопрошающего присутствия возможна лишь потому, что в основе своего бытия оно определено историчностью.
Комментарий:
Историчность – условие возможности исторической науки. Если Dasein не осознаёт свою историчность, оно не способно подлинно исследовать историю.
Основной текст:
Если же присутствие раскрыло в себе возможность не только сделать прозрачной свою экзистенцию, но и вопрошать о смысле самой экзистенциальности (т. е. заранее о смысле бытия вообще), и если в таком вопрошании открылся взгляд на существенную историчность присутствия, тогда неизбежно становится ясно: вопрос о бытии, который был обозначен в его онтико-онтологической необходимости, сам характеризуется историчностью.
Комментарий:
Вопрос о бытии не абстрактен – он укоренён в историчности самого Dasein.
Основной текст:
Разработка вопроса о бытии должна получить указание от самого способа бытия вопрошания как исторического: вопрошать о своей собственной истории, т. е. становиться историческим, чтобы через позитивное присвоение прошлого обрести полное владение своими собственными возможностями вопрошания.
Комментарий:
Чтобы понять бытие, нужно «разрушить» (деконструировать) традиционные интерпретации, раскрыв их истоки.
Основной текст:
Традиция, господствующая здесь, делает то, что она «передаёт», почти недоступным, скорее скрывая это. Она выдаёт унаследованное за самоочевидное и блокирует доступ к изначальным «источникам».
Комментарий:
Традиционная онтология (начиная с греков) затемнила изначальный смысл бытия, сделав его «самоочевидным».
Основной текст:
Греческая онтология и её история, которая через многочисленные искажения до сих пор определяет философскую терминологию, – доказательство того, что присутствие понимает себя и бытие вообще из «мира».
Комментарий:
Античная онтология (Аристотель, Платон) интерпретировала бытие как «присутствие» (ουσία), но не раскрыла временной основы этого понимания.
Основной текст:
Деструкция не имеет негативного смысла отвержения традиции. Напротив, она призвана обозначить её позитивные возможности и границы.
Комментарий:
Деструкция – не отрицание, а раскрытие скрытых возможностей традиции.
Основной текст:
Кант – единственный, кто продвинулся в направлении темпоральности, но он остался в рамках традиционного понимания времени.
Комментарий:
Кант не смог раскрыть временность как основу бытия, потому что принял картезианскую онтологию субъекта.
Ключевые термины:
– Деструкция – не разрушение, а критическое раскрытие скрытых предпосылок традиции.
– Temporalität (темпоральность) – временная структура бытия, более фундаментальная, чем обычное время.
– Geschichtlichkeit (историчность) – не история как наука, а способ бытия Dasein как всегда уже укоренённого в традиции.
Этот параграф задает основу для дальнейшего разворачивания хайдеггеровской феноменологии в «Бытии и времени».
Предварительная характеристика тематического объекта исследования (бытие сущего, или смысл бытия вообще) уже как бы предопределяет и его метод. Выделение бытия из сущего и его экспликация (развертывание) – задача онтологии. Однако метод онтологии остается в высшей степени проблематичным, если пытаться искать подсказки в исторически унаследованных онтологиях или подобных попытках. Поскольку термин «онтология» в данном исследовании используется в формально широком смысле, путь прояснения её метода через исторический обзор сам собой исключается.
Комментарий:
– «Экспликация» – здесь означает не просто объяснение, а развертывание, раскрытие смысла бытия.
– «Исторически унаследованные онтологии» – имеются в виду традиционные метафизические системы (например, Аристотеля, Канта, Гегеля), которые могут не подходить для новой постановки вопроса о бытии.
Употребление термина «онтология» также не означает поддержки какой-то конкретной философской дисциплины, связанной с другими. Речь идет не о том, чтобы соответствовать задачам заранее данной дисциплины, а, наоборот: только из содержательной необходимости определенных вопросов и способа их проработки, диктуемого самими «вещами», может – если вообще может – сложиться какая-то дисциплина.
Комментарий:
– «Вещи сами» (Sachen selbst) – ключевое понятие феноменологии: философия должна обращаться не к предвзятым теориям, а к непосредственному опыту явлений.
Исследование, руководствуясь вопросом о смысле бытия, стоит перед фундаментальным вопросом философии вообще. Способ проработки этого вопроса – феноменологический.
Таким образом, данный трактат не примыкает ни к какой «точке зрения» или «направлению», потому что феноменология не является и никогда не может быть ни тем, ни другим, пока она понимает саму себя.
Комментарий:
– Феноменология для Хайдеггера – не школа или учение, а метод, способ подхода к проблемам.
Выражение «феноменология» означает прежде всего методологическое понятие. Оно характеризует не содержательное «что» объектов философского исследования, а «как» этого исследования.
Чем более подлинно методологическое понятие реализуется и чем полнее оно определяет принципиальный подход науки, тем изначальнее оно укоренено в работе с самими вещами и тем дальше отстоит от того, что мы называем «техническим приемом» (которых, впрочем, немало и в теоретических дисциплинах).
Комментарий:
– Хайдеггер противопоставляет подлинный метод (вытекающий из самих вещей) и технические приемы (формальные, заимствованные инструменты).
Название «феноменология» выражает максиму, которую можно сформулировать так: «К самим вещам!» – в противовес:
– всем оторванным конструкциям,
– случайным находкам,
– заимствованию лишь кажущихся обоснованными понятий,
– псевдовопросам, которые часто десятилетиями выдаются за «проблемы».
Но на это можно возразить: данная максима и так очевидна и, более того, выражает принцип любого научного познания. Непонятно, зачем эту очевидность выносить в название исследования.
Комментарий:
– Хайдеггер признает, что призыв «к самим вещам» кажется банальным, но настаивает, что его нужно раскрыть для понимания метода.
На самом деле речь идет об «очевидности», которую мы хотим приблизить, насколько это важно для прояснения хода данного исследования. Мы лишь предварительно раскроем понятие феноменологии.
Термин состоит из двух частей:
– φαινομενον (феномен)
– λογος (логос)
Внешне название «феноменология» образовано аналогично таким терминам, как теология, биология, социология, которые переводятся как:
– наука о Боге,
– наука о жизни,
– наука об обществе.
Соответственно, феноменология – это наука о феноменах.
Предварительное понятие феноменологии должно быть выявлено через характеристику того, что означают оба компонента названия – «феномен» и «логос», а также через определение смысла их соединения.
История самого слова, которое, вероятно, возникло в школе Вольфа, здесь не имеет значения.
Комментарий:
– Школа Вольфа – Христиан Вольф (1679–1754), немецкий философ-рационалист, систематизатор Лейбница. Хайдеггер отмечает, что происхождение термина не важно для его понимания.
(Продолжение анализа понятий «феномен» и «логос» следует в следующем параграфе.)
Ключевые моменты:
1. Феноменология – метод, а не доктрина.
2. Главный принцип: «К самим вещам!» – отказ от предвзятых концепций в пользу непосредственного исследования.
3. Критика традиционной онтологии – нельзя опираться на старые системы, нужно искать новый подход.
4. Феноменология = наука о феноменах, но смысл этих терминов требует уточнения.
Чтобы вообще понять феноменологическое понятие феномена (независимо от того, как именно определяется показывающее), необходимо предварительно уяснить формальное понятие феномена и его законное применение в обыденном значении.
Прежде чем определить предварительное понятие феноменологии, необходимо прояснить значение λόγος (логоса), чтобы стало ясно, в каком смысле феноменология вообще может быть «наукой о» феноменах.
Греческое слово φαινόμενον (файноменон), от которого происходит термин «феномен», образовано от глагола φαίνεσθαι (файнестай), означающего «показывать себя». Таким образом, φαινόμενον означает: то, что себя показывает, самопоказывающееся, явное.
Сам глагол φαίνεσθαι является медиальной формой от φαίνω (файно) – выводить на свет, делать явным. φαίνω восходит к корню φα- (фа-), как и слово φῶς (фос) – свет, ясность, то есть то, в чём нечто может стать явным, видимым само по себе.
Таким образом, основное значение термина «феномен» следует понимать как: «то, что показывает себя в себе самом», «явное».
φαινόμενα («феномены») – это совокупность всего, что лежит на виду или может быть выведено на свет, что греки иногда просто отождествляли с τά ὄντα (сущее).
Сущее может показывать себя разными способами, в зависимости от того, как к нему подступаются. Более того, сущее может показывать себя как то, чем оно само по себе не является. В таком самопоказывании сущее «выглядит так, как будто…». Это самопоказывание мы называем «видимостью» (Schein).
Соответственно, и в греческом языке слово φαινόμενον («феномен») может означать «кажущееся», «видимость», «иллюзия». Например, φαινόμενον ἀγαθόν – это нечто, что выглядит как благо, но на самом деле им не является.
Для дальнейшего понимания понятия феномена крайне важно увидеть, как связаны между собой два значения φαινόμενον:
1. Феномен как самопоказывающееся (явное).
2. Феномен как видимость (кажущееся).
Только если нечто изначально стремится показать себя (то есть быть феноменом), оно может казаться тем, чем не является – «просто выглядеть как…».
В значении φαινόμενον как «видимость» уже заключено исходное значение (феномен как явное), которое лежит в его основе.
Мы будем использовать термин «феномен» в его позитивном и исходном значении (как самопоказывающееся), а «видимость» (Schein) – как привативную модификацию феномена (то есть его искажённое проявление).
Однако ни один из этих терминов не имеет ничего общего с тем, что называют «явлением» (Erscheinung) или, тем более, «чистой видимостью» (bloße Erscheinung).
Феномен и явление (Erscheinung)
Говорят, например, о «симптомах болезни» (Krankheitserscheinungen). Под этим понимаются телесные проявления, которые показывают себя, но в своём показывании указывают на что-то, что само по себе не проявляется.
Такие проявления (их самопоказывание) связаны с наличием скрытых нарушений, которые сами по себе не видны.
Таким образом, явление как «явление чего-то» означает не самопоказывание, а указание на нечто, что само не показывается, через то, что показывается.
Явление (Erscheinen) – это «не-показывание».
Однако это «не» нельзя путать с привативным «не», которое определяет структуру видимости (Schein). То, что не показывает себя так, как явление, никогда не может быть видимостью.
Все указания, изображения, симптомы и символы имеют эту формальную структуру явления, хотя между ними есть различия.
Связь явления и феномена
Хотя явление никогда не является самопоказыванием в смысле феномена, явление возможно только на основе самопоказывания чего-то.
Но это самопоказывание, делающее явление возможным, не есть само явление.
Явление – это указание через то, что показывает себя.
Если говорят, что «явление» указывает на нечто, в чём что-то проявляется, но само не является явлением, то это не определяет понятие феномена, а предполагает его. Однако это предположение остаётся скрытым, потому что в таком определении «явления» термин «являться» используется двусмысленно:
– «То, в чём что-то является» означает то, в чём что-то указывает на себя (но не показывает).
– «Не будучи само явлением» означает то, что не показывает себя.
Но это самопоказывание (феномен) сущностно принадлежит тому, в чём что-то указывает на себя.
Таким образом, феномены никогда не являются явлениями, но всякое явление зависит от феноменов.
Если определять феномен через неясное понятие «явления», то всё ставится с ног на голову, и любая «критика» феноменологии на этой основе становится бессмысленной.
Многозначность термина «явление» (Erscheinung)
Термин «явление» может означать два разных аспекта:
1. Явление как указание (Sichmelden) – не-показывание.
2. Указывающее само по себе – то, что в своём показывании указывает на нечто неявное.
Наконец, «явление» может использоваться и в подлинном смысле феномена (как самопоказывание).
Если обозначать все три этих разных смысла одним словом «явление», то неизбежна путаница.
Явление как «чистая видимость» (bloße Erscheinung)
Путаница усугубляется тем, что «явление» может иметь ещё одно значение.
Если понимать указывающее (то, что в своём показывании обозначает неявное) как нечто, исходящее от самого неявного, так что неявное мыслится как то, что по своей сути никогда не может быть явным, то явление означает продукт или порождение, которое не выражает подлинного бытия производящего.
Это явление в смысле «чистой видимости».
Такое указывающее (например, излучение) само себя показывает, но при этом скрывает то, на что оно указывает.
Однако это скрывающее не-показывание – не то же самое, что видимость (Schein).
Кант использует термин «явление» именно в таком смысле. Для него явления – это:
1. «Объекты эмпирического созерцания» (то, что показывает себя в опыте – феномен в подлинном смысле).
2. «Явления» как указывающие излучения чего-то, что скрывается в явлении.
Явление и видимость (Schein)
Поскольку явление (в значении указания через показываемое) конституируется феноменом, а феномен может искажаться в видимость, то и явление может становиться чистой видимостью.
Например, при определённом освещении человек может казаться румяным, и эта видимая краснота может быть принята за признак лихорадки, которая, в свою очередь, указывает на скрытое нарушение в организме.
Формальное понятие феномена.
Феномен (как самопоказывание) означает особый способ встречи с чем-то.
Явление, напротив, означает отношение указания внутри самого сущего, причём указывающее (Meldende) может выполнять свою функцию, только если оно само себя показывает (то есть является феноменом).
Таким образом, и явление, и видимость (Schein) основаны на феномене, но по-разному.
Запутанное многообразие «феноменов», обозначаемых терминами феномен, видимость, явление, чистая видимость, можно распутать, только если изначально понять понятие феномена: «то, что показывает себя в себе самом».
Формальный и феноменологический понятия феномена.
Если в таком определении остаётся неясным, какое именно сущее называется феноменом, и остаётся открытым вопрос, является ли показывающее себя сущим или же характером бытия сущего, то мы получаем лишь формальное понятие феномена.
Если же под показывающим понимать сущее, доступное, например, через эмпирическое созерцание (в кантовском смысле), то формальное понятие феномена находит законное применение.
Феномен в этом употреблении соответствует обыденному понятию феномена.
Однако это обыденное понятие – не то же самое, что феноменологическое.
В рамках кантовской проблематики то, что феноменология понимает под феноменом (с учётом других различий), можно пояснить так:
То, что в явлениях (в обыденном понимании феномена) уже заранее и сопутствующе, хотя и нетематически, показывает себя, может быть тематически выявлено – и это «самопоказывание в себе самом» (например, «формы созерцания») и есть феномены феноменологии.
Ведь очевидно, что пространство и время должны могут показывать себя, должны стать феноменами, если Кант утверждает, что пространство – это априорное «в-чём» порядка.
1. Феномен vs. явление (Erscheinung):
– Феномен – прямое самопоказывание (нечто явное само по себе).
– Явление – указание на нечто, что само не показывается (например, симптомы болезни указывают на скрытую болезнь).
2. Видимость (Schein):
– Это искажённое самопоказывание, когда нечто выглядит иначе, чем есть на самом деле.
3. Кантовское «явление»:
– У Канта явления – это чувственно данные объекты, которые одновременно и показывают себя (феномен), и указывают на нечто скрытое (ноумен).
4. Формальный и феноменологический феномен:
– Формальный – просто «то, что себя показывает» (без уточнения, что именно).
– Феноменологический – тематически выявленное самопоказывание (например, сама структура восприятия).
Этот анализ помогает понять, почему позднейшие интерпретации (включая средневековые и современные) часто искажали изначальный смысл λόγος.
Понятие λόγος (логоса) у Платона и Аристотеля многозначно, причем так, что его значения расходятся, не будучи объединенными какой-то одной основной смысловой основой. На самом деле, это лишь видимость, которая сохраняется до тех пор, пока интерпретация не сможет адекватно схватить основное значение в его первичном содержании.
Если мы скажем, что основное значение λόγος – это «речь», то такой буквальный перевод обретет свою полную значимость только через определение того, что сама «речь» означает. Последующая история значений слова λόγος, а особенно многообразные и произвольные интерпретации позднейшей философии, постоянно затемняют подлинный смысл «речи», который, однако, лежит на поверхности.
λόγος «переводится» (то есть истолковывается) как разум, суждение, понятие, определение, основание, отношение. Но как «речь» может так видоизменяться, чтобы λόγος означал все перечисленное, причем в рамках научного словоупотребления?
Даже если λόγος понимается как «высказывание», а высказывание – как «суждение», то при такой, казалось бы, правомерной интерпретации можно упустить фундаментальное значение, особенно если суждение понимается в духе какой-нибудь современной «теории суждений». λόγος не означает (и уж точно не означает в первую очередь) «суждение», если под ним понимать «соединение» или «высказывание позиции» (признание – отвержение).
λόγος как речь означает скорее δηλοῦν (делать явным) то, о чем в речи идёт «речь». Аристотель более четко определил эту функцию речи как ἀποφαίνεσθαι (высказывать, показывать).
Комментарий:
ἀποφαίνεσθαι (апофансис) – это не просто произнесение слов, а акт выведения чего-то из скрытости, демонстрации.
Логос позволяет увидеть (φαίνεσθαι) то, о чем идет речь – как для говорящего (в качестве посредника), так и для тех, кто участвует в разговоре. Речь «позволяет увидеть» (ἀπο…) именно то, о чем она говорит. В подлинной речи (ἀπόφανσις) сказанное должно быть взято из самого предмета обсуждения, так что сообщение делает его явным и доступным для другого.
Структура логоса как ἀπόφανσις:
– Речь не просто передает информацию, а раскрывает суть вещи.
– Например, просьба (εὐχή) тоже что-то раскрывает, но иным способом.
В конкретном осуществлении речь (как «позволение видеть») имеет характер говорения, озвучивания в словах (φωνή μετὰ φαντασίας – звучание, сопровождаемое представлением).
И только потому, что функция логоса – ἀπόφανσις (показывание), он может иметь структуру σύνθεσις (синтеза).
Важно:
Синтез здесь – не соединение представлений (как в психологических теориях), а чисто апопантическое (показывающее) действие: «дать увидеть нечто в его совместности с чем-то, нечто как нечто».
И снова: поскольку логос – это позволение видеть, он может быть истинным или ложным.
Истина (ἀλήθεια) у греков – не «соответствие» (как в современных теориях), а раскрытие:
– «Быть истинным» (ἀληθεύειν) – значит выводить сущее из скрытости, показывать его как не-сокрытое (ἀληθές).
– «Быть ложным» (ψεύδεσθαι) – значит скрывать, подменять: показывать нечто как то, чем оно не является.
Но именно потому, что «истина» имеет такой смысл, логос – не первичное «место» истины.
Критика современных теорий:
– Если считать (как часто делают), что истина «принадлежит суждению», и ссылаться при этом на Аристотеля, это неверно.
– Греческое понимание истины глубже: первично истинно не суждение, а αἴσθησις (чувственное восприятие).
αἴσθησις (восприятие) истинно в греческом смысле:
– Зрение всегда открывает цвета, слух – звуки.
– Чистое νοεῖν (умозрение) – самое истинное, потому что оно никогда не может скрывать, только открывать.
Ложность возможна только там, где есть синтез (соединение):
– Например, суждение «это – то-то» может быть ложным, если оно скрывает истинную природу вещи.
– «Истинность суждения» – лишь частный случай более широкого феномена истины.
Реализм и идеализм одинаково искажают греческое понимание истины, из которого только и можно понять, например, возможность «теории идей» как философского знания.
Наконец, поскольку функция логоса – просто позволять видеть (воспринимать сущее), λόγος может означать «разум».
Другие значения λόγος:
1. Как λεγόμενον (сказанное): то, что лежит в основе любого высказывания (ὑποκείμενον – подлежащее), поэтому λόγος может означать «основание» (ratio).
2. Как соотношение: если нечто высказано в связи с другим, λόγος приобретает значение «отношения».
Ключевые моменты:
1. Логос – не просто «слово» или «разум», а речь, раскрывающая суть вещей.
2. Истина у греков – не соответствие, а «несокрытость» (ἀλήθεια).
3. Чувственное восприятие (αἴσθησις) истиннее суждений, потому что оно непосредственно.
4. Синтез в логосе – не психологическое соединение, а способ показывания вещи «как нечто».
1. Взаимосвязь «феномена» и «логоса»
При конкретном осмыслении того, что было выявлено в интерпретации терминов «феномен» (φαινόμενον) и «логос» (λόγος), становится очевидной их внутренняя связь. Выражение «феноменология» можно передать по-гречески как λέγειν τά φαινόμενα (говорить о являющемся). Однако λέγειν здесь означает ἀποφαίνεσθαι (выявлять, показывать). Таким образом, феноменология означает: ἀποφαίνεσθαι τά φαινόμενα – позволять видеть то, что само себя показывает, так, как оно себя показывает. Это и есть формальный смысл исследования, называющего себя феноменологией.
→ Комментарий:
Хайдеггер подчеркивает, что феноменология – это не просто описание явлений, а метод прямого усмотрения сущего в его самораскрытии. Это соответствует ранее сформулированному принципу: «К самим вещам!»
2. Отличие феноменологии от других наук
Название «феноменология» отличается по смыслу от таких обозначений, как «теология» и подобных. Последние указывают на предмет соответствующей науки в его содержательной определенности. Феноменология же не называет свой предмет и не характеризует его содержания. Это слово лишь раскрывает способ выявления и обработки того, что должно быть исследовано в этой науке.
→ Комментарий:
Феноменология – это не наука о каком-то конкретном предмете (как ботаника о растениях), а методологический подход, требующий непосредственного показа (Aufweisung) и обоснования (Ausweisung) всего, что подлежит исследованию.
3. Описательная феноменология
Выражение «дескриптивная (описательная) феноменология» по сути тавтологично. Здесь «описание» не означает процедуру, подобную морфологии растений. Этот термин имеет запретительный смысл: исключение всех необоснованных определений.
→ Комментарий:
Хайдеггер отвергает понимание описания как простого перечисления свойств. Для него оно означает строгое усмотрение сущего в его явленности, без привнесения внешних интерпретаций.
4. Феноменологическое понятие феномена
Формальное понятие феномена (как того, что само себя показывает) позволяет называть феноменологией любое выявление сущего в его самораскрытии. Однако необходимо уточнить:
– Что должно быть «показано» в феноменологии?
– Что в особом смысле заслуживает названия «феномена»?
Ответ: Это то, что обычно не показывается, что скрыто за тем, что кажется очевидным, но при этом составляет его смысл и основание.
→ Комментарий:
Речь идет не о случайных свойствах вещей, а о бытии сущего (Sein des Seienden), которое обычно ускользает от взгляда, но определяет саму возможность явленности вещей.
5. Бытие как главный феномен
То, что остается скрытым или искаженным, – это не какое-то отдельное сущее, а бытие сущего (Sein des Seienden). Оно может быть настолько затемнено, что о нем забывают и даже не ставят вопрос о его смысле.
→ Комментарий:
Здесь Хайдеггер противопоставляет феномен (подлинное самораскрытие) и скрытость (Verdecktheit). Задача феноменологии – прорваться к бытию, которое обычно остается «за кадром».
6. Феноменология и онтология
Феноменология – это способ доступа к тому, что должно стать темой онтологии. Онтология возможна только как феноменология.
Феноменологическое понятие феномена означает:
– бытие сущего (Sein des Seienden),
– его смысл,
– его модификации и производные.
→ Комментарий:
Феноменология не изучает «явления» в противоположность «сущности» (как у Канта). Для Хайдеггера бытие само является феноменом – тем, что должно быть явлено.
7. Виды скрытости феноменов
Феномены могут быть скрыты разными способами:
1. Еще не открыты – о них нет ни знания, ни незнания.
2. Забыты – ранее были открыты, но снова погрузились в скрытость.
3. Искажены – кажутся чем-то другим (наиболее опасный случай, так как приводит к иллюзиям).
→ Комментарий:
Хайдеггер предупреждает: даже в искаженном виде феномены сохраняют связь с бытием («сколько видимости, столько и бытия»).
8. Феноменология как герменевтика
Методологический смысл феноменологического описания – интерпретация (Auslegung).
– Феноменология Dasein (бытия-вот) имеет характер ἑρμηνεύειν (истолкования).
– Она раскрывает смысл бытия и основные структуры Dasein.
– Таким образом, феноменология становится герменевтикой – учением об условиях возможности всякой онтологии.
→ Комментарий:
Хайдеггер переосмысляет герменевтику: это не просто метод толкования текстов, а способ раскрытия бытия через анализ человеческого существования.
9. Бытие как трансценденс
Бытие – это не род сущего, но оно касается всякого сущего. Его «универсальность» выше любой категории. Бытие – это transcendens (трансценденция) в абсолютном смысле.
→ Комментарий:
Трансценденция здесь – не выход за пределы опыта (как у Канта), а превосхождение сущего к его бытию.
10. Феноменология и философия
Онтология и феноменология – не две разные дисциплины, а сама философия, характеризуемая по своему предмету (бытие) и методу (феноменологическое раскрытие).
Философия – это универсальная феноменологическая онтология, основанная на герменевтике Dasein.
11. Влияние Гуссерля
Хайдеггер признает роль Гуссерля, чьи «Логические исследования» сделали прорыв в феноменологии. Однако суть феноменологии – не в том, чтобы быть «философским направлением», а в ее возможности как метода.
→ Комментарий:
Хайдеггер дистанцируется от гуссерлевской феноменологии сознания, переориентируя ее на вопрос о бытии.
12. Трудности выражения
Хайдеггер отмечает, что говорить о сущем и схватывать его бытие – разные вещи. Для последнего часто не хватает не только слов, но и «грамматики».
→ Комментарий:
Этим объясняется сложность его языка: традиционные понятия непригодны для анализа бытия, отсюда необходимость новой терминологии.
Заключение
Этот раздел закладывает основы хайдеггеровской феноменологии:
– Ее предмет – бытие сущего, обычно скрытое.
– Ее метод – не описание, а радикальное раскрытие через герменевтику Dasein.
– Ее цель – преодоление метафизики путем возврата к изначальному смыслу бытия.
Феноменология здесь – не просто «наука о явлениях», а путь к онтологическому основанию всей философии.
Оригинал:
Die Frage nach dem Sinn des Seins ist die universalste und leerste; in ihr liegt aber zugleich die Möglichkeit ihrer eigenen schärfsten Vereinzelung auf das jeweilige Dasein.
Перевод:
Вопрос о смысле бытия является самым универсальным и самым пустым; однако в нём одновременно заложена возможность его предельной конкретизации применительно к каждому конкретному Dasein (вот-бытию).
Комментарий:
Dasein – ключевой термин Хайдеггера, обозначающий человеческое бытие как осознающее себя и вопрошающее о своём существовании. Универсальность вопроса о бытии сочетается с его способностью быть применённым к индивидуальному опыту.
Оригинал:
Die Gewinnung des Grundbegriffes »Sein« und die Vorzeichnung der von ihm geforderten ontologischen Begrifflichkeit und ihrer notwendigen Abwandlungen bedürfen eines konkreten Leitfadens.
Перевод:
Формирование основного понятия «бытие» и определение требуемой им онтологической понятийности, а также её необходимых модификаций, нуждаются в конкретном руководстве.
Комментарий:
Хайдеггер подчёркивает, что для изучения бытия необходим методологический ориентир, так как абстрактное понятие требует конкретного подхода.
Оригинал:
Der Universalität des Begriffes von Sein widerstreitet nicht die »Spezialität« der Untersuchung – d. h. das Vordringen zu ihm auf dem Wege einer speziellen Interpretation eines bestimmten Seienden, des Daseins, darin der Horizont für Verständnis und mögliche Auslegung von Sein gewonnen werden soll.
Перевод:
Универсальности понятия бытия не противоречит «специальный» характер исследования – то есть продвижение к нему через особую интерпретацию определённого сущего, Dasein, в котором должен быть обретён горизонт для понимания и возможного истолкования бытия.
Комментарий:
Хайдеггер утверждает, что изучение бытия через анализ Dasein (человеческого существования) не сужает исследование, а, напротив, открывает путь к пониманию бытия в целом.
Оригинал:
Dieses Seiende selbst aber ist in sich »geschichtlich«, so daß die eigenste ontologische Durchleuchtung dieses Seienden notwendig zu einer »historischen« Interpretation wird.
Перевод:
Но это сущее (Dasein) по своей сути «исторично», поэтому наиболее глубокая онтологическая проработка этого сущего неизбежно становится «исторической» интерпретацией.
Комментарий:
Человеческое бытие (Dasein) неразрывно связано с временностью и историчностью, что требует учёта исторического контекста при его анализе.
Структура исследования.
Оригинал:
Die Ausarbeitung der Seinsfrage gabelt sich so in zwei Aufgaben; ihnen entspricht die Gliederung der Abhandlung in zwei Teile:
Перевод:
Таким образом, разработка вопроса о бытии разделяется на две задачи, которым соответствует структура исследования, состоящего из двух частей:
Первая часть:
Оригинал:
Erster Teil: Die Interpretation des Daseins auf die Zeitlichkeit und die Explikation der Zeit als des transzendentalen Horizontes der Frage nach dem Sein.
Перевод:
Первая часть: Интерпретация Dasein в аспекте временности и раскрытие времени как трансцендентального горизонта вопроса о бытии.
Часть первая. Интерпретация бытия-вот (Dasein) через временность и раскрытие времени как трансцендентального горизонта вопроса о бытии
Хайдеггер исследует, как временность (Zeitlichkeit) Dasein формирует основу для понимания бытия.
Структура первой части:
1. Предварительный фундаментальный анализ Dasein.
2. Dasein и временность.
3. Время и бытие.
Раздел первый. Подготовительный фундаментальный анализ бытия-вот (Dasein)
Первичным объектом исследования в вопросе о смысле бытия является сущее, обладающее характером бытия-вот (Dasein). Подготовительный экзистенциальный анализ Dasein, в соответствии со своей спецификой, требует предварительного разъяснения и отграничения от исследований, которые лишь кажутся схожими (Глава 1). Удерживая заданный подход, необходимо выявить фундаментальную структуру Dasein: бытие-в-мире (In-der-Welt-sein) (Глава 2). Это «априори» истолкования Dasein – не составная характеристика, а изначально и постоянно целостная структура. Однако она открывает различные аспекты своих составляющих моментов. При постоянном удержании в поле зрения этого целого, эти моменты должны быть феноменологически выделены. Таким образом, объектами анализа становятся:
– мир в его мирности (Weltlichkeit) (Глава 3),
– бытие-в-мире как бытие-с-другими и бытие-само (Mit- und Selbstsein) (Глава 4),
– бытие-в (In-sein) как таковое (Глава 5).
На основе анализа этой фундаментальной структуры становится возможным предварительное указание на бытие Dasein. Его экзистенциальный смысл – забота (Sorge) (Глава 6).
Глава 1. Разъяснение задачи подготовительного анализа Dasein
Сущее, которое подлежит анализу, – это мы сами. Бытие этого сущего всегда мое. В бытии этого сущего оно само относится к своему бытию. Как сущее этого бытия, оно вверено своему собственному бытию. Бытие – это то, о чем заботится это сущее. Из этой характеристики Dasein вытекает двойственность:
1. «Сущность» этого сущего заключается в его «бытии-к» (Zu-sein). Его «что-бытие» (essentia), если о нем вообще можно говорить, должно пониматься исходя из его бытия (existentia). При этом именно онтологическая задача состоит в том, чтобы показать: если мы выбираем для бытия этого сущего термин «экзистенция», то этот термин не имеет и не может иметь традиционного онтологического значения термина existentia. В онтологии existentia означает наличность (Vorhandensein) – способ бытия, который по своей сути не присущ сущему с характером Dasein. Чтобы избежать путаницы, мы будем использовать для existentia интерпретирующее выражение «наличность», а термин «экзистенция» оставим исключительно для бытийной определенности Dasein.
«Сущность» Dasein заключается в его экзистенции. Поэтому характеристики, которые можно выделить у этого сущего, – это не наличные «свойства» чего-то, что «выглядит» так-то и так-то, а возможные для него способы бытия, и только они. Всякое «так-бытие» этого сущего – прежде всего бытие. Поэтому название «Dasein», которым мы обозначаем это сущее, выражает не его «что» (как «стол», «дом», «дерево»), а бытие.
2. Бытие, о котором заботится это сущее, всегда мое. Поэтому Dasein никогда нельзя онтологически понимать как случай или экземпляр рода сущего в смысле наличного. Для этого сущего его бытие «безразлично», но при ближайшем рассмотрении оно «есть» так, что его бытие не может быть ни безразличным, ни небезразличным. Обращение к Dasein, учитывая характер принадлежности-мне (Jemeinigkeit) этого сущего, всегда должно включать личное местоимение: «я есмь», «ты еси».
При этом Dasein всегда уже каким-то образом решило, каким образом оно будет моим. Сущее, для которого в его бытии важно само это бытие, относится к своему бытию как к своей собственной возможности. Dasein есть всегда своя возможность, а не просто «обладает» ею как свойством наличного сущего. И поскольку Dasein по своей сути всегда есть своя возможность, это сущее в своем бытии может «выбирать» себя, обретать себя или терять, либо никогда не обретать по-настоящему, а лишь «казаться» обретшим. Оно может потерять себя или еще не обрести лишь постольку, поскольку по своей сути оно есть возможность подлинного бытия, то есть бытия, принадлежащего себе.
Два модуса бытия – подлинность (Eigentlichkeit) и неподлинность (Uneigentlichkeit) (эти термины выбраны строго в их буквальном значении) – коренятся в том, что Dasein в целом определяется принадлежностью-мне. Однако неподлинность Dasein не означает «меньшего» бытия или «низшей» степени бытия. Напротив, неподлинность может определять Dasein в его полнейшей конкретности – в его деловитости, возбужденности, заинтересованности, способности к наслаждению.
Две очерченные характеристики Dasein – примат экзистенции перед сущностью и принадлежность-мне – уже указывают на то, что анализ этого сущего ставит перед нами уникальную феноменальную область. Это сущее не обладает и никогда не обладает способом бытия внутримирно наличного. Поэтому его нельзя тематически задать так же, как наличное. Правильная постановка вопроса о нем сама по себе настолько неочевидна, что ее определение составляет существенную часть онтологического анализа этого сущего. От успешного выполнения этой задачи зависит сама возможность понять бытие этого сущего. Даже если анализ носит предварительный характер, он уже требует обеспечения правильного подхода.
Dasein определяется как сущее, которое всегда исходит из возможности, которой оно является и которую оно так или иначе понимает в своем бытии. Это формальный смысл экзистенциальной конституции Dasein. Для онтологической интерпретации этого сущего отсюда следует указание: разрабатывать проблематику его бытия исходя из экзистенциальности его экзистенции. Однако это не означает, что Dasein нужно конструировать из какой-то конкретной возможной идеи экзистенции. Напротив, анализ должен раскрыть Dasein не в различии определенного существования, а в его безразличном «первоначально и по большей части».
Эта безразличность повседневности Dasein – не ничто, а позитивный феноменальный характер этого сущего. Из этого способа бытия и возвращаясь в него, существует все существующее. Мы называем эту повседневную безразличность Dasein усредненностью (Durchschnittlichkeit).
И поскольку усредненная повседневность составляет онтически первичное для этого сущего, она постоянно упускается при экспликации Dasein. Онтически ближайшее и знакомое оказывается онтологически самым далеким, непознанным и постоянно упускаемым в своем онтологическом значении. Когда Августин спрашивает: Quid autem propinquius meipso mihi? («Что ближе мне, чем я сам?») и вынужден ответить: ego certe laboro hic et laboro in meipso: factus sum mihi terra difficultatis et sudoris nimii («Я тружусь здесь и тружусь в себе самом: я стал для себя землей трудностей и чрезмерного пота»), это относится не только к онтической и доонтологической непроницаемости Dasein, но в еще большей степени – к онтологической задаче не просто не упустить это сущее в его феноменально ближайшем способе бытия, но и положительно охарактеризовать его.
Однако усредненную повседневность Dasein нельзя понимать как просто «аспект». Даже в ней, даже в модусе неподлинности, априори присутствует структура экзистенциальности. Даже в ней Dasein определенным образом заботится о своем бытии, к которому оно относится в модусе усредненной повседневности – пусть даже в модусе бегства от него и забвения себя.
Экспликация Dasein в его усредненной повседневности дает не просто «усредненные структуры» в смысле размытой неопределенности. То, что онтически существует в модусе усредненности, онтологически может быть схвачено в четких структурах, которые по своей сути не отличаются от онтологических определений, например, подлинного бытия Dasein.
Все экспликаты, возникающие в аналитике Dasein, получены с учетом его экзистенциальной структуры. Поскольку они определяются через экзистенциальность, мы называем бытийные характеристики Dasein экзистенциалами. Их необходимо строго отличать от бытийных определений сущего, не обладающего характером Dasein, которые мы называем категориями.
Здесь этот термин берется в его первичном онтологическом значении. Античная онтология брала за образец толкования бытия сущее, встречающееся внутри мира. Способ доступа к нему – voelv (умозрение) или λόγος (логос). В них сущее является. Однако бытие этого сущего должно быть схвачено в особом legeiv (умении показать), так чтобы это бытие заранее понималось как то, что оно есть и что уже есть в каждом сущем.
Предварительное именование бытия в высказывании (λόγος) о сущем – это κατηγορεῖσθαι (категоризация). Первоначально это означает: публично обвинять, прямо говорить кому-то что-то перед всеми. В онтологическом употреблении этот термин означает: прямо сказать сущему, что оно уже есть как сущее, то есть показать его бытие для всех.
То, что усматривается и может быть усмотрено в таком видении, – это категории (κατηγορίαι). Они охватывают априорные определения сущего, которое может быть темой высказывания (λόγος) различными способами.
Экзистенциалы и категории – это две основные возможности бытийных характеристик. Соответствующее им сущее требует различных способов первичного вопрошания: сущее есть либо «кто» (экзистенция), либо «что» (наличность в самом широком смысле). О связи этих двух модусов бытийных характеристик можно говорить только исходя из проясненного горизонта вопроса о бытии.
Во введении уже указывалось, что в экзистенциальной аналитике Dasein решается задача, чья важность немногим меньше, чем самого вопроса о бытии: раскрытие априори, которое должно быть видимо, чтобы философски обсуждать вопрос «что есть человек».
Экзистенциальная аналитика Dasein предшествует психологии, антропологии и тем более биологии. В отграничении от этих возможных исследований Dasein тематика аналитики может получить более четкие очертания. Ее необходимость при этом становится еще более очевидной.
1. Dasein – ключевой термин Хайдеггера, который обычно не переводится, чтобы сохранить его специфику. Это сущее (человек), для которого бытие является вопросом.
2. Экзистенция vs. наличность – Хайдеггер противопоставляет экзистенцию (бытие Dasein как возможность) и наличность (бытие вещей как простое присутствие).
3. Подлинность и неподлинность – не оценочные понятия, а модусы бытия Dasein. Неподлинность – не «плохо», а способ существования в повседневности.
4. Экзистенциалы – бытийные структуры Dasein (например, забота, бытие-в-мире), в отличие от категорий (бытийных структур вещей).
5. Повседневность (Alltäglichkeit) – не «низшая» форма бытия, а исходный способ, в котором Dasein обычно находится.
6. Категории vs. экзистенциалы – античная философия (Аристотель) разрабатывала категории (например, сущность, количество), но Dasein требует нового языка (экзистенциалов).
После первоначального положительного наброска темы исследования его запретительная характеристика всегда сохраняет свою важность, хотя рассуждения о том, чего делать не следует, легко могут оказаться бесплодными. Необходимо показать, что прежние вопросы и исследования, направленные на Dasein, несмотря на их фактическую плодотворность, упускают подлинную, философскую проблему, а потому, пока они остаются в этом заблуждении, не могут претендовать на то, чтобы выполнить то, к чему они в принципе стремятся. Разграничение экзистенциальной аналитики от антропологии, психологии и биологии касается только принципиально онтологического вопроса. С точки зрения «теории науки» они неизбежно остаются недостаточными уже потому, что научная структура этих дисциплин – а не «научность» работающих над их развитием – сегодня в высшей степени проблематична и нуждается в новых импульсах, которые должны исходить из онтологической проблематики.
Таким образом, в исторической перспективе можно прояснить цель экзистенциальной аналитики: Декарт, которому приписывают открытие cogito sum как отправной точки новоевропейского философствования, исследовал cogitare ego – в определенных границах. Однако sum он оставляет совершенно нерассмотренным, хотя оно полагается столь же изначальным, как и cogito. Аналитика ставит онтологический вопрос о бытии sum. Если оно определено, тогда способ бытия cogitationes становится постижимым.
Однако эта историческая иллюстрация цели аналитики одновременно вводит в заблуждение. Одна из её первых задач – показать, что исходный пункт в виде заранее данного «Я» и субъекта радикально упускает феноменальное содержание Dasein. Любая идея «субъекта» – если она не очищена предварительной онтологической базовой дефиницией – онтологически сохраняет установку subjectum (ὑποκείμενον), как бы энергично ни сопротивлялись эмпирически «субстанции души» или «овеществлению сознания». Сама вещность нуждается в прояснении своего онтологического происхождения, чтобы можно было спросить, что же тогда положительно следует понимать под не-овеществленным бытием субъекта, души, сознания, духа, личности. Все эти термины обозначают определенные, «оформляемые» феноменальные области, но их использование сопровождается поразительным отсутствием потребности спрашивать о бытии так обозначаемого сущего. Поэтому в нашей терминологии нет произвола, если мы избегаем этих терминов, как и выражений «жизнь» и «человек», для обозначения сущего, каковым мы сами являемся.
С другой стороны, в правильно понятой тенденции всех научно-серьёзных «философий жизни» – это слово означает примерно то же, что «ботаника растений» – невыраженно присутствует стремление к пониманию бытия Dasein. Однако бросается в глаза, и это её принципиальный недостаток, что сама «жизнь» не становится онтологически проблемой как способ бытия.
Исследования В. Дильтея пронизаны постоянным вопросом о «жизни». «Переживания» этой «жизни» он стремится понять в их структурной и развивающейся взаимосвязи, исходя из целостности самой жизни. Философски значимым в его «психологии гуманитарных наук» является не то, что она больше не ориентируется на психические элементы и атомы и не пытается складывать душевную жизнь из кусочков, а направлена на «целостность жизни» и «формы», – а то, что во всём этом он прежде всего двигался к вопросу о «жизни». Однако здесь же наиболее явно проявляются границы его проблематики и понятийного аппарата, в котором она должна была выражаться. Эти границы разделяют с Дильтеем и Бергсоном все определяемые ими направления «персонализма» и все тенденции к философской антропологии. Даже принципиально более радикальная и прозрачная феноменологическая интерпретация личности не достигает измерения вопроса о бытии Dasein. При всех различиях в постановке вопроса, исполнении и мировоззренческой ориентации интерпретации личности у Гуссерля и Шелера совпадают в негативном. Они больше не ставят вопрос о самом «бытии личностью».
В качестве примера мы выбираем интерпретацию Шелера не только потому, что она доступна в литературе, но и потому, что Шелер подчеркивает бытие личностью как таковое и пытается определить его через разграничение специфического бытия актов по отношению ко всему «психическому». Личность, по Шелеру, никогда не может мыслиться как вещь или субстанция: «она есть непосредственно переживаемая единственность переживания – а не просто мыслимая вещь за пределами непосредственно переживаемого». Личность не есть вещное субстанциальное бытие. Кроме того, бытие личности не может сводиться к тому, чтобы быть субъектом разумных актов определённой закономерности.
Личность – не вещь, не субстанция, не объект. Тем самым подчёркивается то же, что указывает Гуссерль, требуя для единства личности существенно иной конституции, чем для единства природных вещей. То, что Шелер говорит о личности, он формулирует и для актов: «Но акт никогда не является объектом; ибо сущность бытия актов состоит только в том, чтобы переживаться в самом их осуществлении и даваться в рефлексии». Акты – нечто внепсихическое. Сущность личности заключается в том, что она существует только в осуществлении интенциональных актов; она, следовательно, по своей сути не объект. Любая психическая объективация, то есть любое понимание актов как чего-то психического, тождественно деперсонализации. Личность дана как исполнитель интенциональных актов, связанных единством смысла. Психическое бытие, таким образом, не имеет ничего общего с бытием личностью. Акты осуществляются, личность – исполнитель актов. Но каков онтологический смысл «осуществления», как положительно онтологически определить способ бытия личности? Однако критический вопрос не может здесь остановиться. Встаёт вопрос о бытии целостного человека, которого привыкли понимать как единство телесно-душевно-духовного. Тело, душа, дух могут обозначать феноменальные области, которые для определённых исследований могут тематически выделяться; в определённых границах их онтологическая неопределённость может не иметь значения. Но в вопросе о бытии человека его нельзя вычислить суммированием способов бытия тела, души и духа, которые, к тому же, ещё только предстоит определить. Даже для онтологической попытки, действующей таким образом, должна предполагаться идея бытия целого.
Но то, что блокирует или уводит в сторону принципиальный вопрос о бытии Dasein, – это повсеместная ориентация на антично-христианскую антропологию, недостаточные онтологические основания которой игнорируются как персонализмом, так и философией жизни. Традиционная антропология содержит в себе:
1. Определение человека как ζῷον λόγον ἔχον (живое существо, обладающее разумом) в интерпретации: animal rationale, разумное животное. Однако способ бытия ζῷον понимается здесь в смысле наличного бытия и встречаемости. Λόγος – это высшее свойство, способ бытия которого остаётся столь же тёмным, как и способ бытия этого составного сущего.
2. Другой ориентир для определения бытия и сущности человека – теологический: καὶ εἶπεν ὁ θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν (Быт. 1:26) – «сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему». Христианско-теологическая антропология, включая античное определение, получает отсюда интерпретацию сущего, которое мы называем человеком. Но так же, как бытие Бога интерпретируется онтологически средствами античной онтологии, тем более – бытие ens finitum (конечного сущего). Христианское определение в ходе Нового времени было детеологизировано. Однако идея «трансценденции», что человек есть нечто, выходящее за свои пределы, коренится в христианской догматике, которую вряд ли можно назвать когда-либо ставившей бытие человека онтологически как проблему.
Для традиционной антропологии существенны два истока: греческое определение и теологический ориентир. Они показывают, что при определении сущности сущего «человек» вопрос о его бытии забывается, а само это бытие понимается как «само собой разумеющееся» в смысле наличного бытия прочих созданных вещей. В новоевропейской антропологии эти два ориентира переплетаются с методологическим исходным пунктом – res cogitans, сознанием, связью переживаний. Но поскольку cogitationes остаются онтологически неопределёнными или, опять же, невыраженно принимаются как нечто «данное», чьё «бытие» не подвергается вопросу, антропологическая проблематика остаётся неопределённой в своих решающих онтологических основаниях.
То же самое в не меньшей степени относится к «психологии», антропологические тенденции которой сегодня очевидны. Отсутствующее онтологическое основание не может быть восполнено и тем, что антропология и психология встраиваются в общую биологию. В порядке возможного постижения и интерпретации биология как «наука о жизни» основана в онтологии Dasein, хотя и не исключительно в ней. Жизнь есть особый способ бытия, но по своей сути доступна только в Dasein. Онтология жизни осуществляется путём привативной интерпретации: она определяет то, что должно быть, чтобы могло существовать нечто вроде «только-ещё-жизни». Жизнь – ни чистое наличное бытие, но и не Dasein. Dasein, в свою очередь, онтологически никогда нельзя определить так, чтобы полагать его как жизнь (онтологически неопределённую) и, кроме того, ещё как нечто иное.
Указание на отсутствие однозначного, онтологически достаточно обоснованного ответа на вопрос о способе бытия этого сущего, каковым мы сами являемся, в антропологии, психологии и биологии – не является приговором положительной работе этих дисциплин. С другой стороны, необходимо постоянно осознавать, что эти онтологические основания никогда не могут быть гипотетически выведены задним числом из эмпирического материала, что они всегда уже «есть» даже тогда, когда эмпирический материал только собирается. То, что позитивное исследование не видит эти основания и принимает их как само собой разумеющиеся, – не доказательство того, что они не лежат в основе и не являются проблематичными в более радикальном смысле, чем любая тезисная позиция позитивной науки.
1. Dasein – ключевое понятие Хайдеггера, обозначающее человеческое бытие как осмысленное присутствие в мире. Оно не сводится ни к субъекту, ни к сознанию, а раскрывается через экзистенциальные структуры (забота, временность и др.).
2. Привативная интерпретация – метод, при котором сущность явления раскрывается через отрицание («жизнь – не вещь, не Dasein»).
3. Критика традиционной антропологии:
– Греческое определение (animal rationale) и христианское (образ Божий) не ставят вопрос о бытии человека, принимая его как данность.
– Новоевропейская философия (Декарт) упускает sum в cogito sum, сводя бытие к мышлению.
4. Шелер и Гуссерль анализируют личность через акты, но не исследуют её бытие как таковое.
5. Онтология жизни возможна только через Dasein, так как жизнь сама по себе не обладает самораскрытием.
6. Проблема «овеществления» – критика сведения человеческого бытия к вещи, субстанции или объекту, что игнорирует его экзистенциальный характер.
Этот параграф подчёркивает, что подлинная онтология требует не просто накопления фактов, а радикального переосмысления самих основ человеческого бытия.
Интерпретация присутствия (Dasein) в его повседневности не тождественна описанию примитивной ступени бытия, знание о которой может быть получено эмпирически через антропологию. Повседневность не совпадает с примитивностью. Повседневность – это модус бытия присутствия, который сохраняется даже и именно тогда, когда присутствие функционирует в условиях высокоразвитой и дифференцированной культуры. С другой стороны, даже примитивное присутствие обладает своими возможностями неповседневного бытия и имеет свою специфическую повседневность.
Ориентация анализа присутствия на «жизнь примитивных народов» может иметь положительное методологическое значение, поскольку «примитивные феномены» часто оказываются менее затемнёнными и усложнёнными из-за уже развитой самоинтерпретации данного присутствия. Примитивное присутствие часто выражает себя более непосредственно, исходя из первичного погружения в «феномены» (понимаемые в дофеноменологическом смысле). Даже если с нашей точки зрения его понятийный аппарат кажется неуклюжим и грубым, это может способствовать подлинному выявлению онтологических структур явлений.
Однако до сих пор наше знание о примитивных культурах предоставляется этнологией. А эта наука уже на этапе первичного сбора материала, его систематизации и обработки опирается на определённые предварительные понятия и интерпретации человеческого присутствия вообще. Неочевидно, что обыденная психология, а тем более научная психология и социология, которыми пользуется этнолог, обеспечивают адекватный доступ, интерпретацию и передачу исследуемых феноменов. Здесь мы сталкиваемся с той же ситуацией, что и в ранее упомянутых дисциплинах. Этнология уже заранее предполагает достаточную аналитику присутствия в качестве руководящей нити.
Но поскольку позитивные науки не могут и не должны ждать, пока философия выполнит свою онтологическую работу, прогресс исследования будет осуществляться не как «поступательное движение», а как повторение и онтологически более прозрачная очистка того, что уже было обнаружено на уровне сущего (онтически).
Трудности экзистенциальной аналитики
Как бы легко ни выглядело формальное разграничение онтологической проблематики и исследования сущего, реализация экзистенциальной аналитики присутствия, и особенно её исходный замысел, сопряжена с трудностями. В её задаче заключено давнее философское стремление, которое до сих пор остаётся неудовлетворённым: разработка идеи «естественного понятия мира».
Казалось бы, сегодняшнее обилие знаний о самых разнообразных и отдалённых культурах и формах присутствия благоприятствует решению этой задачи. Но это лишь видимость. На самом деле, такое чрезмерное богатство знаний скорее искушение для упущения подлинной проблемы. Синкретическое сравнение всего со всем и типологизация сами по себе ещё не дают подлинного познания сущности. Возможность упорядочить многообразие в таблице ещё не гарантирует действительного понимания того, что в ней систематизировано. Подлинный принцип порядка имеет собственное содержательное основание, которое никогда не обнаруживается в процессе упорядочивания, а уже заранее предполагается в нём.
Таким образом, для упорядочения картин мира требуется эксплицитная идея мира как такового. А если «мир» сам является конститутивным моментом присутствия, то понятийная разработка феномена мира требует понимания основных структур присутствия.
Заключительные замечания
Позитивные характеристики и критические соображения, изложенные в этой главе, имели целью направить понимание тенденции и вопрошания последующей интерпретации в правильное русло.
Онтология может лишь косвенно способствовать развитию существующих позитивных дисциплин. У неё есть собственная цель – если, конечно, вопрос о бытии (помимо простого познания сущего) остаётся главным стимулом всякого научного поиска.
1. Присутствие (Dasein) – у Хайдеггера это не просто «человек», а способ бытия, для которого важно понимание собственного существования.
2. Повседневность vs. примитивность – Хайдеггер подчёркивает, что повседневность есть у всех, даже в высокоразвитых культурах, а примитивность – это лишь одна из форм бытия.
3. Онтологическое vs. онтическое – онтология изучает бытие как таковое, а онтические науки (например, антропология) – конкретные сущности.
4. «Естественное понятие мира» – идея, которая должна раскрыть мир не как сумму объектов, а как горизонт человеческого существования.
5. Критика этнологии – Хайдеггер указывает, что даже наука о «примитивных» культурах зависит от предварительных философских понятий, которые часто не осмыслены.
Глава 2. Бытие-в-мире как фундаментальная структура присутствия.
В предварительных рассуждениях (§ 9) мы уже выделили некоторые характеристики бытия, которые должны послужить надежной основой для дальнейшего исследования, но которые сами в ходе этого исследования получат свою структурную конкретизацию.
Присутствие (Dasein) – это сущее, которое в своем бытии понимающе относится к этому бытию. Этим задается формальное понятие экзистенции. Присутствие экзистирует. Кроме того, присутствие – это сущее, которое в каждом случае есть я сам. К экзистирующему присутствию принадлежит всегда-моё (Jemeinigkeit) как условие возможности подлинности (Eigentlichkeit) и неподлинности (Uneigentlichkeit). Присутствие экзистирует всегда в одном из этих модусов или же в модальной индифферентности их обоих.
Однако эти определения бытия присутствия должны быть поняты априори на основе той структуры бытия, которую мы называем бытием-в-мире (In-der-Welt-sein). Правильный подход к аналитике присутствия заключается в истолковании этой структуры.
Сложное выражение «бытие-в-мире» уже своим построением указывает на то, что оно обозначает единый феномен. Этот первичный факт необходимо рассматривать целостно. Его неразложимость на отдельные составляющие не исключает множественности конститутивных моментов этой структуры. Феномен, обозначаемый этим выражением, действительно допускает три аспекта рассмотрения:
1. «В мире» (in der Welt). В связи с этим моментом возникает задача исследовать онтологическую структуру «мира» (Welt) и определить идею мирности (Weltlichkeit) как таковой (см. главу 3).
2. Сущее, которое существует способом бытия-в-мире. Здесь мы ищем ответ на вопрос «Кто?». Феноменологическое описание должно определить, кто существует в модусе повседневной усредненности присутствия (см. главу 4).
3. «Бытие-в» (In-Sein) как таковое. Необходимо выявить онтологическую конституцию внутренности (Inheit) самой по себе (см. главу 5).
Выделение любого из этих моментов структуры означает одновременно выделение других – то есть каждый раз мы видим целый феномен.
Бытие-в-мире – это, безусловно, априорно необходимая структура присутствия, но ее недостаточно для полного определения его бытия. Прежде чем перейти к тематическому анализу трех выделенных феноменов, попробуем дать ориентировочную характеристику последнего из них – «бытия-в».
Что означает «бытие-в»?
Сначала мы дополняем это выражение до «бытие-в мире» и склонны понимать его как «бытие внутри…». Этот термин обозначает способ бытия сущего, которое «в» другом, как вода «в» стакане или платье «в» шкафу. Здесь «в» выражает отношение двух пространственно протяженных сущих друг к другу с точки зрения их местоположения. Вода и стакан, платье и шкаф одинаково находятся «в» пространстве «на» определенном месте.
Это отношение можно расширить: скамья в аудитории, аудитория в университете, университет в городе и так далее – вплоть до «скамья в мировом пространстве». Все эти сущие, чье «в-друг-друге» можно так определить, обладают одним и тем же способом бытия – наличным бытием (Vorhandensein) как вещей, встречающихся «внутри» мира.
Наличное бытие «в» другом наличном, совместное наличное бытие с чем-то того же способа бытия – это онтологические категориальные характеристики, относящиеся к сущему, чей способ бытия не является присутствием.
«Бытие-в», напротив, означает структуру бытия присутствия и является экзистенциалом (Existenzial). Оно не может означать наличное бытие телесной вещи (человеческого тела) «в» другом наличном сущем.
«Бытие-в» не означает пространственного «в-друг-друге» наличных вещей, так как «в» изначально не выражает пространственного отношения.
– «В» происходит от innan- – «жить», «обитать», «пребывать» (wohnen, habitare, sich aufhalten).
– «У» (an) означает: «я привык», «я знаком», «я забочусь о чем-то» (ich bin gewohnt, vertraut mit, ich pflege etwas).
Сущее, которому принадлежит «бытие-в» в этом смысле, мы охарактеризовали как сущее, которым я в каждом случае являюсь сам. Выражение «есмь» (bin) связано с «при» (bei). «Я есмь» означает: я обитаю, пребываю при… мире как чем-то знакомом.
Бытие (Sein), понимаемое как инфинитив «я есмь» (то есть как экзистенциал), означает: жить при…, быть знакомым с…
Таким образом, «бытие-в» – это формальное экзистенциальное выражение бытия присутствия, которое имеет сущностную структуру бытия-в-мире.
«Бытие-при» мире.
«Бытие-при» (Sein bei) мира (в еще подлежащем истолкованию смысле погруженности в мир) – это экзистенциал, основанный на «бытии-в».
Поскольку в этих анализах речь идет о усмотрении изначальной структуры бытия присутствия, чей феноменальный состав требует соответствующей артикуляции понятий бытия, и поскольку эту структуру принципиально невозможно схватить с помощью традиционных онтологических категорий, необходимо более детально рассмотреть это «бытие-при».
Мы снова выбираем путь противопоставления онтологически иному (то есть категориальному) отношению бытия, которое выражается теми же языковыми средствами.
Такое феноменальное прояснение легко стираемых фундаментальных онтологических различий должно быть проведено явно, даже если это грозит обсуждением «самоочевидного». Однако состояние онтологической аналитики показывает, что мы далеко не вполне владеем этими «очевидностями» и еще реже толкуем их смысл бытия, а тем более не обладаем адекватными структурными понятиями в четком виде.
«Бытие-при» как экзистенциал никогда не означает что-то вроде совместного наличного бытия встречающихся вещей. Не существует чего-то вроде «рядом-с» (Nebeneinander) сущего, называемого «присутствием», и другого сущего, называемого «миром».
Мы, конечно, иногда выражаем совместное нахождение двух наличных вещей, например:
– «Сто́л стоит у двери»,
– «Стул касается стены».
Но о «касании» в строгом смысле не может быть речи – не потому, что при тщательной проверке всегда можно обнаружить промежуток между стулом и стеной, а потому, что стул в принципе не может касаться стены, даже если промежуток равен нулю.
Предпосылкой касания было бы то, что стена «для» стула может встретиться. Сущее может касаться другого сущего, встречающегося внутри мира, только если оно изначально обладает способом бытия «бытия-в» – то есть если в его бытии-вот (Da-sein) ему уже раскрыто нечто вроде мира, из которого сущее может явиться в касании и таким образом стать доступным в своем наличном бытии.
Два сущих, которые внутри мира наличны и при этом сами по себе лишены мира, никогда не могут «коснуться» друг друга, ни одно из них не может «быть при» другом.
Добавление «лишенные мира» необходимо, потому что и сущее, не лишенное мира (например, само присутствие), «в» мире налично – точнее говоря, с некоторым правом и в определенных пределах может быть понято как просто наличное. Для этого требуется полное отвлечение от экзистенциальной структуры «бытия-в» или даже его невидение.
Однако эту возможную трактовку «присутствия» как наличного и только наличного нельзя смешивать с присущим присутствию способом «наличности». Эта наличность становится доступной не через игнорирование специфических структур присутствия, а только через предварительное понимание их.
Присутствие понимает свое собственное бытие в смысле некоторого «фактического наличного бытия». И все же «фактичность» (Tatsächlichkeit) собственного присутствия онтологически радикально отличается от фактического наличия, например, горной породы.
Фактичность факта присутствия, каковым является каждое присутствие, мы называем его фактичностью (Faktizität). Сложная структура этой определенности бытия может быть схвачена как проблема только в свете уже выявленных экзистенциальных структур присутствия.
Понятие фактичности включает в себя:
– бытие-в-мире «внутримирного» сущего,
– причем так, что это сущее может понимать себя как связанное в своем «судьбоносном бытии» (Geschick) с бытием сущего, которое встречается ему внутри его собственного мира.
Онтологическое различие между «бытием-в» и «внутренностью».
Пока важно лишь увидеть онтологическое различие между:
– «бытием-в» как экзистенциалом
– и «внутренностью» (Inwendigkeit) наличных вещей друг в друге как категорией.
Такое разграничение не означает, что присутствию вообще отказывается в какой-либо «пространственности». Напротив, присутствие обладает собственным «бытием-в-пространстве», которое, однако, возможно только на основе бытия-в-мире вообще.
