История московской полиции
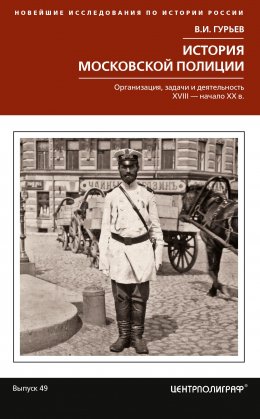
Серия «Новейшие исследования по истории России» основана в 2016 г.
Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© Гурьев В. И., 2025
© «Центрполиграф», 2025
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2025
Введение
Одной из главных задач любого государства является поддержание порядка и борьба с нарушителями закона. Для этого государство создает соответствующие ведомства, которые называются правоохранительными органами или органами правопорядка. Первоначально существовавшая только в виде судебной системы, она по мере развития государства дополняется ведомствами, предназначенными для поддержания порядка и расследования преступлений.
Органы правопорядка выступают как важная часть государственного аппарата, чья деятельность напрямую влияет на отношение населения к государству в целом. Для многих граждан именно сотрудник полиции, будь то российский городовой или английский констебль, становится тем представителем власти, с которым они чаще всего сталкиваются в реальной жизни, то есть он является символом государства.
В организации и деятельности органов правопорядка любой страны мы видим отражение государства и общества в целом. Следовательно, изучая их, мы лучше понимаем и то государство, и общество, частью которого они являются.
Изучение истории российских правоохранительных органов имеет весьма обширную историографию. Хронологически ее можно разделить на три периода, каждый из которых характеризуется особенностями мировоззрения исследователей, – дореволюционный, советский и современный.
Первыми деятельность правоохранительных органов начали исследовать ученые XIX – начала XX в. Для них характерно изучение современных им органов правопорядка и их предыстории. Это упрощало сбор материала, но и накладывало ограничения в плане критики правоохранительных органов.
Работы данного периода достаточно четко делятся на две группы, которые можно условно обозначить как ведомственную и теоретическую.
К первой относятся исследования ученых, работавших по заказу различных ведомств, в первую очередь Министерства внутренних дел. Нередко они сами были сотрудниками данного министерства. Весьма характерным и наиболее удачным исследованием данной группы является очерк истории российской полиции, написанный С. П. Белецким и П. Руткевичем[1]. В книге дается общий обзор истории российских правоохранительных органов начиная с XV в., описаны основные этапы развития и наиболее серьезные преобразования, приводится оценка деятельности органов правопорядка.
Также следует отметить весьма информативную работу И. П. Высоцкого, посвященную истории петербургской полиции[2]. В ней собрано большое количество материалов, связанных как с деятельностью петербургских органов правопорядка, так и российских правоохранительных органов в целом.
Кроме работ, издававшихся под эгидой МВД, следует учитывать и исследования, посвященные деятельности московских городских властей. В них затрагивались вопросы взаимодействия московской полиции и выборных властей города[3]. Примером такой работы является книга И. А. Вернера[4], описывающая хозяйственную деятельность Московской городской думы, в том числе и ее роль в финансировании местных органов правопорядка.
Для всех исследований данной группы характерно широкое использование архивов и нормативных актов, историко-хронологический подход в построении материала.
Великие реформы 1860-х гг., проявившиеся также в ослаблении цензуры и росте общественной активности, привели, кроме всего прочего, и к появлению второй группы исследователей, изучавших правоохранительные органы. Это были преподаватели университетов, читавшие лекции по юриспруденции или полицейскому праву и нередко создававшие свои работы в лекционной форме. Так, профессор И. Т. Тарасов уделял внимание практической деятельности полиции, ее задачам, впервые начал изучать историю правоохранительных органов[5]. Исследование А. А. Лопухина, написанное с либеральных позиций в годы русской революции 1905–1907 гг., отличается критическим подходом к предмету исследования[6]. Были показаны многие проблемы в организации и деятельности правоохранительных органов, не афишируемые другими исследователями.
После Октябрьской революции 1917 г. сформировалась новая, советская историческая школа. Она строилась на единой марксистско-ленинской идеологической платформе и в условиях жесткого контроля со стороны государства. Изучение правоохранительных органов Российской империи, особенно в первой половине XX в., во многом базировалось на враждебном отношении новой власти к органам правопорядка предыдущего режима. Основным объектом исследования стала политическая полиция. Только иногда, при исследовании вопросов, в которых так или иначе участвовала обычная полиция, советские историки освещали отдельные эпизоды ее истории[7].
Интерес к изучению обычной полиции полностью исчез вплоть до 60-х гг. XX в., когда появились работы Н. П. Ерошкина[8] и П. А. Зайончковского[9], посвященные администрации императорской России, в том числе и вопросы деятельности правоохранительных институтов Российской империи.
Первым советским историком, который сосредоточился на исследовании дореволюционных правоохранительных органов, стал Р. С. Мулукаев[10]. Его перу принадлежит целый ряд исследований, среди которых есть и обзорные работы по истории российской полиции, и книги, посвященные пенитенциарной системе царской России. Особо следует отметить его брошюру по истории сыскной полиции[11].
Вскоре появились работы других советских ученых, посвященные тем или иным аспектам данной проблемы. Так, В. М. Сизиков изучал историю полиции XVIII в., сделав основным предметом исследования преобразования органов правопорядка, предпринятые при Петре I и Екатерине II[12]. А. Б. Борисов изучил руководство правоохранительных органов, в первую очередь Министерства внутренних дел[13]. Е. А. Скрипилев сосредоточил свою деятельность на исследовании органов правопорядка после Февральской революции. Итоговой работой, обобщившей исследования советских историков по рассматриваемому вопросу, можно считать книгу «История полиции России. 1718–1917 гг.»[14].
Следует отметить, что почти во всех исследованиях данного периода большое внимание уделялось изучению институтов политического сыска, в результате чего другие подразделения правоохранительных органов часто оставались в тени.
После перехода к идеологическому плюрализму и крушения идеологических догматов в науке произошло значительное расширение тематики исторических работ. Это сказалось и на изучении государственных институтов Российской империи, в том числе правоохранительных органов.
Современные историки сосредоточились на изучении отдельных вопросов существования и деятельности институтов правопорядка[15]. Так, Е. И. Елинский в своих работах уделяет основное внимание исследованию уголовного сыска, при этом трактуя это понятие очень широко. А. В. Горожанин изучает вопросы взаимодействия общества и правоохранительных органов.
Появляется целый ряд работ обзорного характера, описывающих правоохранительные органы в целом[16]. Так, была выпущена коллективная монография в честь двухсотлетия Министерства внутренних дел, продолжившая традицию создания подобных сборников в честь столетнего юбилея МВД.
Особо следует отметить работы Ю. А. Реента. Ученый начал с изучения правоохранительных органов Рязани. Позднее он перешел к изучению отдельных аспектов истории правоохранительных органов, а затем и институтов правопорядка в масштабе всей страны[17]. Подобный подход позволил ему более подробно рассмотреть практическую деятельность правоохранительных структур.
Теоретические основы деятельности российских правоохранительных органов и принципы их взаимодействия с обществом успешно разрабатывает И. И. Мушкет[18].
Многие авторы, как и в советское время, сосредоточили усилия на исследовании деятельности политической полиции, а также органов правопорядка в целом. Среди них следует отметить работы З. И. Перегудовой[19] и А. И. Колпакиди[20]. В них также освещается деятельность Департамента полиции и его руководителей.
Особо следует выделить две работы, вышедшие относительно недавно. Это исследование А. Ю. Шаламова[21], посвященное деятельности сыскной полиции, в том числе и московской, и весьма солидная коллективная работа о российской дореволюционной полиции, подытоживающая современные исследования по этой проблеме[22].
Важной группой исследований, затрагивающих изучаемый вопрос, являются работы московских краеведов, которые описывают жизнь москвичей того времени и затрагивают вопросы деятельности московской полиции[23]. Наиболее интересными с точки зрения освещения деятельности полиции являются работы В. Руга и А. Кокорева[24], в которых весьма подробно говорится о деятельности московской полиции в начале XX в., ее составе, вопросах коррупции и взаимоотношениях правоохранительных органов с жителями Москвы.
Значительный интерес представляет и исследование В. Боковой[25], построенное на широком и грамотном использовании мемуаров и материалов периодической печати того времени. Особенно ценно то, что в указанных исследованиях деятельность полиции показывается с точки зрения обывателей.
Изучению правоохранительных органов императорской России посвящен целый ряд кандидатских и докторских диссертаций. Например, работы Е. И. Иванова[26] и Б. Д. Исаева[27], посвященные законодательным основам деятельности полиции. В своих исследованиях они дали общий обзор законодательных актов, регулирующих деятельность полиции, и весьма продуманный анализ различных аспектов законодательства. Примеры из практической деятельности полиции играли в указанных исследованиях скорее второстепенную роль, иллюстрируя те или иные законодательные положения.
Говоря о состоянии историографии в целом, следует отметить, что вопросы законодательной базы полиции, ее организации по законодательным источникам изучены на весьма высоком уровне. Кроме того, в литературе представлены обстоятельные исследования центрального аппарата полиции. Что касается организации и деятельности полиции на местах, то за исключением истории полиции Санкт-Петербурга эта тема только частично разрабатывалась в историографии. Вопросы деятельности московской обычной (неполитической) полиции затрагивались во многих исследованиях, но до сих пор не становились предметом специального изучения.
Поэтому, широко используя указанные выше исследования для понимания общих тенденций развития органов правопорядка, автор использовал для изучения собственно московской полиции различные источники.
Были изучены нормативные акты, регулирующие деятельность полиции. Это – законы, относящиеся к деятельности полиции в целом, и акты, определяющие организацию московской полиции[28], а также служебные инструкции для сотрудников полиции.
Следующую группу источников составили воспоминания современников, в которых говорилось о полиции того времени. К сожалению, сами сотрудники полиции почти не оставили воспоминаний. Единственным, но очень ценным исключением являются воспоминания А. Ф. Кошко, бывшего начальника Московской сыскной полиции[29]. Написанные в стиле детективных рассказов, кстати очень занимательных, они описывают наиболее интересные расследования автора и громкие преступления того времени.
Мемуары В. Ф. Джунковского, московского губернатора в 1905–1913 гг.[30], видного представителя придворной аристократии, представляют интерес как характеристиками некоторых руководителей московской полиции, так и отраженным в них мнением представителя элиты об участии органов правопорядка в целом ряде исторических событий.
Воспоминания А. П. Мартынова[31], служившего вначале в Московском жандармском дивизионе, а затем начальником московской охранки, дают интересные подробности жизнедеятельности этих структур и описания ряда высших чинов правоохранительных структур.
Еще одной группой источников служат воспоминания москвичей того времени. Для настоящего исследования особо ценными являются воспоминания М. М. Богословского[32], в которых приводятся любопытные описания правоохранительных органов с точки зрения рядовых москвичей.
Особый интерес представляют воспоминания сотрудников периодических изданий, по роду своей деятельности хорошо осведомленных о жизни города и его обитателей. Среди них можно отметить воспоминания судебного репортера Е. И. Козлининой[33], одной из первых женщин-журналистов, описывающей как дореформенную полицию, так и деятельность органов правопорядка в изучаемый период. Такие известные журналисты тех лет, как В. М. Дорошевич и В. А. Гиляровский, в своих воспоминаниях часто упоминают те или иные действия полиции[34].
Своеобразную группу источников представляют работы, связанные с коррупционным скандалом, известным как дело Рейнбота, который разразился в Москве в 1907–1908 гг. В первую очередь это книга самого А. А. Рейнбота, написанная в виде заявлений на имя члена судебной палаты[35]. Бывший градоначальник описывает положение московской полиции во время его пребывания в должности. Написанная крайне пристрастно, эта работа описывает те стороны деятельности органов правопорядка, которые обычно оставались в тени (личные взаимоотношения, коррупция и т. д.). Заметим, что сам факт появления подобной книги свидетельствует о возросшей силе общественного мнения, к которому апеллирует автор.
С этим же делом связано большое количество различных газетных статей, на их основе даже была выпущена книга[36]. Для них характерны ставка на сенсацию, иногда использование явно недостоверной информации. Тем не менее они по-своему интересны и отражают представление о полиции в массовом сознании, а также иногда дают весьма интересные данные.
Вообще в средствах массовой информации того времени периодически появлялись статьи о полиции. Особо следует отметить два периодических издания, напрямую связанные с деятельностью правоохранительных органов. Первое – официальная газета московских властей «Ведомости московской городской полиции», с 1 января 1905 г. переименованная в «Ведомости московского градоначальства и столичной полиции». В ней печатались выдержки из ежедневных приказов по полиции начальника полиции, объявления об аукционах, официальные объявления, сообщения о тех или иных назначениях, о прибытии в город наиболее важных персон, новости из-за рубежа и т. д. Основной интерес здесь представляют публикации распоряжений начальника полиции, впрочем, большей частью сохранившихся и в ЦИАМ (Центральном историческом архиве г. Москвы).
Вторым изданием был журнал «Вестник полиции». Издававшийся с 1908 г., он весьма активно обсуждал на своих страницах проблемы полиции. Здесь активно печатались статьи о полиции и письма читателей. Важно отметить, что подавляющее большинство авторов статей и писем служили в полиции и не понаслышке знали детали полицейской службы. При всей мозаичности данного источника, он иногда дает очень интересные сведения об особенностях службы в правоохранительных органах.
Наиболее ценными и часто используемыми источниками для данного исследования послужили неопубликованные архивные материалы, касающиеся московской полиции.
При работе над книгой был использован целый ряд дел, хранящихся в фонде 102 (Департамент полиции) Государственного архива Российской Федерации (далее – ГАРФ). Среди них следует отметить материалы комиссий, разрабатывавших проекты преобразования органов правопорядка империи и собиравших для обоснования предлагаемых реформ различные данные о состоянии полиции, а также источники, связанные с судебным процессом над А. А. Рейнботом. Значительный интерес представляют также некоторые отчеты и прошения о выделении пенсии, где нередко приводятся данные о службе просителей.
Основная часть архивных документов, использованных в данной работе, сосредоточена в ЦИАМ. В первую очередь это документы из фонда канцелярии московского обер-полицмейстера, а затем градоначальника (фонд 46). Он очень обширен и включает большое количество материалов, которые отражают различные аспекты деятельности московских правоохранительных органов. Среди них следует отметить большое количество личных дел и формулярных списков сотрудников, начиная с городовых и заканчивая руководителями органов правопорядка. Большой интерес представляют ежедневные приказы, издаваемые начальником полиции, поскольку в них фиксировалась повседневная жизнь московских правоохранительных органов. Особую важность для данного исследования представляют разнообразные списки чинов полиции.
При проведении данного исследования также использовались материалы различных проверок и ревизий, сосредоточенные в указанном фонде. Особенно интересны, благодаря большому объему собранной в них информации, отчеты комиссий, связанные с расследованием коррупции в московской полиции в период руководства ею А. А. Рейнбота.
Часть материалов, связанных с деятельностью московской полиции, сосредоточена в архиве канцелярии генерал-губернатора Московской губернии (фонд 16). Для данной работы основной интерес представляют хранящиеся в этом фонде личные дела офицеров органов правопорядка, материалы о различных преобразованиях полиции и материалы дел о выдаче пенсий сотрудникам правоохранительных органов, а также дела о проверке жалоб на деятельность агентов полиции.
К сожалению, немногочисленны материалы из фонда Московской сыскной полиции (№ 1293). Они позволяют увидеть многие стороны деятельности данного подразделения московской полиции. В работе использовались и материалы из архива Московского жандармского дивизиона (фонд 1102), позволяющие осветить его роль в поддержании порядка.
В совокупности указанные выше источники и исследования позволяют увидеть достаточно полную картину жизни органов правопорядка того времени.
Глава I
История московских правоохранительных органов
1. Основные этапы развития правоохранительных органов в XV–XIX вв.
Хронология и определение основных этапов развития российских правоохранительных органов до сих пор являются спорными вопросами в историографии. Автор позволил себе предложить еще одну схему развития российских правоохранительных органов. Основными критериями каждого этапа являются различия в принципах организации и источниках комплектования личного состава правоохранительных органов.
Таблица 1
Основные этапы развития органов правопорядка
Традиционно одной из главных обязанностей власти на Руси, как и в других государствах, считался суд. Понятия «судить» и «управлять» являлись синонимами. Однако целенаправленно следить за поддержанием порядка и предупреждением правонарушений не считалось необходимым. Тем более речь не шла о создании для этого специализированного ведомства. Только в процессе создания централизованного государства, связанного не только с расширением территории, но и с усилением вмешательства государства в жизнь подданных, государство взяло на себя эти задачи.
Первые указания на это появляются в Судебнике Ивана III[37]. В нем государство возлагало задачи по поддержанию правопорядка на органы управления. В этот же период складываются основы системы управления Москвой.
К 1564 г. относится первое упоминание о Земском дворе в Москве[38], который отвечал за управление столицей, в том числе и за поддержание порядка в городе. В 1584 г. зафиксировано существующее разделение города на участки[39].
К сожалению, состояние источников позволяет нам детально проанализировать систему поддержания порядка в столице только по материалам XVII столетия. Согласно им, управление Москвой, точнее, ее слободами и сотнями (территориальные подразделения) было сосредоточено в Земском приказе. В его обязанности входило составление описей имущества, по которому собирались различные налоги, регистрация населения, благоустройство Москвы. Также Земский приказ отвечал за соблюдение норм пожарной безопасности и поимку преступников.
Здесь же чаще всего происходили судебные разбирательства между жителями Москвы.
Впрочем, в различные периоды судебную власть над москвичами осуществляли также Разбойный и/или Сыскной приказы. Следует учитывать, что компетенции приказов периодически менялись, периодически сами приказы появлялись и исчезали. Это было связано с тем, что система управления только формировалась и воспринималась как единый механизм.
Кроме судьи (главы приказа) и дьяков (высших чиновников), в состав Земского приказа входила большая группа служащих среднего звена, имевших звание ярыжных (в просторечии «ярыжки»). Именно они, кроме выполнения задач обычных чиновников, также занимались ловлей преступников, то есть выполняли обязанности сотрудников полиции.
На местах за порядком следили местные десятские – стражники из числа местных жителей, служившие по принципу 1 человек от 10 дворов или 1 человек от большого, то есть богатого, двора. Десятские охраняли покой москвичей по ночам, обходя свои улицы и стуча колотушками. Они же доносили властям о различных беспорядках и нарушениях. Эта служба государством не оплачивалась, поскольку рассматривалась как одна из натуральных повинностей. В качестве десятских выступали сами жители или нанятые ими люди.
По той же системе набирались и решеточные приказчики, которые отвечали за то, чтобы каждую улицу на ночь перегораживали решеткой и не допускали по ночам никаких хождений. Отметим, что широкое использование обывателей в обеспечении правопорядка значительно упрощало сбор информации среди местных жителей.
Важную роль в охране порядка играли стрельцы, которых выставляли в караулы на главных улицах и около ворот. Они же выполняли обязанности пожарных. В результате в Стрелецком приказе сосредотачивались дела о выдаче разрешений на строительство зданий (их анализировали с точки зрения соблюдения норм противопожарной безопасности)[40]. Специальных стрелецких частей для поддержания порядка не существовало, то есть для стрельцов караулы были одной из обязанностей воинской службы.
Роль организаторов на местах, объединявших десятских, стрельцов и ярыжек, выполняли объезжие головы, каждый из которых отвечал за порядок на своем участке. Количество участков колебалось в разное время от 11 до 17. Центром участка выступала съезжая изба, где располагалась канцелярия объезжего головы и место для задержания подследственных.
Голова должен был периодически объезжать свой участок, следить за порядком, соблюдением норм противопожарной безопасности, правил винной монополии казны, службы десятских и решеточных приказчиков, при необходимости проводить конфискацию незаконно произведенных спиртных напитков. Вместе с выборным старостой он разбирал местные споры, направляя наиболее сложные дела в приказы.
Объезжих голов из числа дворян, служащих различной службы или московских дьяков назначал на год еще один приказ – Разряд[41].
Значительную часть Москвы того времени занимали белые (привилегированные) слободы, население которых подчинялось различным приказам, при этом не подчиняясь Земскому приказу. Больше всего белых слобод в своем подчинении имел приказ Большого дворца, аналог позднейшего Министерства двора. Свои слободы имели и другие приказы: к примеру, Посольский приказ контролировал слободы, где жили выходцы из других стран. В белых слободах роль объезжего головы выполнял дворянин (в данном случае это должность). Объезжие головы, как и Земский приказ, не имели права контролировать эти территории.
Апелляции на действия объезжих голов подавались в Земский приказ, а на действия дворян в слободах – в соответствующие приказы.
В других городах существовала аналогичная, но более простая система поддержания порядка – также населением выделялись десятские и решеточные приказчики; в крупных городах существовали караулы стрельцов, но разделение на участки отсутствовало, а роль руководителей выполняли местные воеводы.
Таким образом, государство взяло на себя задачу по поддержанию порядка, но не выделяло ее из числа других задач управления, следовательно, не создавало для решения этого вопроса специального ведомства.
Обязанности сотрудников полиции выполняли не профессионалы, а временно привлеченные для этой цели люди. Ведомственная разобщенность и непрофессионализм сотрудников, безусловно, снижали эффективность работы правоохранительных органов.
Установление абсолютизма при Петре I и ускоренная модернизация страны, во многом основанная на европейских образцах, потребовали значительного усиления контроля государства над подданными. Одним из органов, призванных выполнять эту задачу, стала полиция. Впервые она была создана в 1718 г. в Санкт-Петербурге[42]. Возможно, на ее создание повлиял пример Франции, где незадолго до этого побывал первый русский император: здесь, в Париже, впервые в Европе была создана единая полиция. Спустя четыре года, 19 января 1722 г., Петр подписал указ «О бытии в Москве обер-полицмейстеру»[43].
Указы Петра означали, что впервые создаются специальные учреждения, отвечающие за поддержание порядка в городе. Важно отметить, что в данных законодательных актах впервые были четко сформулированы задачи и основные принципы деятельности полиции.
Надо сказать, что, кроме поддержания правопорядка, полиция должна была выполнять и другие функции: бороться с пожарами, следить за соблюдением санитарных норм, контролировать посещение церквей и т. д.[44] Это подтверждают и документы о деятельности полиции. Кроме вопросов поддержания правопорядка – задержания воров, убийц, не имеющих документов, беглых крепостных, здесь решались вопросы о записи в ученики, о сборах на рынке и т. д.[45]
По своему составу полиция еще больше, чем раньше, оказалась связана с армией. На должность обер-полицмейстера назначался армейский офицер, который должен был контролировать порядок в городе, опираясь на сотрудников своей канцелярии.
За период 1722–1782 гг. должность московского обер-полицмейстера занимали 14 человек, из них десять служили в армии, остальные на статской службе. Опыт работы в полиции до назначения имели четверо, из них двое занимали должность полицмейстера Санкт-Петербурга. Трое прославились как взяточники, хотя ни один не был осужден.
В канцелярии служили: четыре секретаря (аналог начальника отдела или дьяков), один расходчик (завхоз), девять канцеляристов (писцов), четыре подканцеляриста и двадцать два копииста (переписчика). Они осуществляли текущий документооборот в канцелярии, готовили материалы для судей, вели исполнительное производство[46].
Кроме того, в состав канцелярии входила служба архитекторов, следивших за состоянием дорог, то есть своевременной починкой мостов, чисткой труб, ремонтом мостовых, очисткой улиц.
Москва была разделена на двенадцать участков, где стояли полицейские (съезжие) дворы. В них служили двенадцать копиистов, составлявшие различные документы, аналог современных протоколов, и три сторожа. Здесь же находились сотрудники, шел прием жалоб населения, и здесь находились помещения для содержания задержанных.
Основные задачи по поддержанию порядка на улицах, как раньше, выполняли военные, но теперь уже не стрельцы и объезжие головы, а солдаты и офицеры Московского гарнизона.
Они несли постовую службу, составляя полицейские команды в каждом участке. Как установил М. И. Сизиков, «в 1722–1723 гг. в Московской полицмейстерской канцелярии на службе состояло, кроме обер-полицмейстера, 20 штаб- и обер-офицеров и равных им гражданских чинов», и приводит архивные данные по должностям: 1 майор, 5 капитанов, 1 капитан-поручик, 4 поручика, 2 подпоручика, 4 прапорщика, 1 квартирмейстер, 2 «из царедворцев»[47].
Роль рядовых сотрудников, лучше сказать, помощников полиции, как и раньше, выполняли десятские. В соответствии с указом от 26 февраля 1725 г. у каждой из рогаток, то есть на каждой улице, должны были дежурить ночью четверо, а днем – двое десятских.
Десятские должны были при необходимости убирать рогатки (утром и вечером). Они имели право сами задержать нарушителей порядка, которых отводили в съезжую избу своего участка. При необходимости десятские использовали трещотки, чтобы привлечь внимание окружающих и вызвать военных с ближайшего поста[48]. То, как десятские несли службу, теперь проверяли не объездные головы, а офицеры участков.
Постепенно численность полиции росла. Штаты полиции были определены в указе от 18 марта 1731 г.: «Для лучшего порядка в строении полицейской должности, съезжим дворам быть двенадцати, на каждый двор определить из прежних и ныне вновь определенных офицеров по два, к ним урядников по два, солдат по шести, барабанщиков по одному, да при полиции двум капральствам с обер- и унтер-офицерам, барабанщикам четырем»[49]. В соответствии с указом в полицмейстерской канцелярии с генерал-полицмейстером проходили службу один подполковник на правах его заместителя, два майора, каждый из которых контролировал по шесть съезжих дворов, один квартирмейстер, заведовавший хозяйственной частью, и адъютант. В указе отмечались недостатки в организации комплектования московской полиции: там часто служили военные, неподходящие для строевой службы – престарелые, больные, неграмотные, что препятствовало эффективному решению возложенных задач. Указ потребовал их отставки и замены более способными. Однако на практике сотрудников для заполнения должностей хватало далеко не всегда, да и вопросы к их качеству оставались.
В 1763 г. впервые (вероятно, зафиксировав уже существовавшие нормы) были установлены штаты московской полиции. Согласно им, во главе московской полиции, как и раньше, стоял обер-полицмейстер, которому помогали двое чиновников, имевшие чин коллежского советника и асессора. Обер-полицмейстер подчинялся генерал-губернатору. Впервые в составе полиции выделили специальное подразделение для борьбы с пожарами под руководством брандмайора. По закону общее количество служащих в московской полиции определялось как 432 человека, расходы на них определены 25 108 руб. 14 коп.[50]
В 1730-х гг. полиция, организованная по тем же принципам, что в Москве и Санкт-Петербурге, появилась и в других крупных городах империи. К 1740 г. полицмейстерские конторы существовали в 25 крупнейших городах (считая Москву и Петербург)[51].
Говоря о задачах полиции того времени, следует отметить, что она не только занималась поддержанием порядка, но и проверяла соблюдение различных норм и правил. Так, в списке дел, сохранившихся за ноябрь 1736 г., мы видим дела о недостатках в работе, о взятии в ученики, о задержании человека без паспорта, о пойманном беглом, об отсылке мастера для казенных работ, о задержании беглого матроса, о выделении денег приставу на квартиру, об отсылке жены к солдату Преображенского полка, об учинении наказаний для жителей Москвы, о неуплате налоговых сборов, о выплате штрафа, о воровстве и бегстве крепостных, о наказании взятых с дворов служителей за невыполнение ими обязанностей ночных сторожей, о поимке вора[52].
Часть этих дел решалась на месте, так сказать, в административном порядке.
Для расследования сложных дел требовалось проводить следственные мероприятия. При Петре этим занимался суд, а позднее, при его преемниках, – Московская губернская канцелярия.
Однако довольно быстро стало ясно, что этого недостаточно, поэтому было решено вернуться к традициям прошлого века.
Было решено создать (точнее, воссоздать) Судный приказ, который будет «всякого чина людям, которые обретаться будут на Москве, суд давать и разрешение чинить», то есть судить жителей Москвы, и «Сыскной приказ, в котором быть татьиным, разбойным и убийственным делам, и которые воры и разбойники пойманы будут в Москве и приведены в Полицмейстерскую канцелярию, тех записав, того же времени отсылать в Сыскной же приказ, а в той канцелярии никаким розыскам не быть»[53].
Таким образом, Сыскной приказ совмещал в себе функции судебной и административной власти, занимаясь расследованием дел, выполняя в том числе и часть задач современной полиции. В его распоряжение передавались задержанные полицией, подозреваемые в совершении каких-либо серьезных преступлений. Также приказ проводил аресты подозреваемых, которые осуществлялись с помощью военных, выделенных для этой цели из состава гарнизона, которыми руководил сотрудник приказа[54].
В 1764 г. вместо Сыскного приказа была создана Розыскная экспедиция, которая была ликвидирована в 1782 г., хотя фактически продолжала работать вплоть до 1785 г., разбирая уже начатые дела.
По сути, Розыскная экспедиция стала продолжением Сыскного приказа, унаследовав как его служащих, так и его задачи и методы работы. Это позволяет рассматривать их как единое ведомство.
Служащие приказа делились на три категории[55]:
Это – руководители приказа, которых вначале было трое, а с 1742 г. пятеро (главный судья, двое советников и двое асессоров), а также прокурор. При этом существовало правило, что на каждом процессе должно было действовать не менее трех присутствующих. В Розыскной экспедиции осталось только двое присутствующих – судья и асессор. Эти должности занимали полковники, генералы, статские и статские действительные советники и т. д. По правилам присутствующие должны были служить вначале два, затем три года, после чего получали новое назначение или уходили в отставку. На практике их служба в приказе могла продолжаться от года до восьми лет.
Подготовку дел, то есть собственно следствие, осуществляли чиновники, служившие в приказе, которые назывались приказные служители.
Роль руководителей отделов играли секретари, которых по традиции иногда называли дьяками. Интересно, что, характеризуя кандидатов на эти должности, в документах особо отмечается, что последние подходят или не подходят для «розыскных дел», подчеркивая, что секретари возглавляли следствие.
Рядовые сотрудники носили звание канцеляристов, среди которых иногда выделяли протоколистов (ведущих протоколы), архивариуса, регистратора, актуатора и т. д.
Младшие сотрудники носили звание подканцеляристов, а самые низшие – копиистов.
Внутри приказа чиновники вначале делились на повытья; позднее стал использоваться термин экспедиция, иногда включавшая несколько повытий. В конце деятельности Сыскного приказа (1761 г.) существовало разделение на четыре экспедиции, которые включали тринадцать повытий. Все эти подразделения назывались по фамилиям своих начальников, то есть специализация по расследуемым преступлениям отсутствовала. Обычно два повытья возглавляли секретари, остальные – канцеляристы, иногда носившие особые звания (например, протоколист или правящий секретарскую должность).
По своему происхождению и статусу чиновников сыскного ведомства можно смело отнести к группе разночинцев – здесь были и дворяне, и дети священников, офицеров (не имевшие личного дворянства), горожан и т. д. Иногда канцеляристов наказывали плетьми, после чего они продолжали свою службу.
Заметим, что соотношение различных категорий сотрудников серьезно колебалось, да и должности то появлялись, то исчезали. Это позволяет говорить о том, что внутреннее разделение сотрудников регулировалось только волей начальства.
С появлением Розыскной экспедиции численность сотрудников упала почти вдвое. С учетом расширения ее задач относительно Сыскного приказа и сохранения его методов вряд ли это способствовало сокращению сроков расследования, стремление к которому послужило официальной причиной замены Сыскного приказа на Розыскную экспедицию.
Также в составе приказа числились нижние чины. Во главе последних стоял сержант, у которого был свой заместитель (вахмистр), которому подчинялись сторожа (обычно шестеро), один-два тюремных старосты, следившие за порядком в тюрьме Сыскного приказа, отвечавшие за поддержание порядка, содержание ключей и т. д. Кроме того, к нижним чинам относились рассыльные (курьеры), обычно 6–10 человек.
В распоряжении приказа в качестве временного караула находилась группа солдат с офицерами. Обычно их было около сотни и более (до полутора сотен) человек. Их использовали для караульной службы, а также для задержания. То есть, как и полиция, приказ получал в свое распоряжение военных, которые подчинялись ему на время дежурства.
Дела, которые расследовал Сыскной приказ, официально делились на интересные (то есть связанные с интересами казны) и неинтересные (связанные с делами поданных).
Важным основанием для возбуждения дела выступали царские указы, а также премории и доношения (то есть документы) других ведомств. Но чаще всего дела заводили на основании явочных челобитных (то есть письменных заявлений), реже по устным заявлениям (которые также оформлялись письменно) и в случае задержания преступника на месте преступления. Существовал институт доносителей, то есть лиц, заявлявших о преступлениях, не будучи в них замешанными. Истцы сами могли задержать подозреваемого (например, крестьяне вора или дворня по указанию помещика) и доставить его в приказ.
Челобитные подавали либо в Сыскной приказ, либо в другие органы власти – съезжие избы, контору полицмейстера, Судный приказ, откуда пересылались в Сыскной приказ. Челобитчиков расспрашивали о сути дела, причем во время таких расспросов их могли и пытать. Если челобитных не было, то задержанного отпускали, даже если его задержали на месте преступления. В челобитной следовало описать не только обстоятельства преступления, но и украденные вещи с указанием их стоимости. Если их обнаруживали у преступников, то их возвращали хозяину или выплачивали ему их стоимость за счет преступника, конечно, если у последнего были деньги. Если речь шла об убийстве крепостных, то убийца или владелец убийц (если последние были крепостными) должен был вернуть владельцу их стоимость или предоставить других, то есть собственных крепостных на замену.
Задержанных содержали в остроге (при Сыскном приказе) за счет челобитчиков, которые должны были оплачивать их содержание, то есть питание и гербовую бумагу для ведения дел.
Характерно для того времени, что если истец прекращал платить деньги, то задержанного по его делу могли и отпустить, то есть дело прекращалось, даже если имелись серьезные доказательства по делу.
Понятно, что далеко не все челобитчики имели возможность и желание регулярно взаимодействовать с приказом, осуществляя оплату, отвечая на вопросы и т. д. Поэтому группы людей (например, деревенская община) обычно нанимали (или выбирали) депутата, а обычные люди использовали поверенных. Такой специалист получал «верящее письмо», то есть доверенность. По своим функциям эти поверенные были аналогом современных адвокатов, но, в отличие от последних, не имели официального статуса и связанных с этим прав.
У богатых дворян в число дворни часто входили стряпчие. Они отвечали за оформление документов и взаимодействие с властями, в том числе выступали и в качестве поверенных. Чаще всего такие стряпчие тоже были крепостными, хотя и занимали в составе дворни высокое положение.
