Бурятская родовая сага. Из дневников хори-бурят
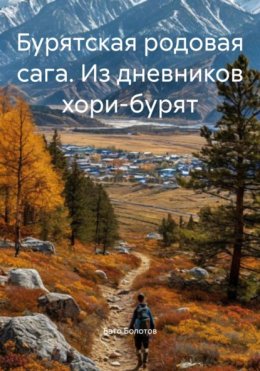
Посвящаю дочери Эржене,
внукам Рустаму, Бато и Бэлигто
Пролог
С возрастом сны приходят все реже. Если что и приснится, к утру стирается из памяти, как небыль. Всплывают лишь туманные очертания видений, словно размытые дождем натюрморты, с человеческими фигурками вдали, неряшливо писаные гуашью. Говорят, сюрреалистичные сны приходят к людям, испытывающим душевные и эмоциональные переживания, или кого детство не отпускает.
Но меня до сих пор не касалось и ни то, и ни другое. А тут сон о далеком-предалеком детстве. И как бы все происходит наяву, прямо сюрреализм на самом деле: и лица, и пейзаж, и старинная песня, как в детстве – и было, и одновременно не было как бы.
… Мы с бабушкой собираем землянику. На высоком берегу реки Тура, на опушке леса есть полянка, где из года в год, удивительно плодовит урожай үльзөөргэны.
– Ягоду үльзөөргэны русские называют земляникой, – тихо рассказывает бабушка, пока мы ползком, вглядываясь в травянистые заросли, выискиваем красненькие ягодки.
– Оттого, что растет на земле?
– Да-да, земля кормит нас.
– Бабушка, үльзөөргэны звучит красиво, а слово «земляника» как-то не вкусно…
Бабушка улыбнулась и сказала, что есть такая богиня, зовут ее Ника, жила она далеко-далеко, в Греции, и вот эту ягодку назвали Богиней Земли, то есть земляникой…
Мне понравился рассказ бабушки о землянике. Особенно сказ о богине, выдуманный бабушкой, часто улыбался в жизни, вспоминая этот эпизод из детства.
Потом не громким, красивым голосом, напевает: «Урдахил агу гоё оройдоо, уханш эшэтэй жэмэслэй, узуураа дуурэтэр урганалдай, урагшашь-хойшошь наганалдай…» («На пречудесненькой полянке, несусветно ароматные ягодки, на земле они рясно растут, нагибаясь и вперед, и назад»). Мне чудится, чем нежнее она поет, тем больше ягод появляется на нашем пути. Ненадолго прерывая песню, бабушка рассказывает то, о чем я впервые слышу:
– Земля, малыш мой, это наш Бог, и называем его Дэлэхэй дайда, это как мать для человека. А небо – Тенгэри – наш отец, и каждый человек в мире почитает и лелеет вечное синее небо и богатства родной земли…
Мне кажется, весь мир застыл, Дэлэхэй дайда вслушивается в эти загадочные мелодии, и в этот приглушенно-мелодичный голос.
– Бабушка, пой громче, – прошу.
– Душа песни теряется, коли громко поешь, не нужно нарушать покой Дэлэхэй дайда и Тэнгэри, – сказывает она. – Вот, видишь, бабочка, порхает не слышно, зато красиво, любуемся ею, а назойливые комар или оса громко жужжат, и… жалят.
Бабушка все напевает и напевает воздушно-сказочные бурятские напевы, и под эту песню я уже заполнил берестяной туесок. А совсем рядом, шагах в двадцати, внизу, у ручья, во мху, увидел голубику. И поморщился, вспомнив сахаристо-кисловатый привкус этих ягодок, положишь на язычок, слезки наворачиваются.
Бабушка, увидев набухшие слезками глаза мои, удивилась: «Так тронула тебя песня?!»
И вправду, на глаза мои, от этих неслыханно красивых, словно нашептываемых, напевов, накатываются слезинки. Они прерывисто, по капельке, катятся по щеке, и бабушка, сняв цветастый платок с головы, утирает солоноватые, малюсенькие слезинки…
– Не плачь, мальчик мой, – шепчет бабушка. И тут же сама утирает уже свои слезки. – Плачешь, значит есть у тебя глубинная душа, сердце лебедя, вырастешь неравнодушным, хорошим человеком.
Сквозь слезы я все смотрю на голубику, она неподалеку, ближе к ручью, которая втекает в Туренку. Она еще беловато-зеленоватая, но ягоды так много, что кустики нагибаются к земле.
Бабушка ловит мой взгляд, и рассказывает: «Дней через двадцать придем, наберем голубицы. Ягодки станут пунцово синенькими, и вкус у них будет божественный…»
Сидим, отдыхаем. Бабушка налила из березового туеска еще не остывший чай, протянула мне завернутые в платок лепешки. На них мажем погустевшую, маслянистую сметану.
Вкусно!
– Ты, внучек, смотри внимательнее на природу, она, как умная книга, открывает перед тобой все тайны Дэлэхэй дайда и Тэнгэри. Вот, видишь, чем глубже река, тем тише она несет свои воды. Тура река глубокая, ее и не слышно вовсе, а вот рядом ручей – журчит и журчит, нет покоя от нее. Так и человек, чем умнее, тем немногословнее.
Я прислушиваюсь к ее словам, понимаю.
– Почему вопросы не задаёшь? Смотри мне в глаза, по взгляду увижу, согласен со мной или нет?!
Я киваю в знак того, что слышу и понимаю ее.
– Я ем, хугшэн эжи (бабушка, с бур.), ты сама учила, кушай молча…
– Ах ты… Да, говорила…
– А что значит, учиться у природы? – спрашиваю.
– Ну, примеров много… Вода в реке, когда на ее пути встают валун или дерево, огибает эти препятствия. Значит, нужно учиться обходить препятствие…
– А это, как, бабушка?!
– Чтобы обойти препятствие, вода набирает силу, поднимается выше, или обтекает, но продолжает свой путь…
– Я видел, возле камня или большой коряги, пенится вода, воронки образуются, сердится вода, когда ей не дают свободный путь…
– Молодец, глаз-алмаз, наблюдательный…
Бабушка молчит, пристально всматривается в меня, гладит по головке.
– Мы, буряты, тоже похожи на воду.
– Бабушка, а как это?!
Она увидела в моих глазах неподдельный, интригующий интерес, улыбнулась уголками губ:
– Наши семьи, когда наступает весна, словно талая вода, растекаются по степи со стадами овец, табунами лошадей, гуртами коров и быков, как в наводнение, шумно, напористо… А к зиме, словно река во время шуги, накрываемся шубами, у овец нарастает шерсть, и стекаемся тихо, без шума, гомона, обратно в места зимовок. Наши мужчины, когда делают загоны на волков, или охотятся, шумно и бурливо, как вода на перекатах, растекаются, с криками, гомоном по таежным буеракам. Потом, учуяв зверя, затихают, целясь… Это похоже на весенний паводок, течет шумно, говорливо, а достигнув берега, успокаиваются…
Наверное, смотрел завороженно я, она снова погладила мою прическу, приласкала.
– Внучек мой! Природа мудра, она прекрасно обустроила земную жизнь. Поэтому научись постигать Дэлэхэй дайда и Тэнгэри, учиться ее премудростям… Вода бесцветна и прозрачна, нет запахов, мягче воды нет ничего на свете… Кажется, она слаба сама по себе, но ведь без нее не будет жизни… Река Туренка наша, неутомима, течет себе и течет, досыта напоит жаждущих, дает жизнь всему живому на своем пути… Если грязь в дождь, она помутнеет, но тут же муть на дно уйдет.
Время от времени бабушка замолкала, наверное, подбирая слова и образы:
– А ведь вода очень могуча и сильна, посмотри, камешки на дне речки, гладкие, округлые, это вода их отшлифовала. Еще, видеть во сне чистую воду – это хороший знак. Учись у природы, и тогда в жизни любые преграды преодолеешь, Дэлэхэй дайда и Тэнгэри учат жизни, преодолению препятствий на твоем пути, ведь жизнь – это и страдания души и тела, через них приходят радость и счастье.
Бабушка любила рассказывать интересные истории, но в этот раз была очень красноречива:
– У природы много невзгод, то морозы и снега, то жара и засуха, случаются ураганы и наводнения, то ночи длинные, а дни короткие. Словно Дэлэхэй дайда и Тэнгэри испытывают свое дитя – человека, чтобы он учился преодолевать любые невзгоды. Трудности закаляют нас, и тебя они закалят. Если трудно идет учеба по математике, это не повод стыдиться, или говорить, что ничего не можешь, ты бессилен. А, наоборот, возьмись за учебу, вечерами и в выходные учи правила, решай все новые и новые задачи. Заставь себя работать… И ты увидишь, успехи придут…
– Даа, бабушка! А я смогу так?!
– Сможешь! В этом и есть смысл жизни – работать, трудиться, чтобы получить радость …
– Работать, чтобы радость получать?!
– Да, мой хороший. Ведь после трудной работы, приходит время отдохнуть. Это и есть радость. А если ничего не делаешь, то и радости нет…
– Если бы мы не трудились с тобой, и ягоды бы не насобирали, так ведь, хугшэн эжи?
– Да, так и есть…
Мы сидели в этом райском уголке природы, и всё, что говорила бабушка, оставалось в моем сердце, в памяти.
С возрастом ее уроки жизни меняют краски, смыслы, эти воспоминания стряхивает пыль с души.
Я четко запоминаю ее слова, ну, их смысл.
– Не верь тем, кто чересчур тебя хвалит.
Я, видимо, с удивлением поднял на нее глаза, тогда она вновь повторила:
– Да-да… похвала бывает зачастую лживой. Иной человек льстивыми словами окутывает тебя. Остерегайся таких, они не искренни.
– Папа часто хвалит, и что теперь?
– Родные – другое дело, они от всей души говорят… Но было бы лучше, если с тобой говорили, как со взрослым…
– Как ты, баба?
– Не знаю…
Тут просыпаюсь… Не могу понять, что со мной… Почему-то слезы на глазах… И вдруг вспоминаю давнишний, тихий, словно из какой-то прошлой жизни, бабушкин голосок:
– Слезы во сне, не плохой знак, больше к добру, к неожиданной встрече…
Все еще лежу, проснувшись, а воспоминания захлестывают память.
– А по-русски эту же песню можешь спеть? – спросил бабушку я тогда.
– Песня бурятская, и петь нужно на родном языке. Душа такая у песен…
А еще бабушка несколько раз рассказывала легенды о Бальжин хатун, бурятской княжне, предводительнице хоринских бурят, героине народа. Иной раз, вспоминая бабушку, думал, кто она, красивая и сильная бурятская женщина Бальжин-хатун.
В памяти народа сохранено ее имя, есть Бальжин нуур, недалеко от святых гор Алханая – Бальзинское озеро. Именно из этого озера начинает свой путь река Тура, несет она свои воды в долине между Даурским и Могойтуйским хребтами. Длина реки не большая, лишь сто километров, словно отсчитана километрами человеческая жизнь, это как бы ее век. На берегу той реки, в полустах километрах от озера, мы и собирали үльзөөргэны.
Много позже, через десятки лет, вспомнив рассказы бабушки, раскрыл для себя тайны той легенды о Бальжин хатун.
В детстве думал, что Бальжин-хатун похожа на мою бабушку, смелую, красивую, умную – потому и запомнилась легенда.
Хатун – дочь Тогон Тyмyр-хана, так писал Цыбен Жамсарано. Другой хан, Бyбэй Бэйлэ, имел сына-наследника – Хун-тайжи. Ханы женили молодых, породнились, так часто бывало в те времена.
Бальжин-хатун была горделивой, своенравной бурятской красавицей. Не ужившись с мачехой своего мужа, уговорила супруга откочевать из Монголии со всеми своими подданными, к одиннадцати отцам хоринских бурят, за реку Онон. Бальжин хатун и муж Хун-тайжи построили крепость в Забайкалье и жили, не отбывая никаких повинностей. Имя дали своему новому племени – хори хyхy тyмэд (хори синие тумэты).
Тем временем мачеха говорила мужу Бyбэй Бэйлэ: «Барствуют твои молодые, никаких повинностей не несут. А про меня ходит молва, будто я сослала твоего сына и невестку в почетную ссылку. Ты, если настоящий хан, обуздай их. Приведи к себе, а если нет, меня отправь к родителям, разведемся!»
Бyyбэй Бэйлэ послушался жену и приказал, чтоб сын явился к нему.
Бальжин-хатун, завидев вооруженную сотню тестя, поняла сразу, в чем дело, бросилась бежать к своим родственникам. Тем временем ее мужа, Хун-тайжи поймали, увезли к отцу в Маньчжурию.
Воины Буубэя пустились в погоню, перестреляли охранников Бальжин-хатун, а потом стрела маньчжуров догнала и ее лошадь. Не растерялась бурятская княжна, что есть силы, бежала от вражьих воинов. Чтобы легче было, гласит легенда, Бальжин-хатун отрезала себе груди и бросила в предгорьях святого Алханая. Но все равно маньчжуры догнали бурятскую княжну, истекающую кровью, доставили к хану Буубэю, который распорядился казнить непокорную и гордую княжну, как зачинщицу родового восстания.
Отец Бальжин-хатун, Тогоон Тyмyр, в связи с этими событиями, потерял царство, был побежден маньчжурским ноёном. Потому-то так смело и жестоко обращались с его дочерью.
С тех пор в том месте, почти у подножия святого Алханая, образовалось озеро и буряты дали имя водоему – Бальжинын хатан Сагаан нуур Тура гол дэрэй.
По версии летописцев, после таких событий, хори-буряты добровольно приняли русское подданство, даже сами воевали с маньчжурами. В бурятском народе бытуют легенды и сказания о хоринских богатырях Ажирай-бухэ, Бабжа-Барас-баторе, проявивших смелость в боях с маньчжурами.
Эти воспоминания окончательно вернули меня в реальность, и я вспомнил, кто-то и когда-то говорил, если снится бабушка, значит, она удовлетворена твоим жизненным путем. Я вновь вытираю слезинки, словно изгоняю сон.
Сон, как небыль, но здорово, что возвращает детство и дорогие черты любимых людей.
РИНЧА
Глава I
И тут запела «мобила».
Вздрагиваю.
Все еще жалею, что так и не успел спросить бабушку, что такое душа? Она иной раз умела находить необычные слова, говорила так, что западали в душу ее мысли. «Все хорошее, что случается, запоминай душою, – говорила она, – а плохое, пиши на воде».
Значит, наверное, забывай. Иногда вспоминаю эту ее заповедь и стараюсь следовать советам бабушки.
Часто в жизни приходилось спрашивать себя: «Что такое душа человека, душа песни, почему сердце и душа человека, подсказывают правильный путь в жизни, а знания, почерпнутые из книг, насколько бы они не были глубокими, всесторонними, это лишь знания, способны помогать в работе, но не всегда подскажут правильный жизненный путь…»
Ответы на такие вопросы я давно уже нашел, конечно, но бабушкины советы были бы умными, жизненными, не книжными.
«Мобила», наконец-то, замолкает. Но через мгновение снова запела. Поднимаю «трубу» и слышу:
– Пирвет, как дела?!
Да-да, вспомнил, правда, с трудом, этот голос, и искаженное от слова «привет». Это приветствие вернули меня в давние дни молодости. Это был Ринча – Ринчин Батадаев, мой хороший знакомый еще со времен молодости.
– Не удивляйся, к тебе приехал, персонально, стою возле твоего дома.
– Как?! – я в недоумении.
Не сказать, что были друзьями. Просто хорошие знакомые, товарищи, сблизившиеся еще в далекой юности, как коллеги в районной газете. В реале я не очень общительный, чаще говорю «нет», чем «да», не сразу иду на контакт с людьми. Они приходят и уходят. Кто-то лишь мелькнёт, а кто-то надолго задерживается в жизни. Но все они, так или иначе, оставляют след в жизни.
А приятельские отношения привык рассматривать как отношения без обязаловки. Типа «привет, пока, как дела?»
Меня очень удивил Ринча. К тому же я допоздна слушал Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», потом сопоставлял комментарии известных политологов и политиков – уснул лишь под утро. Этот ранний звонок ошарашил меня, прервал сон, все смешалось в голове – и сон, и бабушкина песня, эти слезинки, и Путинское выступление. Я с трудом заставил себя вернуться в реальность.
– Ну, что ж, поднимайся на мой третий этаж, жми кнопку домофона, моя квартира…
–-Я знаю номер твоей квартиры…
Мысленно подумал, прямо какой-то гэбэшник. Ну да, ладно. Уже звонок в дверь. Открываю.
И вот стоит он – Ринча! Я бы не узнал его, наверное, если встретил где-то в городе, случайно. Изменился: изрядно поредела густая шевелюра, лоб испещрен мелкими, короткими, морщинками. Нос, как перезревший помидорчик, чуточку раздулся, скрывая скуластость, убавляя щеки. При встрече с такими людьми знакомые неизменно подшучивают: «Ну, ты и выпить горазд! Опять нос красный».
Но Ринча, помню, никогда не увлекался этим, все в меру.
А вот глаза, глаза не изменились – остались, как и в молодости, бодрыми, улыбчивыми, смотрящими на тебя как-то въедливо и настырно. Эта игривая смешинка делала его взгляд добрым и располагающим. Только внешний край округлых, с густыми ресницами, глаз, испещренный мелкими морщинками, скрывал азиатскость, взгляд его глаз с зеленоватым оттенком становился чуточку европеидным, намекая на скрытую информацию о заблудших где-то, не чистых, генах. Но кого это удивляет в нашем Забайкалье?!
Одет слишком не серьезно – осень поздняя, а наряд почти летний: легкие туфли, поношенные джинсы, ветровка поверх рубашки, смешная кепчонка со словами «Байкал» на седой голове.
Закатил ему четверостишие:
А я иду в задиристой кепчонке,
Едва заломленной набекрень.
Как будто вновь спешу к девчонке
Вчерашний вспомнил день.
– Не глумись над фартовым мужиком, – сказал он, то ли по-дружески обнимая, то ли, подталкивая плечо в плечо в знак дружбы, а может это был жест извинения, что пришел так некстати. И он, как бы в ответ, начитал:
Я поправлю небрежно кепчонку,
В моросящий октябрьский денек.
На ладонь мне положит листочек
Девчонка, которой уж нет,.. – эти строки, наверное, написал сам, подумал.
Он разделся, аккуратно поставил на пуфик в прихожей желтый, скорее всего, из кожи, старенький, помятый, но очень большой, пузатый, портфель. И все что-то говорил и говорил.
Уже потом, когда он ушел в туалетную комнату, восстановил диалог.
– А что это у тебя за музыка такая на телефоне, шансон?
– Да, в исполнении группы «Монгол шуудан». Мне тоже нравится песня о Москве в исполнении Монгола, – сказал Ринча, вытирая руки. – Частенько крутят эту песню на Русском радио… Особенно эти, о Москве: «Да, теперь решено без возврата, я покину родные края. Уж не будут листвой крылатой, надо мною звенеть тополя…»
– Кажется, это Есенинские строки:
… Я люблю этот город вязевый
– Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах…
Ринча продолжал:
– А ведь в этой группе нет ничего даже близко монгольского. Просто русские ребята однажды в московском киоске «Союзпечать» увидели почтовые марки, на которых было написано «Монгол шуудан», что в переводе означает «Почта Монголии». Ребята искали для своего ансамбля звучное название, и не могли придумать ничего подходящего. А вот увидели в киоске журнал, и название, как говорят, шибануло. И прицепили журнальное название к своей группе.
– Ты, Ринча, сказать желаешь, мол, все монгольское в России, искусственно притянутое!? Не естественное? Ты принижаешь…
– Стоп, стоп! Нет, конечно…
– Но ведь интонация тебя выдала…
– Стоп, и еще раз стоп! Помню, ты в бой кидаешься сразу… Давай, поостынем… Ничегошеньки даже не намекаю… Просто выдал тебе факт, какой он есть…
– Ладно, понятно, – успокоили слова Ринчи.
Я слушал его и никак не мог понять, какая хрень затащила его ко мне, но не прогонять же, в самом деле, все-таки старинный товарищ, работали немного бок о бок.
– Ты знаешь, мы люди уже в возрасте. Иногда пытаюсь осмыслить свою жизнь, расставить прожитые годы как бы по полочкам. И тогда возникает ощущение, что смотрю на свою жизнь, как в окно. Только окно это чуднóе, похожее на огромную стену жизни с подвешенным на ней экраном телевизора. И экран этот схож с окном. Но за настоящим окном разворачивается реальная жизнь, а за нарисованным – старые, черно-белые, кадры кинохроники, отснятые Судьбой. Окно расположено далеко внизу, и смотрю на прошлое как бы с высоты прожитого, вижу всю прошлую жизнь, а люди там, внизу, меня не видят и не знают, что за ними кто-то наблюдает. А наверху огромное, синее небо, Тэнгэри, оно такое бездонное, бесконечное, вечное, притягательное в своей чистой голубизне и нет там ни скорби, ни ругани, ни ссор, никто никого не обманывает, не лжет – вечная чистота…
– А ты философ, – говорю. – И речь твоя грамотная, литературная, что ли, так в жизни не говорят. Ведь прав? – я смотрел прямо на Ринчу, выжидающе, почти не моргая, наверное, думал, что скажет, тогда, возможно, пойму, зачем он у меня.
– Знаешь, в последнее время много пишу, не знаю, как это назвать, воспоминания, что ли, нет, если точнее, это дневники, – начал рассказывать Ринча, усевшись на табуретку у кухонного стола.
Слушая, поставил чайник, осмотрел холодильник, желая понять, чем угостить гостя. Наверняка, он голоден, только с поезда.
– Так вот, когда пишу, чувствую, речь становится правильной, выразительной, ну, близкой к литературной, – как бы оправдывался Ринча за свою правильность. Потом хихикнул. Если это был смех, показалось, уж слишком натянут, искусственен, словно за ней скрывалась какая-то загадка.
– Тут я прослышал, занимаешься книгами, – посмотрел он вопросительно.
– В смысле? – не понял его.
– В том смысле, что пишешь книги…
– Ты неправильно информирован, редактирую перлы людей, желающих оставить свой след на земле. Перед изданием редактирую, вношу некоторые правки, уточняю факты, проверяю их, вот и все.
– Да ладно прибедняться, слышал, сам пишешь, а авторство…
– Не сочиняй, зачем это мне?! Если уж наступит такое желание – написать книгу, сам, наверное, возьмусь… Хотя, едва ли, я лень большая… К тому же, если писать книгу, нужна какая-то идея, идеальная причина, такая, чтобы по твоим книгам человечество, ну, может, хотя бы несколько десятков или сотен человек, нащупали, как нужно жить, чтобы меньше ошибаться. Если этого нет – пустая затея, неуважение к читателю. Причина должна быть достаточно веской, чтобы читатель не пожалел о потраченном времени. Значит, в книге должна быть какая-либо значимая идея, тема и смысловое наполнение.
– Тогда и мои перлы отредактируй… Вот, написал… нет… подготовил книгу… Привез тебе, как к редактору. В электронном и бумажном вариантах, – вдруг выпалил Ринча, словно долго ждал подходящего момента, чтобы сказать именно эти слова.
– Что-о-о-о, что?!
Моему удивлению нет предела.
Ринча вытащил из портфеля обыкновенную канцелярскую, пухлую папку, наполненную, наверняка, не менее, чем тремястами страницами. Угадываю количество страниц одним взглядом, много перевидел так называемых «рукописей» – хотя от руки уже давно не пишут, но отсканированный текст, все равно, по старинке, называем рукописью.
– А вот и флэшка… – у него был вид школяра.
Мне стало жаль его. «Все-таки, как он постарел», – подумал и тут же мысленно вздрогнул: «Наверняка, так же Ринча подумал и обо мне…»
С такими мыслями взял папку, флэшку и поставил на компьютерный стол в соседней комнате. Поймал себя на мысли, неужели в наши дни стало модным писать книги на старости лет. Тут же подумал: «И на хрена мне эта головная боль с его книгой, он сошел с ума…»
Но мои мысли разбились вдребезги, когда он вытащил 750-граммовую бутылку армянского коньяка Proshyan в филигранно выполненной, бежевого цвета, деревянной коробке. Я знал, такой коньяк двадцатидвухлетней выдержки, и стоит почти десять тысяч рублей. Но ни разу не пробовал – дорогой уж слишком.
Ринча выжидающе смотрел на меня. Сделав вид, что в этом подарке нет ничего необычного, весьма обычным тоном произнес:
– Да, хороший коньяк, купажированный. Такой коньяк нужно принимать малюсенькими глотками с ароматным кофе.
– Но мы же простые русские парни, – возразил Ринча. – Давай, хлопнем сей напиток, как русскую водку.
Мне было, конечно, лестно получить такой подарок. Где-то читал, подобный купажированный армянский коньяк создают по классической технологии из отборных спиртов, более двадцати лет выдерживают в дубовых бочках в погребах винодела Прошяна.
– Кстати, скоро имя «армянский коньяк» уйдет в историю, будет «армянское бренди»… Так решили французы.
– Да, читал…
– Но и французский коньяк под давлением… Из-за пресловутых санкций Китай прекращает импорт из Франции коньяка, а теперь и в США, видимо, золотым станет… А считался ведь у советских мужиков божественным напитком…
К тому времени, на скорую руку, сварганил макароны по-флотски.
– О-о, как быстро. А где супруга? – настороженно спросил Ринча.
Он слышал, видимо, о крутоватом нраве жены, впрочем, как и многих жён, поэтому, видимо, остерегался.
– Репетиторством занимается, не скоро придет, – успокоил его.
– Ну, давай, накатим… Вспомним былые годы…
Хрустально толстые, с коньячным переливом на гранях, еще советские, рюмки заранее положил в морозилку, туда же сунул бутылку коньяка. Теперь вытащил.
– Ну, Ринча, коньяк, да еще армянский, купажированный, да к тому же по-быстрому… Не смеши меня…
– А ты зачем рюмашки в морозилку клал?! – этот вопрос натолкнул меня на мысль, что Ринча, видимо, подзабыл наши молодые годы.
– А ты вспомни Фадеева, коррТАССовца, помнишь, он говорил нам, не водку охлаждай, а рюмка должна быть ледяной…
– Да-а! Вспомнил! Хороший был мужичище! Такой же совет давал Дмитрий Бальтерманц, фотокорр «Огонька», помнишь, заезжал в редакцию…
– Он еще говорил, водка хороша под жирную селедочку с рассыпчатой картошкой и не любил закусывать котлеткой…
– Еще советовал перемалывать соленое сало на мясорубке с зеленью и чесноком, и всю эту хренотень намазывать на черный хлеб… Вкуснотища после рюмашки!
– А помнишь, приезжал корр «Правды» Валерий Орлов вместе с телевизионщиками программы «Время», они рассказывали, водка вызывает дефицит глицина…
Такие воспоминания грели наши души, всколыхивали сердца и армянский коньяк казался не таким уж и крепким.
– Приехал к тебе потому, что знаю – ты в хорошей форме. Имею в виду, в творческом отношении. Следил за твоими публикациями в газете. Еще прочитал несколько книг, изданных с твоим литературным участием. Ринча продолжал говорить, а я никак не мог понять, к чему он клонит.
Коньяк, конечно, превосходный. Но очень крепкий, черт возьми. Вкус, конечно, элегантный такой, приятный, можно сказать гармоничный. Но макароны по-флотски сразу же отрубали этот божественный привкус. Подумал, уж лучше бы водочки..
– Э-э, дорогой, да ты никак мыслями далек от нашего стола, – вернул в реальность Ринча. – Путинскую речь, чувствую, «пережевываешь» на пленарной сессии двадцатого Валдайского дискуссионного клуба? Слушал я эту речь ночью в поезде, на длинных волнах российское радио транслировало. Не парься, главный смысл его речи – это просьба к сообществу жить по- совести и справедливости.
– Ринча, откуда знаешь, что слушал Путина?!
– Знаю. Не пропустишь такое событие, ведь ты был, кроме всего прочего, лектором-международником…
– Ладно, Ринча. На мой взгляд, Путин на весь мир сказал, что западная цивилизация вскормлена за счет ограбления всей планеты, бесконечной экспансии, анголосаксы грабили и грабят природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим.
– Обрати внимание, – Ринча не удержался, – Путин сказал, что этот пидараст-гегемон в лице США и Европы принуждают весь мир жить по его правилам, не признавая международное право, суверенитет стран…
– Он так и сказал, что это чушь какая-то, дурь, жить по «правилам», придуманным америкосами и их сателлитами…
– А мы, Россия, имеем право так говорить?! – Ринча, словно засомневался в словах Путина.
– Да! А как иначе?! Россия представляет собой особый мир, включающей черты культур как Запада, так и Востока и вместе с тем отличающейся от той и от другой. Северная цивилизация, как говорят сегодня…
– Так то, оно так, но все же…
Пришлось перебить Ринчу, еще начнет этого Пелевина цитировать, тоже нашел «философа».
Но Ринча схватил сматрфон, стал лихорадочно что-то там выискивать.
– Ааа, вот, нашел! – Ринча почти закричал. – Вот, читай, что Путин говорит. Читай, читай.
Мне пришлось, немного сбиваясь, прочесть выдержки из речи Путина:
– Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но её нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве… Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Мы будем жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания…
Ринча молча смотрел на меня, я – на него. Он чуточку ухмыльнулся, мол, коньяк дает о себе знать, язык чуток спотыкается. Чем больше старался говорить чётко и уверенно, тем сильнее начинал запинаться. Тем не менее, мы только сейчас начали понимать, Путин простыми словами объяснил миру сложные и коренные культорологические, философские, исторические понятия, веками выстраданные российскими народами.
– Да, Россия имеет право говорить от лица мирового сообщества, в нашей стране есть тот самый клубок, скальп если не всей мировой культуры, то подавляющего большинства, и христианство, и ислам, и буддизм, – словно утверждаясь в правоте нашего президента, – говорю я.
– А еще шаманизм! – вставил Ринча.
Мы расхохотались, словно были представителями всех этих религий и культур.
– Давай, за это и выпьем!
Наверное, в нас было что-то анекдотичное и комичное, говорим о высоких понятиях, философских, можно сказать, о цивилизационных процессах, а сидим где-то в далеком Улан-Удэ, городе, которого на картах мира и вовсе не увидишь, большинство населения нашей планеты даже не знает, где находится наш городок, более семи миллиардов людей не имеют даже малейшего представления о двух стареющих бурятах, которые, выпив по две рюмки коньяка, рассуждают и о мире в целом, и о мировых элитах…
Но мы не боялись быть уличенными в невежестве. Ведь нас еще в советское время научили строить наукообразные фразы, говорить птичьим, близким к научно-философскому, затемняющим истинный смысл вещей, языком, а также эзоповым, которым говорили партийные боссы. Так нас коммунистическая партия воспитывала.
Тут Ринча говорит:
– В отличии от западенцев, россиянин не любит обогащаться, у нас нет золоченых унитазов и ванн, наши жизнь и быт в большинстве просты, обыденны…
– Мы любим комплексные обеды, – расхохотались мы.
– Но почти каждый россиянин философствует, ищет себя, свое место в мире. Мы постоянно удивляемся, почему так, а не эдак, почему запад жирует, а мы все не можем их догнать. А удивление, как говорил Аристотель, служит началом философии. И такая Россия, может стать одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто стремится к миру…
– Ты почти по-путински излагаешь свои мысли, – улыбаясь, делаю замечание…
Тут мне показалось, мы, наверное, похожи на двух словоблудов, для которых самые банальные идеи, переведённые на философский жаргон, способны приобрести кажущуюся значимость и весомость.
Это, видимо, заметил и Ринча, но по-прежнему говорил и говорил. Мы опустошили уже половину коньяка и это не могло не сказаться:
– Это в традициях русской пассионарии – призывать жить по совести и справедливости. Я тебе расскажу одну историю, которую мало кто даже из историков хорошо знает. В селе Турино-Поворотное Карымского района, это Забайкальский край, переночевал с шестнадцатого на семнадцатое июня одна тысяча восемьсот семьдесят первого года Цесаревич, великий наследник Российского Престола, будущий Николай Второй. Не просто проехал, а останавливался на ночь, встречался с представителями бурятской нации. До Нерчинска он следовал на пароходе, сначала по Амуру, потом по Шилке, затем ехал в экипаже, запряженной шестью… или восемью лошадьми. Цесаревич был величиной, сравнимой, наверное, только с секретарем ЦК КПСС. Кстати, Брежнев тоже здесь проезжал по пути во Владивосток, говорят, ему из окна поезда показывали то самое место…
Среди радушно встречавших Цесаревича была и моя бабушка Дарбушиха, представительница рода хуасай.
– Рода хуасай?! – воскликнул я. – Погоди, погоди, Ринча… Рода хуасай? И моя бабушка тоже из рода хуасай…
– Да мы с тобой родственники, внуки бабушек из рода хуасай!
Мы соскочили, обнялись, долго хлопали друг друга по плечу.
Тут я безнадежно испортил наши обнимашки:
– Если покопаться, то каждый бурят буряту родня… Нас мало, всего лишь полмиллиона.
Но этот факт не обескуражил Ринчу, он пытался сказать все, что знает о древнем бурятском роде хуйсай:
– Род хуасай происходит от меркитов. Меркиты времён Чингисхана делились на Хуас и Удуит. Впоследствии часть меркитов вошла в состав бурятского племени хори, сохранив название своего подрода.
– Есть еще одна гипотеза, что хаусай происходит от слов хуа, который означает красноватый цвет, охристый… Правильнее будет хуасэ, – вставил я. – Но доподлинно неизвестно происхождение слова…
Меня прервал Ринча:
– Неизвестно… Как, впрочем, и об остальных бурятских родах. Но могу предположить, что хуасайцы – это тюркские племена, присоединившиеся к хоринцам. Хуасаевцы живут на том же месте, где и кочевали меркиты, а кочевали они по Селенге…
Потом Ринча продолжил, после некоторой паузы, видимо, надеясь, что его мысли подхвачу и я.
– Мы не историки, конечно, но нужно помнить, что Хоридой – предводитель хори-туматов. У него было три жены, одна из них Шаралдай, красавица, белоликая, она родила пятерых сыновей, один из них Хуасай, вот он то и стал основателем рода хуасай…
– Хубдут – это тоже меркиты, – вставил я. – Мой отец из рода улаалзай хубдут. И я предпочитаю считать себя хубдутом, по мужской линии.
– Если ты хори-хубдут, должен знать… Хори еще в шестнадцатом веке жили во внутренней Монголии. Они шли из Наи Нава, остановились было там, но потом ушли оттуда – почитай сказание о Бальжин-хатан…
– Не так все однозначно, есть различные версии..
– Да, ладно, не в этом дело… Слушай, – говорил сосредоточенно Ринча, – мы говорим с тобой о своих бабушках. Они оставили неизгладимый след в твоей и моей жизни.
–Да, конечно…
– Думаю, бурятам нужно возродить, как в царские времена, бурятские женские гимназии… Именно женские! Девочек учить отдельно от мальчиков. Помимо классического образования, давать им прочные знания по бурятскому языку, о наших традициях, обычаях бурятского народа, разучивать бурятские песни, сказки… Девочки – будущие мамы, бабушки. Они воспитают настоящих буряток и бурятов…
Мы удивленно посмотрели друг на друга. И вправду, хорошая идея. Но я заинтересовался рассказом Ринчи о Цесаревиче и попросил продолжить прерванный его монолог:
– Она и рассказывала, в чистом поле вблизи реки Ингода построили юрточный городок, в центре которого для Цесаревича поставили юрту из десяти раздвижных стен с полным убранством. Построили трибуну для зрителей, буряты состязались в борьбе, организовали конные скачки, игры, борцовские ристалища, стреляли из бурятских луков. Борцы оделись в темные шаровары, голенища закатали выше колен, боролись по пояс с голыми торсами, а лучники одели летние дыгылы из китайского шелка. Волшебное, почти сказочное представление организовали ламы: они тянули за длинные ремни колесницу, впряженную в самодельного слона. Слон почти как живой. Колесница окружена музыкантами дацанского оркестра, мелодии которого покрывались ревом огромных труб ухэр-бурэ, якобы подражающих голосу небесного слона. Процессию охраняли вооруженные нагайками ламы, свирепо отгоняющие злых духов, осмелившихся приблизиться к колеснице. Это зрелище очень понравилось Цесаревичу, он долго аплодировал ристалищу. Цесаревича встречали хлебом-солью, было много знамен, словом, торжество закатили… охренеть можно. Так вот, Цесаревич, когда закончил церемонию награждения бурят и сфотографировался с ними, сказал:
– Благословляю вас жить в мире и дружбе, жить по-совести и справедливости…
– Ты хочешь сказать, русские цари повторяются?!
– Конечно, – распалялся Ринча. – Если раньше духовные скрепы означали православие, самодержавность и народность, то теперь такой идеологии нет, но мантра «жить по совести и справедливости» осталась…
Ринча, спонтанно закончив монолог, показалось, призадумался, но вдруг продолжил речь:
– А не хватает нам, нынешним россиянам, нравственности. Ведь это так просто – быть нравственным. Помнишь, у Соловьева есть изречение, помнишь?! Он под нравственностью понимал стыд, жалось и страх Божий. Я и бросил-то коммерческие свои дела из-за стыда, рядом со мной, на одной улице, живут бедные семьи, не нищеброды-алкоголики, а великие служители народа – учителя, врачи… И вот мне стало стыдно, имею магазины… словом, жирую… Нужна государственная идеология, как при коммунистах, человек человеку…
– Ты отстаешь, Ринча, – перебил его. – Идеология по Конституции запрещена…
– Тогда нужно вложить идеи нравственности в национальную русскую… Хотя сегодня она пока не найдена…
– Имеешь в виду духовные скрепы?..
– А бурятская идея?! – я смотрел на Ринчу, надеясь услышать что-нибудь новое, оригинальное… Ринча насмешливо посмотрел на меня:
– Умеешь ты уводить от скользкой темы, большевистский пропагандист и агитатор!
Я пропустил его слова мимо ушей:
– Мы живем в России… Обрусели, русская национальная идея, пожалуй, станет и бурятской идеей… Мы, наверное, стали больше носителями русских идей, нежели бурятских… Мы все дальше и дальше уходим от монгольского мира, – неуверенно сказал Ринча.
– Дело не в том, уходим мы куда-то или нет… У нас нет внятных смыслов, идей, даже призыв о возрождении бурятского языка не находит массового энтузиазма в народе, – утверждаю, а Ринча смотрит изумленно на меня, словно впервые меня видит…
– Да ты, оказывается, националист?!
Я не обращаю внимания на его восклицание.
– Буряты начали терять свою идентичность при советской власти. Помнишь, праздник Сагаалган, он был объявлен религиозно-националистическим, даже ехор буряты перестали танцевать, боялись, как бы чего не вышло. Мы в те годы, как затравленные волки, уверовали в то, что у нас не было ни письменности, ни многовековой культуры, мы забыли наши сказки и улигеры… А шаманизм вообще стали называть черной верой, шаманов называли угнетателями, эпилептическими мистиками и психопатами, их, как и лам, внесли в списки вредоносных элементов, лишили избирательного права и даже расстреливали… Даже веру нашу, буддизм, коммунисты поставили вне закона, а старшего брата моего отца, дядю Ширапа, большевики расстреляли, потому что он был ламой!
– Кстати, ведь и моего дядю-ламу тоже расстреляли в Нерчинске, – с горечью молвил Ринча. – И в этом снова схожесть наших с тобою судеб… Здесь дяди расстреляны, как враги народа, а там – бабушки нас с тобой воспитывали достойными людьми…
– Слушай, Ринча, вспомнил… Как-то читал воспоминания Николая Поппе, членкорра Академии наук Советского Союза. Он был встревожен тем, как бурятский народ стремительно теряет свои традиции и обычаи…
– Ну и… – Ринча, по его виду, был недоволен, видимо, хотел продолжить воспоминания о дядьях-ламах.
– Так, вот, Поппе, встретив Ербанова в Москве, посоветовал ему старые обычаи и достопримечательности бурят-монголов сохранить, мол, оставьте, хотя бы один дацан, как историко-этнографический музей…
– Ну и что?! – Ринча торопил меня.
– Что, что?! – говорю ему – Ербанов не согласился с профессором Поппе: «Я не согласен», – был его ответ: – А лам мы держим в трудовых лагерях, где они настолько хорошо сохраняются, что вам не о чем беспокоиться!»
– Вот где, оказывается, берет начало западно-бурятская матрица, – выразил свое мнение Ринча.
–Да, если бы в те, тридцатые, к примеру, Бурятию возглавили просветители, выдающиеся деятели бурятского народа, типа Элбэка Ринчино, Цыбена Жамцарано, Базара Барадийна, сакрально, идейно, духовно наша республика, но и наш народ, конечно, могли выглядеть сегодня совсем по- другому…
– Ты всех агинских собрал, – съехидничал Ринча.
– Нет, почему же, Элбэк Ринчино баргузинский бурят, он, как ученый и литератор, чувствовал, бурятский народ может быть расколот, раздроблен, ведь культура, верования, менталитет у восточных и западных разнился… На имя Ленина он написал две докладные, даже был у него на приеме.
– А Ербанов?
– Да кто он такой-то?! Типичный большевик и революционер, никогда не был идеологом или лидером бурятского, монгольского национального движения, словом, революционный кружковец-искровец, воспитанный на пролетарских лозунгах… Установки и приказы большевистской партии были для него и религией, и эталоном мышления, действий. И подбирал в правительство себе подобных… Он и его так называемые товарищи могли с легкостью менять убеждения, взгляды. Как Москва чихнет, так и они дышали… Ну, словом, партийная узда для них первостепенна, а народ – вторичен… Практически все последователи ербановцев следовали этой логике почти до конца двадцатого века…
Ринча замолчал. Выпили еще грамм по двадцать-тридцать
– Твои Поппе, Ербанов, Ринчино… Нить рассуждения ты прервал…
– У бурят богатейшая история, такие великие традиции и обычаи, вера… Чего нам не хватает?! – Ринча был, кажется, взволнован. – Мыслить я разучился, что ли?! – словно злился он на себя самого. – У нас все политизировано, все пропитано политикой, ленинизмом этим…
– Еще скажи, марксизмом, с его «Капиталом»…
– А Ербанова напрасно ты так характеризуешь… Время было такое, революционное, а интеллигентскими рассуждениями новую жизнь строить было невозможно, растоптали бы сразу же.
Я уже вскинул руку, хотел высказать то, что копилось годами. Но Ринча поднял указательный палец, мол, не надо, не говори. Палец его дрожал, и рука тоже дрожала, лицо покраснело, желваки ходили, словно что-то жует и не может пережевать. Лишь через несколько минут, когда я подумал, уж не полезет ли драться, махаться кулаками, он с фантастическим спокойствием и выдержкой, начал свой еще один спитч:
– Бурятская идея не должна быть политизированной, нам нужна миролюбивая идея, пропитанная буддизмом, ее философией. При этом нужно суметь так связать прошлое с настоящим и будущим бурятского народа, чтобы у всех поколений были выстроены оптимистичные ориентиры, лишенные негатива родо-племенных кланов, местничества, кумовства.
– Да, ты прав. Рубцы старых ран залечить так, чтобы они навсегда исчезли, как и исковерканные большевиками судьбы людей… И разных Очирбатовых, ети их мать, публицистов хреновых, нужно обуздать, чтобы всякую чушь не писали, не будоражили умы…
– Кстати, о философии буддизма… Ее стержнем является учение о карме. Каждый бурят или бурятка обязаны знать, любое действие имеет силу кармы, все, что делаешь в своей жизни, переселяется впоследствии в твоих детей и внуков.
– А в Библии говорится, умерший освобождается от грехов…
– Но там же сказано: «Что посеешь, то и пожнешь!»
– Цель и той и другой религии – сделать людей счастливыми и не страдающими, но объясняют пути к этому разными словами.
– Буддизм ориентирует человека на самосознание, оно помогает тебе попасть в нирвану, сам и своей волей освобождаешься от этого, земного, мира… А христианин обязан поклоняться Богу, и через его, Бога, силу, достигать совершенства, или уходить в высший мир…
– Да, это так… Буддизм ставит человека во главу угла и утверждает, что на всё воля человека. А христианство занижает важность человека, утверждая, что человек – раб и грешник…
– Помнится, кто-то мне рассказывал, в одном святом месте в Бурятии, видел прикрепленные рядом две таблички. На одной были написаны десять заповедей христианства, а на другой – десять заповедей буддизма. По смыслу они были идентичны.
Дискуссия, кажется, заходила в тупик, разговор ни о чем, простая словесная эквилибристика, от того, нить и стержень спора теряется, как и смысл всех слов. И дело вовсе не в выпитом коньяке.
Тут Ринча, словно озарила его какая-то оригинальная, новая идея, или мысль, встал из-за стола, глаза его излучали оптимизм, энергию, даже восторженность. Таким я его еще не видел.
– А все просто, – начал он, нет у бурят настоящего лидера… Идейного, чистого, без коррупционного следа… Чтобы вокруг такого человека, прошедшего огни, воду и медные трубы, мог бы сплотиться народ.
Показалось, его мысль продуктивна. Авторитетная в народе личность способна ускорить решение каких-то назревших в обществе проблем, придать им не только импульс, но и создать нечто новое, кардинально изменить ход событий. И я затронул, наверное, больную тему народа:
– Сто лет назад среди нашего народа героями, акторами революционных преобразований стали Агван Доржиев, Цыбен Жамсарано, Элбэк Ринчино, Даши Сампилон.
– Да, – Ринча взмахнул рукой с поднятым большим пальцем, – конечно, каждый бурят знает их. Это их трудами, самоотверженностью на карте мира появились Бурят-Монгольская республика, Монгольская народная республика, Калмыцкая автономная область…
Сделав небольшую паузу, Ринча в задумчивости произнес:
– Но был и Матвей Амагаев, еще горстка так называемых оппозиционеров, которые опорочили их деятельность… Эти мерзавцы вынудили бурятских просветителей уехать из Монголии… В результате там был устроен геноцид бурятского народа, погибли десятки тысяч мужчин-бурят… Оттуда растут и зловещие корни панмонголизма, в результате которого, как писал Солженицын в своем «Архипелаге Гулаг», было расстреляно тридцать пять тысяч бурят-монголов.
– Да, весь цвет бурят-монгольской нации был уничтожен, в том числе восточный орел Михей Ербанов, страшная судьба постигла ни в чем не повинную девочку Гелю Маркизову, которая впоследствии стала узбечкой Мамлакат…
– И если такой лидер появится, ему нужно двигаться в русле проблем своего народа, а не против течения…
– Помнишь, лет сорок назад, у бурятского народа, независимо, где он жил и работал, в Аге или в Усть Орде, в Баргузине или в Джиде, большими авторитетами были Бальжинима Мажиев, Бадма Цыренов, Дамба Жалсараев, Даширабдан Батожабай, Владимир Саганов… Легенды слагали о них, а поступки и слова их обсуждались в народе.
– Да, у нас много замечательных людей… Уржин Гармаев, например…
– Ну, нашел ты, осколка народа, японского прихвостня…
– Почему прихвостня, народ говорит о нем, значит, личность…
– Без Уржина у нас много генералов… Борсоев, Балдынов…
– Добавь, казачий генерал Матвей Чойбонов…
– Именитых бурят много, конечно, не спорю…Но сегодня нет таких орлов, как Петр Жамсаранов, Михей Ербанов, тот же Мажиев… Ну, разве можно Вячеслава Мархаева сравнить с Ербановым?! Нет! Ради карьеры, политических дивидендов, он уступал и уступает… Или плести интригу, чтобы завалить, оклеветать, например, Алешу Цыденова… Все, что угодно… Вот Владимир Бараев, тот шел напропалую, но он не политик, не лидер народный…
– Да, ладно, не мы судьи, не нам определять, кто мог бы, а кто нет… И, в принципе, мы – не суперэтнос, нас мало.
– Вырастут у нас личности еще, нравственно безукоризненные, с чистыми помыслами, ораторы и вдохновители!
– Да и я тоже хотел об этом сказать… Нет внятных смыслов и ориентиров, мы дезорганизованы, все еще бодаются западные с восточными, нужно уходить от родоплеменного состояния, от различных землячеств.
– А ведь есть у нас богатая история, фольклор, поэзия, музыка, живопись, балет, великие скульпторы…
– Но все это богатство, этот кладезь как бы рассыпан, смотрите, любуйтесь. Все достижения народа, его богатства нужно объединить во что-то одно целостное, в одну конструкцию собрать…
– А как?!
– Как, как? Лидер нужен, человек-трибун, который бы олицетворял в себе весь народ, стал бы выразителем идей и чаяний всего бурятского народа. Такой человек сплотит народ…
– Как Ербанов?
– Не обязательно политик, это может быть человек, в чем то, схожий с Лхасараном Линховоин, например, или с Матвеем Чойбоновым, Даши Намдаковым… С такими талантами, который сможет перешагнуть через себя и стать трибуном, лидером нации.
– Да, чет мы загнули с тобой… Коньяк, кажется, дает о себе знать…
– Сегодня среди политиков, наверное, наиболее мощно и респектабельно выглядит Баир Жамсуев. Он один, кто шагнул в наше время еще из той, советской эпохи.
– Помню его, – вставил. – Помогал ему в выборах в Госдуму, но потом он вновь вернулся в Агу, оставив Москву, и выиграл выборы Главы округа…
– Знаю, знаю, Жамсуев думал, что ты сыграл на стороне этого Юры, сына бывшего прожженного партбюрократа…
– Да не был ни на какой стороне, бизнес крутил, не до выборов, не выдумывай того, чего не было…
Мы оба начинали, кажется, вновь кипятиться, возвращаясь в те годы. Но вспомнив о неожиданной рокировке Аюшиева с главы округа на министра финансов области, успокоились. В этом была загадка. Тогда Жамсуев вдруг бросил Москву и приехал в Агу.
– Я знал хорошо журналиста Витю Курочкина, главреда Читинской «Козы». Не знаю, это байка, или нет, но, по его словам, они втроем – Равиль Гениатулин и Жамсуев – жили в одной комнате в студенческой общаге, сдружились. И втроем делали карьеру, умные, харизматичные, пробивные, поддерживая друг друга. Курочкин стал депутатом Госдумы, Жамсуев тоже вслед за ним, стал федеральным депутатом, а Гениатулина Ельцин назначил губером Забайкалья, а потом он и сам стал избранным губернатором. Кстати, при содействии Гениатулина, Жамсуева пригласили в обком комсомола, когда он уже трудился преподавателем истории в степном селе Ортуй, в паре десятков километрах от места рождения Чингисхана – местечка Икарал на той, правобережной стороне великой реки Онон.
Но политическим долгожителем оказался среди них Жамсуев…
– Жамсуев тогда выиграл выборы, с перевесом в тысячу, или две тысячи, кажется, голосов. Соперники пытались всячески очернять его. Но грязь не липнет к чистой душе, народ выбрал Жамсуева, отторгнув сынка старых бюрократов, – вновь начал свой спитч Ринча. Он, кажется, не умел говорить коротко, длинные речи – это его хобби.
– Помню, как в аэропорту Улан-Удэ мы встречали Кобзона, он летел на юбилей Кима Базарсадаева. Но «Тушка» народного артиста запаздывала. Жамсуев понял, его команда заскучала, и он вытащил бутылку «Агинки». Нас было четверо, и мы ее, белую, натуральную, вмиг «раскидали», брызнув бурхану за благополучный прилет Кобзона. Я видел, в Жамсуеве нет нойонства, заносчивости, он естественен…
Пришлось прервать Ринчу, будет час говорить, не остановишь.
– Главный его секрет – это верность Забайкалью. Ему предлагали в Кремле стать начальником то ли Камчатки, то ли Чукотки, а улан-удэнские земляки видели его во главе Бурятии… И он мог бы выиграть. Но остался на малой родине, а после образования Забайкальского края, назначили сенатором. Теперь в Забкрае его знают и в городах, и в деревнях, его авторитет автоматически зеркалится на его коллег-бурят. В Чите, кажется, каждый третий-четвертый начальник – это бурят. Авторитет Жамсуева кроется еще и в том, что он не замечен в казнокрадстве, абсолютно чист. Поэтому в Чите люди совершенно четко понимают, бурят-чиновник и понятие казнокрад – это совершенно немыслимо, буряты честные люди, как сам Жамсуев.
– Это лишь слова, слова.. Но ты не сказал о главной мысли Баира Баясхалановича, которые он адресовал каждому буряту: «Когда начинают выяснять, кто лучше, хори, эхириты или сонголы, то это уже путь к вражде, раздробленности, которые будут сказываться на детях и внуках… Мы, конечно, разные, но мы – буряты, значит, мы один народ».
– Да, он прав стопроцентно! На самом деле монгольский, а значит и бурятский, мир, был велик, он простирался от корейского полуострова до провинции Найван, что в Ираке, в Верхнем Междуречье. Там жили долгое время хори-буряты, и называлась та земля Наи Нава. Сейчас там турки топчутся, мочат террористов…
Мы выпили еще грамм по пятьдесят. Ринча продолжил свой монолог:
– В молодости работал в газете «Бухоро хакикати», что означает «Советская Бухара». Подружился с корреспондентом Шухратом Батыралиевым, историком по образованию, зятем ректора тогдашнего Бухарского пединститута имени Серго Орджоникидзе. Однажды разговорились за кружкой пива, он поведал интересные факты. Например, в узбекском полуисторическом и полулегендарном сочинении «Маджму ат-таварих» было сказано, в этническом составе узбеков имеется род под названием «бурат».
– Это почему полуисторическом?
– Там исторические факты и даты переплетены с легендами и мифами. А писал это двухтомное сочинение мулла Сайф Ахсикенди в пятнадцатом веке. Я в то время собирался перевестись с журфака на восточный факультет, знакомился с преподавателями-востоковедами и мог предположить, что мулла, автор сочинений, вполне мог написать «бурат» вместо «бурят». Поэтому и ходил в библиотеку, собирал сюрприз преподам с «восточки» Ленинградского университета.
– Ты случайно, не в поисках ли следов этого племени приехал к нам?! – шутил Шухрат. – Когда уезжал из Бухары, он то ли в шутку, то ли всерьез, попросил отправить вырезки публикаций об Узбекистане… Он не мог не заметить, часто сижу в областной публичной библиотеке имени Абу Али ибн-Сины, интересуюсь историей.
Ринча трезвел на глазах. Во всяком случае, так показалось.
– У нас, бурят, вплоть до двадцатого века, устойчиво сохранялась родоплеменная структура. Принадлежность к роду пожизненна, передавалась только по отцовской линии от поколения к поколению. Родовые названия сохранялись на протяжении тысячелетий. Так вот, племя «бурят» могло оказаться там с войсками Хулагу-хана, внука Чингисхана. В середине тринадцатого века монголы снарядили тридцатитысячную военную экспедицию, чтобы окончательно подчинить себе завоеванные земли в Месопотамии. Согласно «Ясе» Чингисхана, тридцатитысячное войско состояло из отдельных племен и родов, значит, в нем были и хори-буряты… Кстати, этноним хори впервые упоминается в сокровенном сказании, до разделения монголов. Этот факт ничем невозможно опровергнуть.
– Ну, ты, Ринча, становишься исследователем-историком, – только и смог сказать.
– Дело в том, что государство кочевых узбеков начало формироваться в двадцатых годах пятнадцатого века, как раз в период распада Золотой Орды… И вполне могли затесаться среди них хори-буряты, как кочевники.
– Это, Ринча, очень примитивный взгляд…
– Не отрицай того, чего мы не знаем. Так вот, в генах хори впитаны огромные познания культуры и традиций народов Востока. Хори-буряты в те далекие времена по воле судьбы находились в узловом центре монгольского государства Хулагуидов, недалеко от всех ее столиц, на стыке между Ираном, Ираком, Сирией, частью нынешней Турции, которая называлась Румом, а также Арменией и Азербайджаном. Вот что такое земля Наи Нава, нынешняя провинция Ирака. Буряты в тринадцатом-пятнадцатом веках кочевали в верхне-месопотамской провинции Наи Нава, в предгорной возвышенности с хорошими пастбищами по берегам рек Тигр, Большой Заба и Малый Заба. И соприкасались с множеством других племен. Рядом с хори, по соседству, жили и воевали, как тумены войск монголов, и мангыты, мангыто-кыргызы, крупные племена кара-китаев, кереитов, коныратов, кыпчаков, а также предки нынешних узбеков и таджиков. А племя хори-бурятов, жило в непосредственной близости, контактировало со всеми. Я все время думаю, какое дипломатическое искусство требовалось от малочисленной народности, чтобы тебя не сожрали с потрохами более крупные, кровожадные племена, а потом еще суметь вернуться на историческую родину?!
– Ну, это как красивая легенда… Кстати, в последнее время в соцсетях пишут о хоринцах, как о гонимом племени…
– Это ерунда всё. О хоринцах еще скажу, ты только слушай меня внимательно… Ты посмотри, наши буряты по всему миру раскиданы, они укоренились на всех континентах. И всюду имениты, талантливы, своеобразны… Тому примеров множество… Скажешь, все народы таковы? Учти, тех народов десятки миллионов, а нас, бурят, полмиллиона едва набирается… Буряты легко впитывают культуру других народов, других цивилизаций, они легко становятся своими среди чужих. Среди русских – они русские, поют их песни, пьют их водку. Но и среди чехов, которых называют одичавшими немцами, выдающими себя за славян, буряты оказываются тоже своими, ничем не отличаются от них. Такое же происходит, когда бурят или бурятка живут в Германии, в Америке, в Китае или Японии. Буряты гибки, по-своему хитры, быстро начинают понимать нужды, сомнения, вкусы и предпочтения окружающего мира, их нравы, обычаи, язык жестов и взглядов. Такое дается не только от природы, это генная память, уметь жить среди чужого пространства, чужой культуры, чужого языка… За два столетия, которые провели хори-буряты в Верхней Месопотамии, сменилось минимум четыре-пять родовых поколений, а это очень и очень немало… Вот откуда у бурят, говоря современным языком, эмансипированность.
Мне хотелось вставить и свое мнение, но Ринча был так вдохновлен своей речью, что мне оставалось только слушать и слушать его речь:
– Хори-буряты очень древний род, есть известные исторические хроники, написанные при ханских дворцах чингисидов Ирана, Средней Азии и Монголии. В этих сказаниях подчеркивается, золотой род Чингисхана является ответвлением от хори-туматского племени, из Баргуджин Токума, которая начиналась вниз по течению Селенги и заканчивалась на севере Байкала. Но имей в виду, Бато, что с созданием империи Чингисхана, о хори упоминания прекращаются. Пишут только о монголах, о монгольском войске и их военачальниках – отдельные племена уже не упоминаются.
– Также и с бурятами должно произойти, никаких племен, родов, народностей – буряты – и точка! – попытался я внести свое весомое слово. Но Ринча был непреклонен:
– Стой, слушай меня! Лишь после распада империи, Золотой Орды, вновь стали писать и говорить о старинном и древнем племени хори. Ты читал хроники персидского ученого Рашид-ад-Дина?!
– Нет.
– Вот, видишь, а я читал, и знаю о чем говорю. Коренной юрт, так называли в древности родовые владения чингисидов, и это бесспорно, находились по бассейнам рек Онон и Керулен. Эти родовые земли были переданы младшему сыну Чингисхана Толую. А дети сына Потрясателя Вселенной, человека тысячелетия, внуки Чингисхана, Мунхэ-хан и Хулагу-хан, в середине тринадцатого века снарядили военную экспедицию из тридцати тысяч воинов, чтобы колонизировать Иран, Багдад – земли западной Азии. А войска эти в основном состояли из хоринцев, так как они как раз и жили, трудились в бассейнах Онона, Керулена и частично Ингоды. И обрати внимание – этот период времени ученые называют временем великого переселения народов. На Руси нечего было искать, там по полгода зимы, торговли нет практически никакой, тайга и топи, товарное производство – что собрали, то и поели. А в Центральной, Средней и Западной Азии кипела жизнь, круглый год лето, солнца много, в огромных масштабах велась торговля со странами Средиземноморья, Индостана, научные труды греков, римлян тысячами были переведены и стали достоянием ученых Востока.
Почему хори остановились в Евфрате? Потому что Багдад сопротивлялся, и внуки Чингисхана его превратили почти в руины, а вот шиитское население древней Хиллы, наведя мост через Евфрат, встретили Хулагу-хана с почестями.
Багдад был уничтожен и практически лежал в руинах еще сотни лет. Простых багдадцев убивали без разбору, однако монголы сохранили жизни христиан и евреев. Об этом Хулагу просила его жена-несторианка. Не тронули и тех, чья помощь понадобится будущей администрации: судей, крупных чиновников, сборщиков податей.
Когда же он переправился через реку Ефрат, он сказал воинам: «Я намереваюсь пойти в Сирию и Миср. Ежели кто пойдет со мною – ладно, а не то пусть отсюда же возвращается обратно». Они из страха за свою голову ничего не могли сказать и отправились вместе с ним в Сирию и Миср по дороге на Ану и Хадису.
Монголы несли в эти края большой прогресс. Познакомься, Бато, с историческими хрониками тех времен и ты узнаешь потрясающие вещи, поймешь, что монголы того времени, а значит и хоринцы, совершали многочисленные созидательные вещи, – воспаляясь, говорил Ринча. – Бато, смотри, это переписано мною из «Сборника летописей. Том третий, страницы двести пятая и далее двести десятая cтраницы…
Слушай далее, вот как описывает Рашид ад Дин в «Рассказе о походе Хулагу-хана в Сирийские края, завоевании Халеба и Сирийского царства». Хулагу-хан чрезвычайно любил благоустройство и из построек, которые он возвел, осталось много. В Аладаге он соорудил дворец, а в Хое выстроил кумирни. В том году он посвящал себя благоустройству и распоряжался на благо царства, войска и подданных. Когда наступила осень, он с намерением зазимовать на [реке] Заринаруд, которую монголы называют Чагату и Нагату, отправился в Мерагу и поусердствовал в окончании [постройки] обсерватории.
Он очень любил знания, поощрял ученых к спорам в науках, назначал им определенное жалованье и содержание и украшал свой двор присутствием ученых и мудрецов. Он был весьма склонен к алхимии и на ту братию постоянно взирал благосклонным оком. А они ради своих вымыслов и мечтаний зажигали огни, сжигали безмерное множество снадобий и бесполезными мехами надували малых и больших. Они мастерили котлы из глины мудрости, но польза от стряпни не шла дальше их ужинов и завтраков. В превращении они ничего не смыслили, зато в извращении и подлогах творили чудеса. Ни одного динара они не снабдили решеткой и ни одного дирхема не отлили, зато растратили и изничтожили богатства вселенной. На их нужды, домогательства и пропитание было израсходовано так много, что и злосчастный Карун за свою жизнь не стяжал столько философским камнем». У Ринчина этот рассказ был переписан от руки, мелким, ровным почерком, но потом я нашел этот текст в Интернете.
Ведь Хулагу-хан и его войско, состоящее в основном из хори-бурят, покорили эти земли и считали, что теперь это их вторая Родина. Например, Хулагу хан построил для крупнейшего математика и астронома Насир-ад-дин Туси большую обсерваторию в Мараге с библиотекой из двадцати тысяч книг, в которой работали наряду с местными индийские и китайские астрономы. Великий ученый-летописец монгольской истории Рашид-ад-Дин в Тебризе создал библиотеку в шестьдесят тысяч книг, ряд медресе с шестью-семью тысячами студентов и госпиталь, где работали пятьдесят хирургов, окулистов и врачей других специальностей из Индии, Китая, Сирии и Египта.
Вот что сообщают исторические хроники: «Хан чрезвычайно любил благоустройство, в Аладаге он соорудил дворец… Именно в улусе Хулагуидов созданы величайшие труды по средневековой истории монголов и Монголии. При монголах создавал свои всемирно известные произведения гениальный персидский поэт Муслих ад-Дин Саади, написавший элегии на взятие Багдада Хулагу ханом. Монгольские кочевья на территории улуса Хулагуидов были расположены в самых разных его частях. Но при этом занимали обязательно такое стратегическое положение, чтобы одновременно быть недалеко и от границы страны, и от крупных административных центров. Это вытекало из необходимости контролировать огромную страну с преобладающим инородным населением, которое периодически поднимало восстания». (Речь идёт о верхнемесопотамской провинции, где располагались кочевья монголов, в том числе хори, во времена улуса Хулагуидов (1256–1353), государства Джелаиридов (1340–1410) и даже Ак-Коюнлу (1468–1508).
Я был ошеломлен и ошарашен! Из своего толстого и пузатого портфеля он вытаскивал и вытаскивал какие-то записи, сделанные от руки, и читал все это мне с этих листков.
А теперь посмотри, Бато, на карту. И Ринча вытащил скопированную, наверное, давным-давно, на пергамент, карту, нарисованную им самим.
– Наиболее удобным районом для монгольских кочевий во всех отношениях – и по стратегическому положению, и по природно-климатическим условиям – была верхне-месопотамская провинция Найнава – предгорная возвышенность с хорошими и обширными пастбищами по берегам рек Тигр. И географически – это стык между Ираном и Ираком, Сирией, Арменией и Азербайджаном. Это так сегодня, а тогда была единая страна, но с разными региональными властями.
– Кстати, вижу там названия большой Заба и Малый Заба. А вспомни, в хоринских преданиях иногда упоминается и Заян, а Заба.
– Ринча, нет-нет, там речь шла о Заян-Заба и Наин-Нава…
Ринча прервался, спросил: «А у нас есть что-то еще выпить?!» Увидев мой смущенный взгляд, понял – пусто. Воспользовавшись паузой, я спросил: «Эти данные можно внести в книгу, чертовски интересно, ведь, в сущности, это же тоже твои дневники, ты выписывал эти данные из архивов…»
– Так то оно так… Но выглядеть будет это или как компеляция, или же, что еще хуже, плагиат… Поэтому поостерегся вносить эти данные в дневники.
– Но мы можем подать это, как выписки из «Исторических хроник» тех времен…
– Да, было бы полезно включить эти данные в книгу… Но смотри сам.
Тут он, словно спохватившись, внезапно осознав, что сам себя увел от основной темы разговора с этими несчастными «зунграммами», схватился за голову: «Так, так, так… Я продолжу дальше, вспомнил нить…»
– Словом, Хулагоиды строили здесь свое государство самовольно, в пику Джучидам из Золотой Орды. А государство должно быть крепко защищено. Скорее всего, боясь укрепления нового государства, Египетский султанат с Палестиной заключили военный союз с Золотой Ордой против улуса Хулагуидов. Золотоордынцы видели, что Хулагоиды строят могучую империю на территории от реки Инд до самого Средиземного моря, от Индийского океана до Кавказских хребтов. Все народы, жившие на этих бескрайних просторах стали вассалами, платили дань Хулагоидам.
Природно-климатические условия Ная-Нава благоприятствовали для кочевого и полукочевого скотоводства. Поэтому пришедшие сюда монголы, как известно из хроник, начали заселение и обустройство запустевшей в результате военных действий, но благодатной области.
К чести хоринцев, за почти два века жизни в Наи Нава, они не забыли язык, культуру и традиции. Они как жили в степях Приононья, так и там обустроились, ведь никто не смел бы их притеснять, хулагоидов. Наоборот, они имели огромные привилегии, как ближайшие представители монгольского хана. Высокоразвитое сознание хоринских бурят, бережное отношение к родному языку, культуре, традициям, видно и сегодня, в Приононье, в Аге бережно хранят все, что связано с прошлым. Да что далеко ходить за примерами и не стоит, ведь и в Хулун-Буире тоже живут хоринские буряты – среди полуторомиллирадного населения Китая, они сумели бережно сохранить язык, культуру, традцици.
И так, в бывшем улусе Хулагуидов до сего дня живут монголы, которые по тем или иным причинам не возвратились на родину, а остались там. Сегодня они – хазарейцы, их пять миллионов, и все они монголоязычные. Кстати, в Афганистане есть населенный пункт Шиндант, и на берегу Онона есть Чиндант. По-бурятски хазар – узда, или всадник. Подобных примеров наберется очень много. Тут к бабке не ходи, ясно, что хазарейцы – далекие потомки ононских хори-бурят. Уже восемьсот лет живут они там. Кстати, во времена ковида, совсем недавно, американская компания USAID хотела переселить хазарейцев в Монголию, этот факт тоже говорит о многом.
Монголы нередко давали свои, монгольские, названия местностям, где они обитали. «…на реке Заринаруд, которую монголы называют Чагату и Нагату.., где Чагату означает «белый» – пишет об этом Рашид-ад-Дин.
Сохранились в этом регионе и другие названия монгольского корня, такие как Чиган, Мандали, Бово-Нур, Кара-Булак, Барлут, Карату, Мангайш, Мала-Кара, Дорбанд и т.д. У шоссе Мосул – Холмс расположен населенный пункт Аршан, у северных окраин Найнава протекают речка Кяхта и есть населенный пункт Кяхта. Все это на небольшой территории области Наи Нава и в приграничных с ней местностях.
Из исторических хроник известно, что в XVI веке Верхняя Месопотамия снова характеризуется как опустевшая, малолюдная область. В связи с этим интересно отметить то, что в хоринских преданиях говорится о том, что после их ухода из Наи Нава край этот долго оставался незаселенным. Вероятно, информацию об этом хоринцы, находясь в южной Монголии, могли получать через своих мусульманских соседей, которые постоянно поддерживали религиозные связи, в том числе паломнические, с Юго-Западной Азией.
Рашид-ад-дин сохранил в своих рассказах анекдотичный случай из Багдада: одним из первых прилюдно казнили придворного астролога халифа. Хулагу лично допросил его: «Поскольку ты был звездочетом и сведущ в злом и счастливом влиянии звезд небосклона, то отчего же ты не предвидел свой злой день и не посоветовал своему господину мирной стезею пойти к нам на служение?». На что астролог ответил: «Халиф был самовластен, звезды не сулили ему счастья, а он не слушал советов доброжелателей». Оправдание не было принято, и звездочета вместе с его семьюстами родственниками и учениками лишили жизни. Учитывая странную любовь Хулагу к астрономии и обсерваториям, история кажется недосказанной.
После Халагуидов в Персию, в конце четырнадцатого века, пришел Тимур, самаркандский монгол из племени барлас. Впоследствии он вошел в историю, как среднеазиатский правитель и полководец под прозвищем Тамерлан. В Узбекистане Тамерлана считают узбеком. И вправду, он говорил на узбекском языке (вернее сказать, на карлукском). Но само слово «узбек» появилось-то ведь лишь в шестнадцатом веке, тогда какой же он узбек? А в «Сокровенном сказании», созданном еще при хане Угедэе, касательно монгольских племен, написано, что барласы являются не тюркскими, а монгольским племенами, близким к роду Борджигинов. Так что Тамерлан по происхождению – монгол. А может и хори- бурят!
А Тамерлан пришел на эти земли, потому что в улусе Халагуидов начался разлад и кризис в правящей верхушке. И, нужно заметить, Тамерлан действовал, и как реставратор монгольских государственных традиций, и в то же время, как кровавый усмиритель народных восстаний.
По иронии потомки Хулагу на новой для них земле вскоре сами… приняли ислам. Хотя сын Хулагу, Абака-хан был христианином и даже женился на дочери византийского императора Михаила VIII Палеолога. Впрочем, это не помешало ему иметь других трех жен и под конец своего правления погрязнуть в пьянстве, предположительно допившись до белой горячки и смерти.
Сам Хулагу, воевавший за Гроб Господень, судя по всему, под конец жизни принял тибетский буддизм – прекрасное завершение этой истории из жизни хори-бурят под предводительством Хулагу-хага и его потомков. С тех пор буддизм прочно укрепился в Монголии, да и у нас, у бурят.
Одним словом, хори-монголы (буряты) ушли с уже насиженных и обжитых мест, когда тяжелая смута охватила верхи монгольской знати, а также в результате неприятия процессов ассимиляции хоринцев с древними народностями этих земель. Племена возвращались на далекую родину из Месопотамии на восток, в сторону Хоросана, знаменитый тем, что там проживали и работали величайшие ученые и литераторы исламского мира, в том числе врач Ибн Сина, создатель алгебры аль-Хорезми, богослов Газали, поэты Руми и Фирдоуси, историк и географ аль-Бируни, математик со склонностью к алкоголизму Омар Хайям. И уже с тех славных мест монгольские племена, среди которых были хори-буряты, направились на восток, в южную Монголию, более известную в древние времена, как Кукунор.
Кстати, существует версия, что провинция Наи Нава, и одноименная песня, якобы, относятся к Кукунору. Это сущая неправда, об этом говорят люди, не имеющие глубоких познаний в монгольских и арабских летописях.
Точно по такой же причине, боязни ассимиляции, многие бурятские семьи переезжают в Агу и в Бурятию из Шэнэхэна. А почему русские переселяются в Россию из стран ближнего зарубежья. Точно также, чтобы избежать притеснений и ассимиляции.
Ринча меня удивлял больше и больше. Он, чувствовалось, знает тот предмет, о котором говорит, довольно сносно, значит, изучал, думал об этом много дней и ночей.
– Ринча, – прервал я его интересный рассказ. – О песне расскажи, о песне Наи Нава, что знаешь.
– В исторической памяти есть, оказывается, вещь, крепче бумаги. Это – предания в виде песен. В песне сказано, в очень давние времена наши предки проживали в далеком прекрасном теплом крае, который назывался Наи Нава. Хори вернулись на свою родину, но песня осталась. Кстати, монгольские ханы запретили эту песню, но хори-буряты пели ее тайком. И тут случилось событие – в наших краях появились английские миссионеры, они-то и записали слова этой песни. И опубликовали. Знаешь где?! В Лейпциге, в одна тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году, а спустя тридцать пять лет там же ее переиздали.
Такие строки есть в песне, в переводе на русский:
Походная жизнь от судьбы,
Наи Нава ты моя (моя ли?)
Байдан, байдан от жизненной ситуации,
Бада Его ты моя (моя ли?)
И свою тоску по той прекрасной стране выразили в песне, появившейся после того, как они покинули уже ставшими родными места – путь на восток занял почти целое столетие. Песня воспевает края Наи Нава и Бада. Это – древняя земля бурят, расположенная очень далеко, где мягкий климат, не требуется теплой одежды, люди питаются фруктами, а в углублениях конских копыт застревает виноград.
Немного помолчали.
Я удивлялся тому, откуда у него такие познания, помнится, он даже бурятский язык весьма поверхностно знал, словарный запас состоял из ста, не более, слов и словосочетаний. А он, наверное, увидел во мне внимательного слушателя.
– В последнее время, читал в соцсетях, весьма поверхностно пытаются доказать, что хори никогда не были на севере Ирака или юге Афганистана, наоборот, мол, Наин Нава находится где-то в Куруноре… И песня эта – якобы сложена, сартулами, к хори не имеет никакого отношения. Но, послушай, Бато, песню, строки песни прочитай. В языке сартулов употребляется аффрикат (t'š, d'ž, ts, dz) и вместо общебурятского фарингального звука h произносится сильный спирант s. Когда мы говорим о племенах одного народа, всегда есть желающие перетянуть культурное, литературное или спортивное «одеяло» на себя. Это, как у русских с украинцами. Если пойдем по такому пути, думаю, скоро найдутся люди, которые напишут, якобы, это они выкопали озеро-море Байкал. Подобные домыслы не имеют никакого научного, исторического обоснования, и все от лукавого. И у Байкала, якобы, хори-бурят никогда не было. Некоторые подобные измышления вредят в целом бурятскому народу, раскалывают единство. Уверен, время таких людей-писателей и иерархов уходит, им на смену идут молодые, грамотные, с современными взглядами буряты, не погрязшие в родо-племенных разборках стареющего и уходящего поколения. Интересуется подобными измышлениями малюсенькая горстка людей, ноль целых, одна сотая процента.
Ринча глубоко вздохнул, словно сбрасывая пепел от случайного кострища, и продолжил:
– Мне думается, в наше время нужно сохранять культуру, свою историю, идущую из глубины веков, нужно танцевать ёхор, петь старинные песни, рассказывать улигеры. Но нашу, современную бурятскую молодежь этим не увлечь. Они будут смотреть, слушать, восторгаться, но сами не будут танцевать, петь с тем неистовым азартом и вдохновением, как это делали наши предки… Они сегодня углубились в смартфоны, гаджеты…
Мне показалось, Ринча искал ответы на волновавшие его вопросы, но находил их только сейчас, в ходе своих рассуждений. Настолько разоткровенничался, что делал какое-то неожиданное открытие для себя.
– Нужно нам, бурятам, идти дальше, вперед и вперед, не забывая свои истоки. Хори-буряты – живой и классический пример сложившейся культурологической, политической, гуманитарной нации. Почему на хори сегодня идут разрозненные нападки от различных этнических групп внутри бурятской нации? Потому что у них нет всего того, что есть у хори-бурят, они являются просто этническим группами внутри бурятской нации, но они же ведь хотят выглядеть крупнее, выпуклее. У хори-бурят есть очень сильная военно-политическая история, у нас сформирована богатейшая, всесторонне признанная культура, литература, песенный и устный фольклор, буддийская культура, своя этика, отражающие принципы, традиции и обычаи. Все это вместе взятое отражают особенности культуры и мировоззрения хори-бурят, которые опираются на буддийскую религию....
– Главное у хори-бурят в этике – это совершать добрые дела, не рассчитывая на благодарность…
–Да, все это и есть этика! Дай, закончить свою мысль! Хори-буряты представляют сейчас классическую нацию, опору и сердцевину бурятского народа, его кладезь. Потому что хори базируются на общепринятых ценностях, а не на родоплеменных конструкциях. Как в восьмых-десятых веках распался родоплеменной строй у восточных славян, так и у бурят родоплеменизм распадется. А поддерживается пока он искусственно, в основном, местными политиками, которые не хотят расставаться с депутатскими или чиновничьими креслами, должностями. Не ради процветания народа, а для личного блага, раздувания мнимого авторитета…
– Слушай, Ринча, бурятский народ не вырастил пока современных идеологов, выдающихся, авторитетных лидеров, поэтому мы теряемся в этом огромном мире… Каждый бурят обязан своим умом, сердцем и душой понять, целостность народа в единстве, уважении и знании нашей культуры и языка. Мы порой делимся то на западный или восточный, то хоринский или сонгол… Не нужно делиться, самое главное для каждого бурята – это целостность нашего народа, мы древний народ и этим нужно гордиться…
– Нужно язык свой сохранить! Язык! Он – наша душа, наша мать. Я знаком с одним поэтом, Батожаргал Гармажапов зовут его. Тихий, не шумливый пожилой мужичок, но как заговорит, хочется его слушать и слушать, глаза его загораются вдохновением, руки вздымаются в такт словам… По краткости наш язык близок к английскому, по четкости звучания – к немецкому. В нашем языке нет странностей, как в русском, когда неодушевленным предметам придаются признаки пола – рода. Наш язык певуч, иносказателен, красив, ударение переставь в одном и том же слове сначала на первый слог, потом второй, потом на третий, и ты получаешь совершенно другое по смыслу значение слова…
Ринчу было не остановить. Говорил он красиво и убедительно. Я тоже хотел выговориться:
– Слушай! Бурятский язык, один из диалектов монгольского языка, – говорю я. – Даже не так, а нужно говорить, что наш язык, это бурятский диалект монгольского языка. Ведь мы – монголоязычный народ!
– Все это тривиально! Нет, проблема бурятского языка не в том, что его теснит русский, английский или китайский языки. Это весьма поверхностное и расплывчатое, не конкретное объяснение важности языка. Самое главное – язык хранит народные знания, в виде поговорок и пословиц, сказок, улигеров, песен, баллад и эпосов. Чем древнее тексты этих произведений, тем ценнее и мощнее наше знание, тем больше в них смыслов и образов, на которых воспитывается поколение за поколением. Вот твоя бабушка говорила тебе, песня лучше поется на родном языке, а в переводе теряет глубину и идентичность образов, смыслов. Умница – твоя бабушка, хотя университетов не кончала! Язык нужен не только для того, чтобы извлекать знания, а чтобы твои потомки были похожими на тебя, не стали искусственными интеллектами, роботами без роду и племени. Чтобы после твоей жизни, через века, наши потомки описывали мир таким, каким ты видел его, видел отношения в мире и себя в этом бушующем окружающем мире, как бы ты воспринимал все это. Разве можно перевести песню Наи Нава на английский так, чтобы они воспринимали его так, как мы, хори-буряты?! Англосаксы никогда не поймут нас, как и мы их, через песни, сказки, улигеры. Язык во много крат, математически и философски длиннее, чем жизнь человека, народа. Именно в этом смысл не терять родной язык!
– Нужны политическая воля, комплексный подход, а пока у нас одни нытики занимаются проблемами бурятского языка, – начал было я…
В этот момент Ринча поднял вверх указательный палец:
– Бато! Стоп! Начинается пьяная болтовня! Друг друга не перекричим, не переспорим! А вот поругаться, рассориться можем… Мы не специалисты…
– Не прерывай меня! Я о другом… Мы, буряты, становимся россиянами по причинам идентичности в духовном восприятии мира, православие и буддизм не противоречат друг другу, а взаимодополняются…
– Мир сошел с ума… Или сходит с ума…
– Америка давно не умная, глупая и развратная страна, совратила свой народ. Под красивой этикеточкой подается серая жизнь, словно она настоящая, загадочно-прекрасная, а душевная мечта простых людей превращается во все развратное, хамское, аморальное. И наши россияне тоже кидаются в этот омут…
Ринча хлебнул остывший чай, и вновь начал свой блистательный монолог:
– Горстке толстосумов Америки этого уже мало, мало, что загубила свой народ. В погоне за мировым господством они хотят пустить по такому же пути и Европу. Но там постулаты другие, ценностей больше, традиций больше, например, французы по менталитету ближе к русским… Нет, Европа так быстро не сойдет с ума, как и Россия.
– Ринча, нас опять будут дурачить. Все эти призывы к морали, есть не что иное, как признание несостоятельности общества к самоочищению. Те, кто призывает к морали, будут обогащаться аморальными способами. А мы, сибиряки, в своей большей массе деревенский люд, в первом поколении горожане, будем моральными, праведными, справедливыми, но бедными, нищими физически…
В моей воспаленной этими речами, с коньяком, голове, казалось, рождалась проповедь справедливости, в которой так нуждается мир. Именно там, где ощущается недостаток справедливости, вспыхивают революции, войны, сыплются бомбы, бегут из родных мест миллионы истерзанных людей, они убивают друг друга, рушатся семьи, растут обделенные любовью дети…
Наш горячий спор прервал внезапный приход жены. Ринча, весь любезность, поцеловал руки, извинялся, а потом выхватил из портфеля букетик нежных, белых цветов, похожих на глазастые полевые ромашки.
Жена тут же показала свои познания в цветах:
– Считается, что там, где падает звезда, расцветает ромашка. А ее название происходит от латинского слова, не помню какого, но в переводе означает «римская».
– Вот, Вы, как римлянка – строгая, элегантная…
– Ну, ну, – я остановил Ринчу.
Жена бросила недовольный взгляд на меня и удалилась в зальную комнату. И меня, и Ринчу немного «штормило», но мы, советские люди, любили говорить на «высокие» темы именно в таком состоянии. По трезвянке как-то не получалось, не на собрании же коммунистов…
Но мы по инерции, что ли, продолжали свой политико-кухонный «базар»:
– Например, Сталин…
– Сталина не трогай, он пионерам дворцы строил, а сам в сапогах ходил…
Мы, казалось, целую вечность стояли в прихожей, взявшись за руки, прощаясь, ладонь в ладонь… Я припоминал какие-то стихотворные строки, что-то бормотал, вроде, «ладонь в ладони за миг до расставания, подобно листьям, что встретились в полете, подхваченными ветрами…»
– Это танка, японская танка. Помнишь?!
Я тоже помню эти строки, во времена нашей молодости японскими танка увлекались десятки тысяч советских интеллигентов, это было модно…
– Ринча, да ты, как стеклышко, трезвый, как будто и не выпили почти по триста…
– Я в гостях ведь, а ты – дома. В этом вся разница…
– А давай, Бато, споем, как в молодости: «Три танкиста выпили по триста…»
Потом невпопад продолжили: «Броня крепка, как корка у арбуза, а экипажа в мире нет храбрей, ведь, пацаны со всех концов Союза, бурят, татарин, русский и еврей…»
Потом Ринча, уже на прощание, сказал: «Зачем нам танки японские, когда есть такие стихи…»
И он начал читать строки одного известного в своих кругах поэта, кажется, по фамилии, Иноземцев, которые бы в советское время наверняка назвали хулиганскими и запретили.
Жил на веку, на Двадцатом.
Шел по дороге пустынной,
Без видений закатных,
Коммуны новой ратник.
С кем я шёл – поотстали.
Или дальше промчались.
Словом, все поостыли,
И давно распрощались.
Помню вас постоянно,
К вам влетаю с разбега.
Мне бы водки полстакана —
Из Двадцатого века… -
– О чем эти строки?!
– Так, грустная мелодия… Бывает так… И строки ни о чем… Так, для ностальгического настроения…
Мы постояли еще немного, вышли на лестничную клетку.
– А все-таки ты гад, Бато, бросил курить. Сейчас бы подымили, вспомнили, как пиво пили на скамейке пустынного стадиона. И я бы тебе рассказал стишок «Середина века», не помню, имени автора. Например, такие строки:
О, как бы хотел я, жить в пятидесятые,
Где-нибудь, в пределах Байкальской турзоны,
Впрочем, где поля убирают, а не стригут газоны,
Где остались еще тропы не хоженые.
О, как бы хотел я, жить в пятидесятые,
И плакать со всеми о кончине Сталина.
Да, со всеми, и именно плакать,
А вы плакать, наверно, не стали бы?
О, как бы хотел я, жить в пятидесятые,
Пускай коллективное все, и нет социализма,
Зато есть вера в людей и в Союз.
Сейчас проблемы «глобальнее» стали,
Накрылся винчестер, разбился ноутбук.
Признаться честно, и люди достали,
Но сильнее всего достает видеодруг.
На лестничной площадке мы стояли довольно долго, наверное, поэтому супруга сказала нам: «Простынете, зайдите домой…»
– Ну, ладно, действительно, мне пора, скоро поезд у меня. Еще приеду, и не раз…
Ринча вновь начал декламировать стих:
Нас утро встречало прохладой,
Вставала со славой страна.
Чего ж нам ещё было надо,
Какого, простите, рожна?!
На рубль можно было напиться,
Проехать в трамвае за пятак…
А в небе сияли зарницы,
Мигал коммунизма маяк…
Вид у Ринчи был грустный, кажется, ему хотелось еще поговорить:
– Давай, напоследок, споем бурятскую песню, «Захяа» называется, «Завет» по-русски…
Немного невпопад, тихо затянули нашу песню:
Аглаг тэнюун дайдадаа,
Абынгаа захяа haнaapaй.
Айдархан залуу наhандаа,
Амарагтаяа жаргаарай.
Залиршагуй залуу наhандаа,
Замай харгы зубooр олыш даа.
Дундаршагуй дуурэн жаргалтай,
Дуулим талаар дуутай ябаарай.
Кажется и у меня, да и у Ринчи, точно, потому что я видел это, появились слезинки на щеках, капли, как дождинки. Удивительно, но бурятские песни вызывают мокроту на глазах. Не грусть, не радость, а какая-то неизбывная печаль, а может быть, тоска. Наверное, так тоскуют по ушедшим в нирвану предкам, или об отце и матери, у которых не попросишь уже совета, не обнимешь их…
Ринча собрался идти, через час у него поезд.
Вдруг с верхней лестничной площадки спустилась соседка Светлана, по-бурятски зовем ее Сэлмэг. Мы хорошо знакомы, наши внуки одноклассники. Она приветливо и дружелюбно улыбнулась:
– Вышла из квартиры, услышала, как вы с товарищем поете и постаралась не прерывать вас… Замечательная мелодия, много бурятских песен слышала, но эта особенная, завораживающая, слышится и грусть, и надежда на что-то… Знаю несколько слов, харгы – это дорога, залуу – молодой, дуран – любовь, аба – отец… – улыбаясь, говорила Светлана.
– Здравствуйте! Эта песня-наказ отца и матери детям, – говорю, все еще взволнованный.
А Ринча добавил:
– Там поется, когда позврослеешь и будешь в дороге дальней, помни заветы наши и выбери верный путь, который принесет счастье…
– Хорошие бурятские песни, не только напевные, мелодичные, но и с глубоким смыслом…
– А я люблю русские песни, например, в исполнении Кобзона, или Варвары… А какие таланты открывает передача «Привет, Андрей»?!
Мы обменялись, кажется, любезностями.
– Кстати, – ворвался со своим мнением Ринча – примерно такие же темы раскрываются в песне православного монаха Сергия Мерзликина. Наверняка знаете песню?
– Да, конечно…
– Он затянул мелодию, скорее всего, невпопад, забывая слова песни:
Ты цени каждый миг, сынок,
Каждый день и мгновенье.
Сколько б не встретил бед и тревог,
Сохрани в своем сердце терпенье…
– Да, это популярная песня, знаю и слышала не раз…
Тут на площадку, услышав наши голоса, вышел муж Светланы – Саша. Они оба корнями из бичурских, семейских, замечательная пара, улыбчивая, дружелюбная, Сашу многие зовут еще Саяном, так и вжилось – Саша-Саян. Они потомки старообрядцев, не принявших в православии нововведений патриарха Никона. Сначала их предков переселили на территорию Польши. Когда эти земли вновь попали под владения Российской империи, по указу Екатерины Второй отправили сюда, в этническую Бурятию. В одна тысяча семьсот шестьдесят седьмом году в Бичуру прибыло двадцать шесть семей – семьдесят два человека. Потом были еще тысячи переселенцев, но Светлана и Саша потомки тех, первых первопроходцев.
Оба они родом из села Верхний Маргинтуй. Я бывал там в командировке, прежде всего люди там простые и сердечные, любят угощать приезжих разносолами и вареньями из диких и огородных ягод. Кругом деревни отроги Заганского хребта, разделенные сопками и долинами. Горные хребты, спускаясь к реке, переходят в ровные поля и степи. Красотища!
Вспомнил отрывок из стихотворения про Бичуру. Когда работал в «Правде Бурятии», в середине лета собрался в командировку в Бичурский район. Там никогда не бывал, а коллега Иван Игумнов продекламировал поэтические строки, приговаривая: «Если желаешь познать милую и прекрасную Бичуру, услышь эти строки… Душою, сердечком своим поймешь об этих удивительных краях больше, чем из справочников. Мне навсегда запомнились некоторые строчки, словно песни, поэтому экспромтом и закатил стишок:
Средь пыльной степи,
Где резвится Хилок,
Там русский с бурятом
Породнились навек.
Там дома, как грибы,
Врастают в тайгу -
В Маргинтуй, на века.
Здесь на двух языках,
Все с детства гутарят.
Сколько б не злились,
И жара, и мороз,
Здесь русский с бурятом,
Живут как друзья.
Их закалила степь и тайга,
Потому, мы родня навсегда!
Мы поаплодировали, но Ринча вспомнил, что опаздывает на поезд.
На том, улыбаясь, вежливо раскланиваясь, мы разошлись…
Мне же на следующее утро подумалось, наши воспоминания с Ринчей были похожи на ностальгию, которая никогда с зеркальной точностью не воспроизводит ход ушедших дней и событий. В ней часто превалируют субъективные, ошибочные видения и сны, может, надуманные. В этом парадокс ностальгии: люди тоскуют по всему прошлому, даже негативному.
В воспоминаниях все прошлое окрашивается в ностальгическую оболочку, и снимает с души все имевшиеся когда-либо травмы.
Глава II
Наутро проснулся выспавшийся, довольный, так я чувствовал себя, иной раз в детстве, рядом с бабушкой. Как всегда, принял душ, позавтракал. Не покидали мысли о Ринче. Он уже уехал, где-то там, вдали, занимается своими делами. Никогда в жизни не думал о нем так, как сейчас, наверное, поэтому начал перебирать в памяти дни, когда шли бок о бок. Их и было-то совсем немного, десяток-другой дней, которые по молодости и не считает никто.
Но почему-то они запомнились, оказывается, врезались в память, хранились где-то на полочке в ожидании подходящего момента, когда окажутся нужны, эти кадры из кладези памяти.
И тут мой закадычный друг – компьютер – тренькнул, напоминая, пришло некое сообщение.
Письма могут быть нужные и ненужные. Я стараюсь как можно чаще удалять ненужные сообщения. Ведь немалая часть писем – банальная спамовая бубуйня, как выражается мой внук.
Открыв почту, с удивлением обнаружил, пришло сообщение от Ринчи.
Он вчера называл свой электронный адрес: achnir49@…
Увидев адрес отправителя, вдруг осознал, что слово «achnir» читается сзади наперед как «ринча», а число сорок девять – необычное, в нем другое священное число – семь повторяется семь раз.
И так, четверка является корнем числа сорок девять. Цифра четыре означает целость, совокупность, полноту; четыре стороны света, времени года, ветра, стороны квадрата. А в буддизме Древо Жизни Дамба имеет четыре ветви, от его корней текут четыре священных реки рая, символизирующие четыре безграничных желания: сострадание, привязанность, любовь, беспристрастность; четыре направления сердца. Также у буддистов девятка – это высшая духовная сила, небесное число. Цифра девять означает всемогущество, и представляет собой тройную триаду: три в трех. Это число и окружности, отсюда деление на 90 и 360 градусов.
Просидел перед компьютером несколько минут, молча прокручивая в памяти то, что знал из нумерологии. Подумал: «Как все сложно у него…».
«Если долго смотреть на бутылку водки, рука медленно принимает форму стакана, – писал он. – Если бутылка полная, это к встрече с женщиной. Но не дай Бог, приснится тара, т.е. ящик из-под водки. Это сулит нищету. После такого сна лучше вообще надолго отказаться от выпивона, так как сон предостерегает: стану алкоголиком и проведу оставшуюся жизнь в нищете. К счастью, мне никогда такой сон не снился. Впрочем, толкований о полных и пустых бутылках много, и все они разные: то к добру, то к разводу, то к ностальгии какой-нибудь.
Мне сейчас, вот сию минуту, показалось, вчера мы не коньяк пили, а пробовали на вкус, что такое ностальгия. Впрочем, это печаль, или тоска? Эти два слова трактуются по-разному, и чтобы их объединить в одно, придумали слово «ностальгия», украв у французов флакон с ароматом печали и тоски одновременно. А еще мне кажется, что дневниковые записи придумали литераторы, чтобы ими подпитывать свою ностальгию. Я проснулся в поезде в пять утра, совсем скоро станция прибытия. Вытащил ноутбук и строчу первые попавшиеся на ум предложения.
Кстати, пирвет, Бато, здравствуй!
Мое письмо, наверное, это тоже дневник. Письма пишут, как и дневник, от чистого сердца. Проснулся весь в угрызениях совести. Почти как у Бродского:
Ни тоски,
ни любви,
ни печали, ни тревоги,
ни боли в груди,
будто целая жизнь за плечами
и всего полчаса впереди.
Встретились, долгие годы не виделись, и как дураки… выпили. Как-то не по-светски это… Зато по-советски, по-мужицки… Последняя мысль внедряет в сознание оптимизм.
Кстати, к водке и пиву приучила нас советская система. Если коммунист не пьет, он, либо хворый, либо подлюка. Помнишь, в райкомах и райисполкомах была такая присказка: «Кто не с нами, тот против нас». Вот и старались все мы соответствовать. А рядовой советский человек бухал просто от скуки. Выше слесаря или шофера не прыгнешь, никакое своё дело, свой бизнес, не откроешь, за границу в Америку не пустят, больше двухсот рублей в месяц не получишь. Вот и оставалось, ездить по выходным на дачу или на рыбалку, выпивать с друзьями. Однажды, от делать нечего просматривал труды «классиков», и наткнулся на письмо Энгельса Марксу: «Дорогой Карл! В тот день, когда рукопись будет отослана в издательство, я напьюсь самым немилосердным образом…»
Классики тоже бухали по-черному. Булганин рассказывал, они с Хрущевым как-то выпили по бутылке коньяку, «полирнули» водочкой и пошли в президиум митинга. И хоть бы что! Как стеклышки! А наш первый обкома рассказывал как-то в узком кругу, при Брежневе члены Политбюро умудрялись выпивать и закусывать, даже стоя за трибуной на Мавзолее Ленина во время парадов и демонстраций на Красной площади.
А помнишь анекдот о Брежневе?! Приезжает на завод, идёт по цеху, подходит к токарю, спрашивает: «Ты сможешь работать, если выпьешь стакан водки?»
– Смогу.
– А если два стакана?
– Смогу.
Тогда Брежнев спрашивает: «А если три стакана выпьешь, сможешь работать?»
Токарь отвечает: «А я что, не работаю?!»
Анекдоты были сюрриальным отражением нашей жизни. А может анекдотом была сама наша жизнь!? От этой мысли мне всегда становится страшно. Так давай жить без страшилок! А договор – дороже денег…»
Последняя фраза меня кольнула. Что Ринча имел в виду? Но не придал значения фразе о договоре, мне пришлась по душе мысль, что письма пишут, как и дневники, от чистого сердца.
Значит, подумал, он просит его электронные письма считать тоже дневниками и внести в будущую книгу.
И тут вспомнил, ведь в далекой юности я тоже писал дневники. Многие записи потеряны, однажды даже чемодан, хранившийся на балконе, попал под ливень, а там были тетрадки… Все промокло, поэтому выбросил чемодан с тетрадками, как ненужный хлам. Сейчас понял, всегда, исподволь, ненавязчиво, в глубине души сожалел о случившемся, не сумел сохранить кусочки своей жизни, впечатанные буковками и словами в биографию памяти.
Лихорадочно принялся перебирать старые и потертые папки с бумагами, от них пахло немного дурно, какой-то пылью, или плесенью, в горле запершило. Но тут подумал, как это могут быть неприятными воспоминания о прошлом. Ведь такими, какими мы были и есть, уже никто и никогда на этом свете нас не увидит. Не увидит и не узнает, если мы не сумеем оставить о себе, хоть какую-то память. Потому что все наши чувства и переживания превратятся в пыль, в прах, в золу, которые развеют по миру эти вечные странники – шумливые и глумливые ветра.
Все это пронеслось в голове в какой-то один ничтожно малый миг. Наверняка, уже через пять минут так не подумаю, колесница жизни понесет дальше… Черт возьми, как же это все-таки ценно, сохранить странички своей жизни на бумаге. Да, вот так подумал. Мимолетно. Мимоходом. И мысль, как снежок на апрельском солнце, испарилась. А вот в сохранившихся листах удалось найти любопытные записи.
«07 июня 1971 года. После дембеля прошло полмесяца. Сегодня выхожу на работу, на гражданскую должность. Отслужил, не нужно тянуться «в струнку» перед командиром, не идти на ночное дежурство, не строиться в узком коридорчике плавбазы перед тем, как идти на подлодку после завтрака или обеда. Как хорошо не слышать команд, типа «Стройся!», «Смирно!», Шагом ма-арш-ш!».
Как ждал этого дня там, на флоте! Ничего, что нет еще корочки о высшем образовании, главное, взяли на работу. Пожилой редактор окружной газеты, посмотрев вырезки из газет с моими публикациями, буркнул: «Похоже, писать можешь, напиши заявление, возьму с испытательным сроком…»
Я понял, с кадрами журналистов – туговато.
– В этот день Луна находится в знаке Скорпиона, – сказал мне знакомый лама, когда обратился к нему с просьбой «открыть дорогу». Мы были комсомольцами, а в душе, наверное, коммунистами, но все равно обращались не в райком, а к ламе.
– Этот день – время принятия ответственных решений, – говорил лама. – Потому что будет улучшенная мыслительная деятельность, возрастет способность к концентрации на сути проблемы, появится высокий уровень самокритичности, что как нельзя лучше позволяет отделить истинно важное от наносного, малозначимого.
Баир-лама еще сказал, что можно смело браться за новые начинания, брать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными. Монах был старше меня, наверное, лет на пять. Рассказывали, когда он захотел стать хувараком, слушателем буддийской школы, в райкоме комсомола, разузнав эдакую новость, вызвали его на беседу. Получив нагоняй в райкоме, он отказался от своих планов, наверное, испугался. И его назначили пионервожатым в родной школе. Но все же через год, втихую, он пришел в дацан и стал хувараком. Учился у опытного и уважаемого ламы, но в его словах я не единожды находил словосочетания, схожие со словами флотского «замкома» по политчасти.
Однако, соседская ворожея, баба Таня, кинув карты, немного спутала мои «карты».
– Стоит все хорошенько продумать и взвесить, – медленно говорила она, дымя папиросой «Беломорканал». – Так как начать можно дело, не только ведущее к победе, но и заканчивающееся полным крахом. Седьмое июня – понедельник, этим днем управляет «ночное Солнце» – Луна. Его называют тяжелым днем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день нас захлестывают эмоции. Поэтому удачи чередуются с неудачами, успехи – с поражениями. Все становится ненадежным, относительным. Вплоть до того, что верные друзья могут подвести, а недруги… помочь.
Поэтому баба Таня посоветовала полагаться больше на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют, а еще, деловые договоренности, заключенные в этот день, как и сердечные победы, уже завтра могут обернуться зыбкой неопределенностью».
С того дня минуло, пожалуй, пятьдесят пять лет с гаком. И если бы не эта дневниковая запись, тот день затерялся бы в череде тысяч других. Потом нашел продолжение этих же записей, но почему-то без указания дня. Написано другой ручкой, цвет чернил темнее, значит, писал эти строки уже после седьмого июня, спустя некоторое время.
«Познакомился с литсотрудником Ринчином Батадаевым, все в редакции его называют Ринчей. Он, как и я, молод, год назад вернулся со срочной службы, тоже был мариманом. Поступал в Иркутский универ на журфак, но его «срезали», как он выразился, на «подставе». Перед тем, как сдать экзамен по немецкому, он увидел в коридоре вроде бы похожего на себя бурята. Ринчин, если честно, не знал предмета, в школе иностранный язык изучал то английский, то немецкий, словом, в голове сплошной «шурум-бурум», так он говорит. Подошел к абитуре, они быстро познакомились. Слово за слово, предложил сдать за него экзамен.
Тот согласился. Буквально через десять минут вышел из аудитории – пятерка!
– Ты что натворил?! – воскликнул сгоряча Ринчин.
– Ты что, это же здорово! Отлично! – не понял новый друг.
– Я же почти не знаю немецкого языка, а тут раз, и – пятерка! Такого быть не должно! Как я потом буду учиться?!
Успокоившись, они решили обмыть экзамен и с размахом гульнули в ресторане «Алмаз».
Через три дня Ринчин сдавал экзамен по истории. Вопросы были не из тяжелых, набросал даты, имена, тезисы ответа и легко получил «отлично». На душе безоблачно – «так люди становятся отличниками», – думал он. Уже выходил из аудитории, когда его окликнула незнакомая девушка: «Вы Батадаев?!» Ринчин подумал про «шуры-муры», но она попросила его пройти в приемную комиссию.
Там увидел своего нового друга, который сдавал за него немецкий, и все стало понятно. Их обоих вычеркнули из списка абитуриентов. Когда Ринчин рассказывал эту историю, я хохотал до боли в печенках.
Еще запомнился тем, что называл себя Ринча.
– Есть такой остров в Индонезии – Ринча называется, – рассказывал с воодушевлением он. – Расположен приблизительно в двух часах хода на лодке из порта Ламбуан Баджо. Это небольшой остров посередине океана, там много диких животных: черный буйвол, дикий кабан, козы, олень, обезьяна макака, змеи, много разных птиц. Но меня заинтересовал дракон Комодо, который обитает там. Существует легенда-объяснение, что морем эти драконы перебирались с острова на остров, уплывая из тех мест, где на них начинали охотиться люди. Эти комодо, в конце концов, стали сами охотиться. Нападают обычно из засады, как люди, но «стреляют»… хвостом, сбивая жертву с ног мощным ударом. У драконов нет врагов. Они сами представляют опасность любым животным на острове – он кусает жертву и заражает ее болезнетворными бактериями, которых чрезвычайно много в пасти комодского дракона, ведь он падалью питается. Я хочу непременно побывать на этом острове, увидеть этого Комодо. И тогда стану я называть себя Ринча Комодо. Как?! Красиво?! Пират Ринча Комодо! Нет. Предводитель морских пиратов двадцатого века Ринча Комодо захватил корабль у долбаных америкосов и пригнал в СССР!
Я подумал про себя: «Во, парень, дает! Нашел остров в океане, под свое имя подначил, мечтает съездить туда! А у меня-то нет такой мечты! Что же я за лох такой?!»
Подумав, решил, что мне не нравится позиция нового товарища, да и комодо, ведь хищник. Он, что, мечтает быть хищником?!
– А почему ты не любишь американцев?
– Не знаю, наверное, из школьной программы – это страна, которая стала логовом империализма, – Ринча слегка смутился. – Потом в Граждан- скую войну в составе Антанты они высадились в Приморье, хотели вместе с японцами сделать нас рабами. А Приморье помогал осваивать в свое время мой дед…
– Ты говоришь «америкосов», это значит весь народ. Но там десятки миллионов хороших людей, как и у нас в стране…
– Вот такие «хорошие» люди сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки! И готовы были бомбить Москву, Ленинград, Урал…
Кулаки Ринчи сжались, заметил, костяшки на пальцах побелели.
– А я, например, считаю, что американцы помогли нам тогда. Забыл, в сорок первом заморозили все японские активы в Соединенных Штатах и установили эмбарго на поставки нефти в Японию, лишив девяносто пяти процентов нефти, поставляемой в страну. Так американцы спровоцировали Пёрл Харбор. Иначе бы япошки напали на наш Дальний Восток.
– Ну, и что?
– Война Японии против США позволили нам перебросить сибирские дивизии под Москву в самое тяжелое для страны время…
Ринча начал нервничать.
– Ты что, америкосов защищаешь?!
– Нет, просто факты даю, – я был спокоен. – США по ленд-лизу дали нам около двадцати тысяч самолётов, более одиннадцати тысяч танков, сорок четыре тысячи джипов. Вспомни Жукова, где он писал, что получили тысячи студобеккеров, виллисов, танков, самолетов!..
– Так-то оно, может быть и так, но пойми, помогая нам, они спасали себя от гитлеровской Германии. Фашисты, разгромив нас, взялись бы потрошить и Америку с Англией… Впрочем, больше половины американской помощи было потоплено немцами, а мы расплатились сполна за все.
Наш пивной пикник превращался в политический диспут. Но я не уступал Ринче, защищал американцев.
– Я читал, что американцы поставили нам в полтора раза больше автомобилей, чем произвел весь Советский Союз за годы войны. Мы не производили в военные годы свои локомотивы – американцы поставили нам около двух тысяч паровозов и около ста дизель-электровозов. Американцы поставили нам в десять раз больше вагонов, чем мы произвели их за военное время. Треть всей взрывчатки – это помощь союзников. Поставки удвоили наше производство кобальта, утроили производство олова. Американская тушенка спасла от голодной смерти сотни тысяч наших людей – мы получили миллионы тонн продовольствия.
– Да ладно тебе, Бато, распаляться. Американцы очень хорошо помогали и немцам, они поставляли огромное количество стали, алюминия через филиалы своих фирм в Южной Америке, а также в Швеции. А заводы Форда поставляли в Германию свои грузовики, джипы, почти девяносто процентов грузовиков гитлеровской армии – это поставки из Америки. Так что пока мы воевали, америкосы делали бизнес…
– Нет, Америка не так страшна, как Европа. Общеизвестно, пятьсот лет назад европейцы вшей называли божьими коровками, дамы мылись раза два в год, а король Людовик за всю жизнь мылся лишь два раза, в то время как на Руси люди парились в бане каждую неделю.
– Да ты что говоришь?!
– Да-да! Европейцы – это исчадие ада. Один чех-студент рассказывал, они, экономя воду, набирают ее в раковину, моют там руки, лицо, зубы…
– В одной и той же воде?!
– Да! А кажутся порой высокомерными, называют свой континент райской цивилизацией.
– У них фашистская идеология. Из Европы разросся пожар двух мировых войн. Вплоть до девятнадцатого века в Европе шли ожесточенные классовые войны, там жгли красивых женщин на кострах…
– Не распаляйся. Петр Первый дал России мощный заряд только благодаря реформам, скопированным в Европе и внедренным в Российской империи. А сегодня Европа отказывается от самой себя, от своей культуры, от своих корней, европейские элиты начали процесс разложения общества от базовых ценностей и концепций. Вот и все, – подытожил Ринча.
– Ладно, Ринча, может, ты и прав, не все в мире так однозначно – решил прекратить этот политбой. – А вообще маленькая Монголия оказала нам помощи гораздо больше, чем твоя Америка, —сказал я, желая доказать, наверное, что я более прав в нашем споре, защищая свою позицию.
Мы помолчали, снова пили пиво. «Первый рабочий день обязательно нужно обмыть, – сказал еще утром Ринчин. – Иначе плохо будет. Маза не пойдет, слова не соберешь в предложения, а предложения – в абзац. Для журналиста это – беда!»
У меня монеты особо в тот день не водились, ведь я только-только дембельнулся.
Как говорят, на раздаче был Ринча. Раздавал он, конечно, круто.
– Нам с тобой по силам выпить ящик пива. Купим целый ящик, так сподручнее нести. Можно бы и тридцать две бутылки купить, ведь в колоде карт без шестерок тридцать две карты… Но пешком их не унести…
Я запомнил слово «шестерки». Подумал, значит, он не любит «шестерок», дает мне понять, видимо.
Мы купили ящик пива – двадцать бутылок. Полвека назад ящики делали из корявых досточек, не струганых, сколоченных абы как, неряшливо.
Потом все пили и пили, пили и пили пиво «Жигулевское». Ринча читал вульгарные белые стихи – просто рифмованные словечки:
Мы, не жалея свои почки,
Член партии и хмырь,
К пивной спешим мы бочке,
На брошенный пустырь.
Курим спозаранку,
Болеем с похмела,
И с пивом сгрызть таранку
Нас жажда всё гнала.
Трудяги и ханыги,
Бичи и шкандыри,
Торчки и забулдыги,
райкома секретари.
Не лозунгом Кремлёвским,
Сверлящим зычно слух,
А пивом «Жигулёвским»
Поддерживаем мужицкий дух…
– А ты играешь в карты?! – вдруг спросил Ринча.
– Нет! Разве что в буру немного могу перекинуться.
– А я люблю карты, судьбу предсказываю, – сказал он на полном серьезе. – Бабушка научила.
Я так расхохотался, что выронил бутылку…
«А ты знаешь, что означает масть на картах?» – не унимался Ринча.
– Нет. Ну, масть, как масть, они очки показывают, если в буру, в подкидного, или в очко играешь…
Ринча стал мне объяснять.
– Взять, например, черви. Семерка означает успех в любовных делах, а восьмерка – признание в любви. А вот девятка – это денежная прибыль. Как увижу девятку черви, меня в дрожь бросает, думаю, неужели и впрямь, червонцы будут в кармане хрустеть. А вот десятка – это приятное любовное приключение. Дама – страсть, король – жених, туз – любовное письмо.
– Ты забыл вальта…
– Валет – это красивый мужчина. Ну, это для баб…
– Запомнил? – спросил он меня.
– Нет. Но ведь есть еще крести, бубны, пики, – говорю ему.
А он в ответ:
– Зачем тебе, если ты не запоминаешь. Чувствую, тебе все это не интересно. Ты какой-то правильный, что ли?! – словно обижаясь, сказал Ринча.
– Я на флотском комсомольском собрании сказал, что анекдоты про Чапаева подрывают нашу идеологию. Василий Иванович Чапаев – герой Гражданской войны, кумир миллионов. Анекдоты про него бросают тень на Чапая…
Хохот был потрясный… Хохотали даже старшины и офицеры. Казалось, они забыли, что идет комсомольское собрание, кто-то из ребят закричал: «Бато придумал новый анекдот про Чапая…»
Теперь от хохота выронил бутылку пива Ринча. Пиво разлилось по скамейке, и он, пошатываясь, привстал, судорожно хватался то за печень, то за голову, приговаривая: «Это самый потрясный анекдот…»
– Ладно, давай дальше, – сказал Ринча, отдышавшись.
– Возьмем бубны. Семерка – это встреча с друзьями, путешествие, а вот восьмерка – уже неприятное свидание. Мне нравится девятка, которая означает удачное окончание сделки: значит, зашуршали червонцы в кармане. Десятка бубен тоже не плохая карта, обозначающая веселую дорогу. А вот валет бубей – враг, дама – соперница. Если выпадает король – значит в вас влюблены. Еще люблю туз бубенный, который приносит хорошие новости, приятное письмо.
Ринчин откупорил очередную бутылку «Жигулевского» и спросил: «Запомнил?!»
– Фу ты, ну ты, заколебал. Нет, не запомнил.
– Да ладно, не серчай. Вижу, ты, видимо, в другом силен: слушаешь, думаешь, запоминаешь и… молчишь. Знаю таких, они писучие, многое запоминают, потом пишут, сам себя не узнаешь… Вроде бы я простой такой, неприметный, а напишет мастер – прям герой, как Печорин, портрет, составленный из пороков своего времени.
Мы помолчали. Я думал, Ринча добавит, что молчаливые люди опасны. Впрочем, по мне, молчание чаще свидетельствует об отсутствии глупости, чем о наличии ума и молчаливых не опасаюсь – неприятнее человек, который всегда поддакивает. Я продолжал молчать, но это Ринчу, видимо, не раздражало. Мы снова пили пиво.
– Ну, Бато, считай, мы братаемся с тобой. У каждого человека всегда должно быть горячее сердце и холодное пиво. А еще умные люди говорят, что раки зимуют там, где всегда есть пиво.
– Ну, давай, пить пиво за то, чтобы быть там, где раки зимуют!
– Бато, отличный тост! Давай, прочитаю тебе строки о пиве:
Топочут дни, как пьяные слоны,
Транжирим жизнь, как болтуны.
А мне б сейчас стаканчик тишины,
Бокал молчанья, стопочку безмолвия…
Берут заботы в плен, и на душе темно!
Выпивона лучшего не сыскать, чем пиво!
Дни без него пусты, и мрачны вечера,
И пью я вечером, и снова пью с утра —
с пивом не расстанусь, и если ненароком
Ты укоришь меня, то в этом мало проку…
– Молодец, Ринча. Первый признак развитого революционного самосознания приходит, когда лозунг «Земли – крестьянам, заводы – рабочим», добавляют понятным всем мужикам «А пиво – мне!»
– Так, давай, пьем за революционные лозунги…
– Я родился в 1949 году, это был год желтоватого земляного быка по восточному календарю, что соответствовало двадцать четвертому году эпохи «Сёва» в Японии. Тот год начался в субботу и закончился в субботу…
– Ну и что?!
– А то, Бато, что если истина в пиве, то мы – ни дня без истины. И вообще, семидесятые – скучные годы. Социализм построили, скоро коммунизм наступит. Пишу в газету про чабанов, доярок, беру интервью у начальников, а такая скукотища гложет, хоть волком вой! Вот редактор требует у меня зарисовку. Напиши, говорит, в следующий номер хорошую, такую, душевную зарисовочку про чабана Цыденова, у него рекорд выходит…
Я говорю: «Как я вам напишу зарисовочку, если не знаю этого Цыденова, в глаза не видел ни разу?!»
А редактор багровеет: «Ты, Батадаев, не мне пишешь, а для читателей, для газеты!»
– Зарисовку писать… по телефону?! Обалдеть, охренеть…
– Да. Ты здесь, у нас, долго не засиживайся, если хочешь учиться, уезжай куда подальше…
Ринча, как-то уж злобно, что ли, взял очередную бутылку пива, откупоривая, сломал горлышко о краешек скамейки, поранив палец.
– Вот и кровь пошла! Драки нет – а кровь идет!
Уже стемнело, а мы все еще пили пиво.
– Надо было взять водку, – сказал Ринча. – Стакан-два – и по домам!
Я молча слушал его, кажется, и от пива можно крепко захмелеть.
– У нас случай был на Камчатке. Один офицер купил дочери пианино и попросил нас затащить его на пятый этаж. Полдня мучались, лестничные клетки узенькие, дома для офицеров строили по типу общежитий. Так один из нас сказал: «Вы бы, товарищ капитан третьего ранга, лучше купили тридцать балалаек, мы бы давно уже закончили работу…
Я слушал его, иногда он забавные истории рассказывает.
– Вот, видишь, и у нас с тобой, балалайки одни, – Ринча расхохотался. – А ты напиши фельетон. Даже заголовок тебе подарю, например, «Уцененная совесть»…
– Ага! Знаешь, так меня уценят, что долго буду барахтаться в грязи…
– Ну, вот, а ты говоришь, жить скучно. Ищи, дерзи, борись! Журналистика не в белых перчатках делается…
– Да, судя по нашему редактору, районная журналистика делается в ежовых рукавицах, – угрюмо сказал Ринча.
– Ринча, мы пиво пьем, чтобы похоронный марш журналистике играть?!
– А знаешь, говорят, Сталин, еще в начале тридцатых годов, планировал объединить бывшую Бурят-Монгольскую автономную республику с континентальной Монголией. И это новое бурят-монгольское новообразование было бы в составе СССР. Но не успел Сталин, начались репрессии. А потом война. Интересно, если бы план сработал, как бы мы жили, в такой большой Бурят-Монголия в составе СССР? Ты не думал об этом?
– Ринча, я впервые слышу такое… такое…
– А может и Тыву, Хакасию, Алтай, да еще Внутреннюю Монголию Китая мог Сталин объединить вместе с нами. Есть же понятие, закавказские республики Советского Союза, а мы бы стали Центрально-Азиатскими республиками СССР. А еще Мао Цзедун просил Сталина принять Китай в СССР – такая супердержава могла бы быть…
Мне не нравились эти рассуждения. Какой-то подвох, как мне казалось, читался в его словах, да и мог, или не мог Сталин. Тут еще Китай, давно ли битва на Даманском была?!
Я начал трезветь. Права, однако, бабка Татьяна, соседка, мол, в этот день нас захлестывают эмоции. Мне хотелось быстрее допить пиво и идти домой, завтра ведь рабочий день. А пиво все не кончалось… Двадцать бутылок – это много очень…
– Думаешь, наверное, с моей стороны идет идеологическая диверсия… Да, ты настоящий Чапай. Чувствую, дотянешь до берега. А вот, Чапай, утонул…
– Давай, остатки пива унесем в редакцию, завтра допьем…
– Ты, че, редактора хочешь пивком угостить?!
– Типун тебе… А так, по-человечески, можно бы…
– Добрый ты, на тебе будут воду возить… И еще: чем добрее душа, тем сложнее судьба…»
Далее дневниковая запись обрывалась. Не помню, что помешало закончить повествование о той пивной ночи.
Буквально через две недели после нашего знакомства, Ринча уволился из редакции, уехал в Питер, сдал экзамены в университет и стал студентом.
Зимой он приезжал на каникулы. Этакий, столичный денди, на нем модное пальто, наверное, английского, легкого покроя, не из драпа, а ткань такая оригинальная, на солнце словно меняет цвета – от темно-синего до сизого. Пальто с двубортной застежкой и рукавами-кимоно, воротник богатый, из меха, наверное, выдры. Тюрбановидная меховая шапка «по-косыгински», тоже из выдры. Чувствовалось, уши у Ринчи в забайкальский мороз подмерзают, но он держал питерскую марку, за все каникулы так и не одел шапку-ушанку. Он изменился за эти полгода, одет модно, руки беленькие, почти холеные, сразу видно – дрова не колет, воду из колодца не носит.
Но не в этом были основные перемены. Это был человек, как бы попавший в зону комфорта, пьет не напьется позитивной питерской энергии, что вводит его в состояние полного душевного равновесия. Получая огромный заряд духовной пищи, он делился с нами этой нереальной атмосферой душевного полета. Бывает, получая такие дозы позитива, иные уходят в какие-то крайности, превращаясь в адреналиновых наркоманов, не чувствуя границ своего сознания.
У Ринчи, думаю, все было под контролем: реальные изменения в жизни хороши, но, как и лекарство, хороши в меру. Хотя, по его рассказам, жить ему в Питере было интересно…»
На этом мои дневниковые записи вновь заканчивались.
Пока я читал письмо от Ринчи, потом искал в толстых, старых папках мои записи, пока все это прочитал – наступил уже полдень.
Так и не позавтракал полноценно.
Потому что воспоминания мелькали в моем, уже воспаленном, сознании, словно перед глазами раскручивались кадры кинохроники. Тут уж не до еды.
С поразительной ясностью для себя я вдруг отчетливо понял, это безоблачное утро вконец испорчено, не будет впереди блаженного дня с отдыхом, с прогулкой по парку.
Почему-то, откуда не возьмись, в голову пришла мысль, Ринча в опасности. Ни с того, ни с сего. Вспомнил, где-то читал, когда человек умирает, в его голове крутится множество мыслей, словно бесценные бриллианты, они выхватывают из жизни немые картины и перед человеком предстают образы людей, которых ты запомнил.
Поначалу не придал значения невольно возникшим мыслям о смерти кого-то. Но я не равнодушный сноб.
В нашем поразительно сложном и быстротечном мире есть вещи, над которыми стоит задуматься вовремя.
Тут подумал, у Ринчи в голове проносятся мысли о книге, которую он так и не сумел завершить. И виноват буду в том я. Мне стало не хорошо.
В то время меня попросили отредактировать книгу, повествующую об истории учительства отдаленного района. Но рискуя многим, отложил книгу, над которой работал последний месяц. Хотя времени до сдачи в типографию оставалось позарез мало, да и заказчик названивал, приговаривая: «Теперь никогда авансом не буду платить».
Отбрасывая прочь все неминуемые риски для себя, взялся за «рукопись» Ринчи.
Что-то влекло меня к этим таинственным страницам, словно хотел открыть в них неизведанное, неразгаданное, важное, наверное, не только для меня одного…
Начинаю читать.
Поначалу, как всегда, трудно дается чтение, дневниковые, записанные иной раз второпях, записи воспринимаются сложно. Впрочем, всегда сложно начинать какую-либо новую работу.
Вдруг, перед тем как сесть к столу, выясняется, что не выполненных дел невпроворот. Но знаю – это лень говорит. Нужно во что бы то ни стало суметь перебороть в себе инстинкт лени. Чем чаще мы обманываем инстинкт лени, тем он становится слабее, а мы продуктивнее. Чем чаще мы идем на поводу инстинкта, тем он становится сильнее, а мы ленивее.
Отметил, слог у Ринчи хороший, фактура интересная. Я все больше и больше увлекался чтением, карандашом делал записи на полях, «убирал» порой целые абзацы, крестиком вычеркивая строки, а потом вновь возвращался к уже убранному тексту, чтобы на полях написать: «Перенести на страницу №…»
Хромала структура произведения, хотя, дневниковые записи, возможно, подразумевают это. Сразу понял, структуру произведения в хронологическом порядке воссоздать не удастся, так она и останется слабым звеном в книге. Будущему читателю придется трудно. Тем более, здесь хронология, как таковая, не соблюдалась.
Например, запись от 20 октября 1971 года – Ринчин уже пятьдесят дней, как студент Ленинградского университета. А пишет он совсем не на студенческую тему: о дяде Дабахе, оборонявшем Ленинград. А о студенчестве пишет в 1977 году, уже дипломированный молодой человек. Или 23 февраля 1973 года почему-то пишет о бабушке Дарбушихе, хотя о ней он писал и осенью 1977 года, весной 1980-го, зимой 1981-го, а начинает записи о ней, будучи школьником, в 1965 году. Или были записи под заголовком «Разговоры с отцом во сне и наяву» – то заметки на полстраницы, то на две-три, и все они датированы разными годами. Многие дневниковые записи вовсе не отражены в электронном виде, т.е. не набраны на компьютере. Выходило, теперь это моя забота?!
И я в который раз вспомнил слова Ринчи: «Добрый ты, на тебе будут воду возить…»
Было много других вопросов, которые по телефону не обсудить, нужно разговаривать тет-а-тет. К такой беседе я исподволь готовился, набрасывая нужные для обсуждения темы в ежедневник…
Глава III
И так, вернемся к дневникам Ринчи. Из его записей с удивлением понял, чем преимущественно занимался он в Ленинграде. Как и некоторые студенты, видимо, всем, кроме учебы. Впрочем, вот строки из дневниковых записей того времени.
«Прилетел в Питер, почти за две недели до вступительных экзаменов. Когда самолет начал снижение перед посадкой, вдруг потемнело. «Тушка» «нырнула» в грозовые облака. В иллюминаторе, рядом, сверкают молнии, но раскатов грома не слышно. Самолет трясет, как на гребенке ржавую «калошу», типа виллиса. Затем «ныряем» и снова взмываем, слышится, будто по салону раздается скрип и тихий скрежет, похожий на металлический хруст шпангоутов и переборок на подлодке, при погружении. Командир авиалайнера два или три раза просит нас, пассажиров, быть спокойными, говорил он это легким голосом и желал приятного приземления.
Уже вижу землю, темную, как в сумерках. В это время пилоты начали резкое снижение, и меня вдавило в кресло, а потом, наоборот, чуть не вырвало из кресла при наборе новой высоты и глаза мои, казалось, вот-вот вылетят из орбит. В ту же секунду послышался воющий, надрывный гул турбин. Одновременно самолет резко накренило влево, и я увидел автотрассу, по которой мчались мириады сигнальных огней машин. Показалось, самолет сию минуту рухнет на эти машины. Через несколько минут началась посадка, которая прошла на удивление мягко. На миг показалось, жизнь в Питере выдастся не простой, с лихвой придется испытать те же чувства, что и при посадке.
Но я ступил на питерскую землю и это мимолетное, секундное «показалось» улетучилось, так и не материализовавшись в моем сознании. Серое питерское небо быстро прояснилось, солнце сияло и улыбалось, предвещая хорошее настроение.
Чемодан оставил в камере хранения аэропорта, с собой взял портфель с документами и туалетными вещичками. На экспрессе приехал в город, в центр. Кондуктор объявила: «Мы на конечной остановке, в центре Ленинграда, на Дворцовой площади».
Прошелся взад-вперед, не знаю, куда идти, замешкался. Вокруг снует множество людей, и все торопятся. Справа повеяло прохладой, пошел на свежий ветерок. Выхожу на берег огромной реки, раз в десять больше нашей Ингоды. Всюду столпотворение – масса людей движется друг на друга, но находят проходы в толпе, и продолжают свой разнонаправленный путь.
Вижу, стоит мужчина на набережной, в руках удилище.
– Здравствуйте! Если возможно, подскажите, пожалуйста, как мне пройти на Невский проспект? – спрашиваю.
– Вот перед Вами и Невский, Вы рядом с Невским проспектом, нужно только сделать несколько шагов, – сказал он.
И ткнул пальцем в сторону бурлящей толпы, похожей на вулканическую лаву, плавно и уверенно текущей по широкой, метров в двадцать шириной, «зебре».
Там, в створе Невского, люди словно испарялись, превращаясь в миражи. А перед моим взором возникали все новые и новые спины, из-за которых выныривали идущие навстречу мне пешеходы и они надвигались, потом уходили мимо и прочь, словно меня и вовсе нет. В жизни, конечно, бывают несовпадающие и непересекающиеся вещи, которые находятся в одном и том же месте, в одно и то же время. Но эта толпа из отдельных личностей, индивидуумов, на моих глазах превращалась в единый организм, движимый непостижимой и непредсказуемой силой, и двигалась в направлении широченной, на мой взгляд, улицы, а из ее чрева шла, приближаясь, надвигаясь на меня, толпа, которая плавно обтекала мое место и исчезала где-то за моей спиной.
Тем временем заметил, как мой собеседник, свернув телескопический спиннинг, неторопливо оглядывал меня. Мне понравилось удилище, но не до него сейчас. Наверное, вид у меня действительно был испуганный, растерянный.
– Невский проспект – это как Арбат для москвичей, это как Елисейские поля для парижан, – сказал мой новый знакомый, беря под руки и подталкивая вперед, туда, на Невский.
Меня поразило, как незнакомец, бросив любимое рыбацкое занятие, пошел показывать Невский незнакомцу.
– Это парадная, главная улица нашего города, которая тянется от Адмиралтейства и до площади Восстания, – продолжил мой путник, не переставая подталкивать меня под локоть, мол, иди, иди вперед.
– Многие думают, главный проспект города назван Невским в честь главной реки – Невы. На самом деле – в честь Невского монастыря, Александро-Невской лавры. К лавре проспект и приводит, если долго, почти час, идти по нему от Адмиралтейства, где мы сейчас и находимся. Александро-Невская лавра носит имя святого князя Александра Невского. А он получил почётное прозвище «Невский» за победу над шведами на реке Неве. Так что названия главного проспекта и главной реки Петербурга всё равно связаны.
Я начал припоминать факты об Александре Невском из уроков по истории. Тут же понял, мало что знаю, кроме битвы на Чудском озере, и был обескуражен. Так хотелось сказать этому доброму и хорошему человеку хотя бы несколько слов, подтверждающих мои познания в отечественной истории применительно к невским ристалищам этого русского полководца.
– Невский проспект был первой платной дорогой Петербурга. За проезд до Невского монастыря с телеги брали пять копеек, а с кареты побольше – десять копеек. Вместо денег можно было заплатить булыжными камнями, которыми мостили улицу… Так и строился Невский проспект.
Я прикинул, это были не малые деньги, если быка до революции, как рассказывал отец, можно было купить за три рубля. Только сейчас вгляделся в своего нового знакомца. Одет просто, серый пиджак и рубашка в клеточку, не новые, но хорошо отглаженные брюки. А вот туфли, довольно старые, были начищены до блеска, и выглядели как новенькие, лакированные. Подумал, он похож на учителя. Мой спутник заметил, что осматриваю его.
– Вот, вышел порыбалить, но сегодня, видимо, уха накрылась, – мужчина как бы оправдывался.
– Разве в Неве рыбачат?!
– Еще как! Зимой хорошо ловится корюшка, любимое блюдо петербуржцев, а весной корюшка идет на нерест, за полчаса штук двадцать-тридцать поймаешь, вот и обед готов. Корюшку я ловлю обычно у Петропавловской крепости и у Заячьего острова, – он большим пальцем поверх плеча показал куда-то взад, в сторону громоздящихся старинных зданий. Я кивнул головой, поддакивая, мол, понял.
– А сейчас, летом, в Неве можно поймать ерша, леща, плотву…
Он посмотрел на меня, интересны ли мне такие подробности.
– Да, я тоже люблю рыбалить, там, в Забайкалье… У нас реки Ингода и Тура, может слышали?
– Нет, не знаю, к сожалению. Наверное, красивые места. Это же Забайкалье?
– Да, Забайкалье. Еще Чехов…
– Знаю эти высказывания Антона Палыча и уже завидую, что приехали из такого замечательного края…
– Завидуете мне?! – я был в недоумении.
– Да, мне хотелось бы побывать в Забайкалье.
– Да-а, у нас красиво! – только и мог сказать.
Мы продолжили путешествие по Невскому, я то и дело закидывал голову наверх, глазел то вправо, то влево, натыкался о плечи людей, извинялся, а мой «гид» все подталкивал меня вперед и вперед.
– А вот на это архитектурное и культурное чудо стоит посмотреть особенно внимательно – на Невском проспекте стоит кафедральный, то есть главный, православный собор Петербурга. Теперь это музей атеизма и религии, ять возьми, – в голосе этого, наверное, коренного, питерца я почувствовал нотки скепсиса или язвительности.
– Вот, смотрите, красоту эту… Нисколько не стесняясь прохожих, мой новый товарищ помог мне взобраться на краешек скамьи, чтобы быть повыше и разглядеть храм лучше.
– Ничего, ничего, взбирайся на скамью. В девятьсот пятом году эти скамьи служили баррикадами для революционеров. Так что они крепкие…
– И что, до сих пор целы?!
– Да! В царской России делали мастеровые люди – на века! – Собор был построен в честь Казанской иконы Божьей Матери. Так получилось, открыли собор в честь победы России над французами, когда Русская армия во главе с Кутузовым победила Наполеона. Французские знамёна и ключи от городов, взятых русскими войсками, выставлены в Казанском соборе. Здесь же похоронен сам Кутузов, а перед собором поставлены памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли. Так Казанский собор стал символом русской победы! – словно гид, без запинки, рассказывал мой товарищ.
– Ляпота! – громко воскликнул я. – Ведь так говорят французы!
Мой товарищ слегка ухмыльнулся.
– Красота по-французски звучит так: «la beauté», а если нужно выразить свое чувство о чем-либо впечатляющем, ну, как в нашем случае, можно сказать вот так: «magnifique».
Я покраснел.
– А слово «лепота» переводится с сербского на русский действительно как «красота».
Люди то и дело бросали на меня взгляды, порой укоризненные, не одобрительные и я спрыгнул со скамейки.
– Обязательно зайдите в собор – внутри он ещё красивее, чем снаружи. А сейчас видите величественную колоннаду перед собором, здесь девяноста шесть колонн. Такую же колоннаду планировали построить с другой стороны собора. Но не хватило денег…
– Вы, наверное, архитектор? – поинтересовался я.
– Нет. Тружусь слесарем-сантехником в Эрмитаже. Кстати, поговаривают, половина питерцев мечтает работать в Эрмитаже… Да, забыл представиться, меня зовут Владимир, – он щегольски щелкнул каблуками, галантно наклонился, заложив одну руку за спину, а другую удерживал у браво выгнутой груди.
– Слесарем-сантехником?!
Владимир слегка улыбнулся, видимо, в моем возгласе было столько эмоционального удивления, что он решил слегка отретушировать мое понимание о профессиях.
– Так-то я лингвист, закончил университет, филфак, я специалист по славянским языкам.
Тут, словно извиняясь, я подал ему руку.
– Простите, Володя, я и не представился. Меня зовут Ринчин. Хочу поступить в университет, на журфак.
– Вы что, стихи сочиняете?
– Нет, хочу получить образование, чтобы испытать себя на поприще корреспондента крупной газеты.
– Понятно, коллективный пропагандист…
Мне показалось, что слово «пропагандист» Владимир произнес с некоторым сарказмом, иронией. И тут он перешел на «ты», словно указывая на то, что мы уже хорошо знакомые люди, ни к чему фамильярности.
– Ринчин, ты, наверное, покушать хотел бы?
– Да, не прочь…
– Тут есть «Гастрит», может, там покушаем?
– Не против. А почему «Гастрит», слово какое-то… не аппетитное…
– Перед войной еще, наши большевики вознамерились соединить русский размах и американскую деловитость. И здесь, на Невском, открыли общепитовскую богадельню, поставили кафе-автоматы. Бросишь монетки, получишь бутерброд с сыром. А недавно это вместительное помещение переоборудовали в обыкновенную забегаловку-столовку, сегодня здесь подают вполне приемлемую пищу по невысоким ценам.
Пока Владимир рассказывал историю «Гастрита», мы уже перешли на другую сторону Невского, зашли в столовую. Не прошло и десяти минут, как мы уже обедали солянкой с лимончиком, сосисками с тушеной капустой, запивая какао непонятного цвета.
Мой попутчик, видимо, заметил мой тоскливый взгляд на эти блюда, поэтому сказал:
– Извини, портвейн тут не в почете, а под столиком разливать – запрещено. Да совсем скоро, если станешь студентом, будешь здесь утолять студенческий голод…
Пока мы ели, Владимир рассказал, что неподалеку, на углу Литейного, Владимирского и Невского есть место, которое называют «точка». Там настоящая агломерация разнообразных для городской молодежи заведений, где они встречаются, чтобы поболтать, «шлепнуть, или забалдынить, по чуть-чуть». Заведение это называется «Сайгон», к нему «присосалось» кафе-мороженица, а немного дальше по Владимирской есть буйный бар «Жигули». Здесь же по диагонали друг от друга расположились два гастронома, где отовариваются местные тусовщики, именуемые себя «франтами Бродского и Барышникова», а на самом деле обыкновенные алкаши, пьющие «Солнцедар» или чернильного цвета портвейн «Узбекистон».
А для туристов, в особенности из Финляндии, да богатых командированных на Невском есть рестораны «Москва», «Невский», «Универсаль» и «Волхов».
Видимо, я был настолько голоден, что решил повторить солянку с лимончиком, сосиски с тушеной капустой.
Володя лишь улыбнулся: «Ни один рот без капусты не живет».
– Я в детстве капусту терпеть не мог, а в армии приучился, голод не тетка, – припомнил я. – Был у нас мичман Шенец, так он говаривал «Без капусты животы пусты».
Мы рассмеялись, найдя общую тему про дела житейские.
– А когда я служил, был министр обороны Гречко, так нас каждый день гречкой кормили… Мы расхохотались.
– Кстати, дам тебе некоторые советы. Мне кажется, ты поступишь на свой журфак. Но с учебой особо не заморачивайся, главное без трояков сдавай экзамены, чтобы получать стипешку. Тебе нужно чаще бывать в Эрмитаже. Но не ходи с экскурсией. А выбери одну-две картины, сядь и смотри, двадцать-тридцать минут. Например, картину «Портрет дамы в голубом» Томаса… извини, запамятовал правильное произношение фамилии, кажется Гейборо, или Гейсборо. Сам художник не любил писать портреты, но был вынужден, так как жил бедно, частными заказами зарабатывал деньги на содержание семьи. Но удивительно, прославился-то он благодаря портретам. Ты сиди и вглядывайся в картину, и увидишь идеал утонченной красоты женщины, ее изящную естественность. И поймешь, какова она настоящая женская красота!
Владимир задумчиво улыбнулся.
– Или садись напротив картины Леонардо до Винчи «Мадонна Литта». Картина-то небольшая, но через пять-семь минут созерцания начинаешь чувствовать, ты уже там, в конце пятнадцатого века, видишь грустные, в слезинках, глаза младенца и нежнейший взор матери, устремленный на своего младенца. Ты всматривайся в картину, вдруг увидишь, оказывается, вырез в платье для кормления был зашит, но мать разорвала нитки и кормит ребенка. Представляешь, Ринчин! Мать желала отбить ребенка от груди, а мальчик, видимо, плакал и она пожалела его… И увидишь величайшую любовь матери к ребенку.
Кстати, Леонардо написал всего лишь девятнадцать картин, и две из них есть в нашем Эрмитаже. А еще познаешь творчество Матиаса, Рембрандта, Поль Гогена… Эти имена тебе сегодня неизвестны, а через два-три года не узнаешь самого себя, твоя душа наполнится таким кладезем знаний, эмоций, восхитительным полетом вечной красоты. Даже в тундре ты будешь ощущать себя крупицей Вселенной…
Я расхохотался.
Но Владимир вновь остановил меня укоризненным взглядом. На столе так и стояла тарелочка с рисунками ромашки и недоеденной, остывшей капустой, а я, молча, внимал словам моего нового знакомого Владимира. Как хорошо, что я встретил его в первые минуты знакомства с Питером!
– И вот представь, сидишь, эдак лет через двадцать в своем Забайкалье у стола, что-то пишешь для своей газетенки, и вдруг вспомнишь картину Томаса, словно видишь ее наяву. И буквально до последнего мазка знаешь эту гениальную картину, эти необыкновенно притягательные глазки дамы, ее полуоткрытый, вожделенный ротик, дивную шею с крестиком на бархатной подвеске, слегка оголенные плечики… И вспомнишь именно эту картину, а не лекцию о пропагандисте Ленине… Ты даже представить себе не можешь, но через…, ну, двести лет, забудут о Ленине, а картина Томаса будет вновь и вновь вдохновлять новые и новые поколения людей и каждый увидит в этой картине что-то свое, особенное, удивительное и неповторимое. Ведь мир забыл уже и о великой французской революции, и об Отечественной войне восемьсот двенадцатого года, канули в лету и первая и вторая мировые войны, а люди вновь и вновь толпами собираются и у «Мадонны Литта», и у «Портрета дамы в голубом». Вот что такое Эрмитаж!
Владимир отпил остывший какао.
– Отвратительный напиток, – поморщился он.
– Посмотри еще «Возвращение блудного сына» Рембрандта… Впрочем, изучи хорошо двадцать-тридцать картин и тебе этого сказочного волшебства хватит на всю жизнь. Я почти каждый день вижу эти картины, но знаю хорошо лишь полсотни. А еще, Ринчин, изучай питерскую архитектуру, она похожа на Париж, много ассоциаций: Пантеон – Исаакиевский Собор, Вандомская колонна – Александрийский столп, Версаль – Петродворец. Только Питер более холодный и строгий, а Париж – солнечный, в песочных тонах. А кто-то говорит, что Питер по архитектуре немного похож на Милан и Рим – такие же дома с гранитными фасадами, вымощенные мостовые, набережные и тихие заводи с крохотными мостиками, у нас таких пейзажей множество.... А в принципе, говорят, Петр Первый, начав строить Питер, мечтал, что он будет похож на Амстердам…
Своими познаниями о своем родном городе Владимир меня поражал и восхищал.
– Недалеко отсюда находится наш знаменитый «Сайгон». Рядом с входом всегда прогуливаются представители андеграунда.
– Чего-чего?!
– Андеграунда! Это – бородатые, сильно пьющие интеллигенты Невского. Основная масса таких праздно шатающихся людей, представители так называемой хипповской «системы»: хайрастые и с фенечками.
– А-а! Понял! Хиппи, значит! – успокоился я.
– Ну, слово это переводится приблизительно, как подполье. Они противопоставляют себя массовому искусству, массовой культуре. Часто они ждут концерта в рок-клубе и обязательно пойдут надоедать своему кумиру, аквариумщику Борису Гребенщикову. Настоящая питерская интеллигенция, не говоря уже о рабочих, относятся к хиппи с большим раздражением, потому что те не работают, все время ищут вписку и сидят на «аскето», то есть просят милостыню. Хиппи у нас в Питере пока не так уж и много, их главное «лежбище» в садике на углу Стремянной и Дмитровского переулка. Но что-то мне подсказывает, они будут размножаться как кролики.
Это сравнение позабавило меня, наверное, вид был у меня, довольно-таки интересный, понимающий. Владимир улыбнулся и спросил: «Что-то не так?»
– Про кроликов…, я знаю, как они размножаются…
– Ринчин, давай, не будем зооветеринарные подробности…
– Да, конечно, – мне стало не по себе. Нужно думать, прежде чем что-либо сказать, смекнул, с опозданием.
– Что посоветовать еще? Обязательно посмотри хореографические миниатюры Леонида Якобсона. Три года назад Москва разрешила питерцам организовать экспериментальную балетную группу во главе с Якобсоном, теперь они гастролируют по всему миру, успех офигенный. Такие постановки, как «Роден», «Русские миниатюры» в сравнении с классическим балетом коротки, как молния в ночи, безумно оригинальны, поэтому зритель приходит в восторг, в экстаз. Также рекомендую на годы учебы стать поклонником таких театров, как БэДэТэ Товстоногова, Кировский, покупай дешевые студенческие абонементы на вечера классической музыки, начнешь разбираться в музыке, понимать её. Для музыки не нужны переводчики, весь мир понимает. Словом, помни, учеба учебой, а культурное самообразование все-таки важнее…
Владимир не договорил. К нему подбежал бородатый мужчина. В очках из солидной, роговой оправы, под цвет бороды, рыжеватые со светло-коричневыми оттенками. Одет был оригинально, показалось, по-пижонски – светло-коричневый пиджак в клеточку со светло-синими полосками, почти такая же клетчатая рубашка и яркий, темно-синий, с позолочеными завитушками галстук, в нагрудном кармане пиджака – платочек, окаймленный под золото. Несуразно, на мой взгляд, выглядели на нем потрепанные джинсовые брюки, штанины внизу, у туфель, распущены в ниточки, а может, пришиты другие, образовывая темно-синюю бахрому. Приглянулись туфли – на толстенной подошве. А цвет неопределенный такой, не черный, а темный, с зеленовато-коричневатыми вкраплениями – цветные.
– Володь, есть тема, завязывай со всеми делами, срочно! Пришла барыга, прямиком с океана, нужно выкупать у боцмана вещи, срочно, срочно! Еле нашел тебя! Полгорода оббегал, чуть с ума не сошел!
Мужик тараторил, не обращая на меня никакого внимания.
Владимиру пришлось встать под его напором, мне показалось, он вмиг забыл обо мне, увидев питерского друга, а на прощание коротко бросил: «Ринчин! Есть гостиница на Черной речке, там места найдутся! Больше негде тебе заночевать».
И Владимир ушел, не оставив даже адреса, где можно его найти.
Впоследствии был десятки раз в Эрмитаже, ни разу его не встретил, да и как найти его, ведь там трудится более двух тысяч человек…»
Оторвался от чтения с трудом. Эти странички с рассказом о первом дне в Питере были отпечатаны на печатной машинке давным-давно, потому что такую, глинистого цвета бумагу, выпускали в семидесятые-восьмидесятые, позже газетная бумага пошла лучшего качества.
Ринчин на них в разное время разными чернилами делал поправки, некоторые строки вычеркивал, надписывал над ними от руки новые мысли и факты. Эти странички были скреплены большой, свинцового цвета, скрепкой, они очень надежны, упруги и могут служить, наверное, вечно. Таких скрепок уже нет, новые, никелированные, не ржавеют, их вид привлекателен, но они быстро теряют пружинистость, как и цветные, пластмассовые.
Следующая стопка страниц была скреплена степлером, значит, исписаны недавно. Просмотрев флешку, увидел, есть электронный вариант этих записей.
Вот они.
«Перед началом занятий повезли «на картошку» в Выборгский район. Ленинград окружен клубневыми плантациями второго хлеба – Бугры, Парголово, Шушары, совхоз «Ручьи» знакомы советским первокурсникам.
Но нас закинули подальше, на бывшие финские владения.
Место, куда нас привезли, до 1948 года называлась деревней Кяхари, финская деревня Выборгской губернии Финляндии.
Это интересно, недалеко от этих мест «гнил» когда-то и мой дядя Этигил, дневники которого много раз читал в отрочестве.
Пошел в магазин за сигаретами и познакомился с дедушкой, сидящим на крылечке. Он учитель деревенской школы, поэтому и рассказал историю своих мест.
Бытовые условия могли быть и лучше, но хоть крыша над головой надежная, из шифера, прорублены продолговатые оконца в дощатом, неотапливаемом бараке. Вместо кроватей сплошной настил из досок, на которых мы обустроились, положив матрацы с тоненькими одеяльцами и стираными-перестиранными простынями, пододеяльниками, наволочками. Все удобства, конечно, на улице – дощатый туалет и «армейские» умывальники с ледяной по утрам водой. Как в армии. Для меня это не в новинку, а вот для городских, заметил, туалет на улице доставлял определенные неудобства.
Расписание и дисциплина от флотских далеки: неторопливый, даже ленивый, подъем, скудный завтрак, никаких построений и планерок – собрались толпой и в поле. А там уже распределялись самостоятельно, кому и где работать, выбирая рядки с картофельной ботвой, длиной, наверное, с километр.
После обеда, состоявшего из щей, картошки с тушенкой, хотелось спать.
Меню не отличалось оригинальностью – картошка и тушенка, щи, гороховый суп, в котором намного больше картошки, чем всего остального, черный чай с двумя кусочками рафинада, а по утрам каша – то гречка, или рис, иногда манка, с непроварившимися, сухими комочками. У нас не было ни лопат, ни вил, впереди шел картофелеуборочный комбайн, нет, не комбайн, а рыхлитель, прицепленный к колесному трактору.
Рыхлитель вгрызается в землю специальными ножами и при движении вырывает клубни вместе с ботвой на поверхность. А мы идем следом, с уны- лым видом собирая картошку в мешки. Наполненные мешки оставляем на борозде. Иногда этот так называемый комбайн останавливался, что-то ломалось, мы ложились на теплую, взрыхленную и потому мягкую землю. Болтали с девчонками, знакомились. Симпатичность наших будущих однокурсниц не уродовалась даже телогрейками и сапогами, выданными из колхозного склада.
Потом солнечные дни, как-то вдруг и неожиданно, сменились дождливыми, работа стала в тягость. Нас, юношей, на журфаке почему-то подавляющее меньшинство, хотя я всегда до поступления в универ считал, журналистика – мужская профессия.
Девчонки на корточках ползали по полю, наполняя мешки, а мы грузили их в тракторные тележки. Мне казалось, нам досталась более легкая работа, ведь мы собирали мешки, быстро грузили в тележку, наполняли ее минут за двадцать. Жаль девчонок, они почти ползли по мокрому полю и собирали грязные клубни. Хотелось хоть как-то помочь им.
Но натыкался на суровые взгляды ребят, мол, куда лезешь, так и всех нас, грузчиков, заставят копаться в этих картофельных плантациях. Слово «грузчик» звучало почти как «интеллигент».
Когда картофельная эпопея закончилась, радовались, как дети. С первого октября приступили к занятиям, заселили в общежитие в студенческом городке на Московском проспекте. Занятия не впечатляли, нудное заучивание немецких слов и грамматических правил, две пары ежедневно, а также лекции и семинары по «марлену» – марксистско-ленинскому учению о печати, введение в языкознание, а также теория и практика орфографии и морфологии по русскому языку.
Я был в шоке. Перца добавил куратор группы, однажды сказавший: «Писать не научим, но дадим объем знаний, необходимый в жизни…», и этим поверг в уныние.
Наверное, три четверти знаний, которые давали первокурсникам, мне ни к черту не нужны.
Сразу захотелось перевестись на другой факультет, но понятия не имел, на какой?!
Впрочем, лики уныния продлились не долго. Сдружился с группой, с курсом, вместе с ними было интересно и весело.
Студенческая жизнь захватила, подмяла и помчала, куда, не знаю и сам. Отдушиной на этом фоне стали лекции по русской и зарубежной литературе, истории российской журналистики, истории античной литературы. Я с упоением слушал лекции по древнегреческой мифологии, героическому эпосу того времени и драматургии Софокла и Эврипида.
Наш однокурсник Жуков нашел первую «подработку» – в Ленинграде, на Васильевском острове, на улице профессора Попова, был Всесоюзный центр по гриппу и острым респираторным заболеваниям. Здесь клинически, на волонтёрах-пациентах, изучали действие противогриппозных препаратов. В Центр приглашались студенты для волонтерства. Риска для здоровья практически никакого, зато платили деньги, будь здоров – почти три стипендии за три недели. При этом выдавали месячные проездные билеты на все виды транспорта, бесплатно кормили три недели, а на время лечения – на четыре дня – выписывали медицинскую справку-освобождение от занятий.
Вводили в организм вирус какого-нибудь, например, гонконгского гриппа, температура поднималась до 38,5—39 градусов. Тогда врачи начинали лечить нас, студентиков, новыми противогриппозными препаратами.
Естественно, мы за два-три дня выздоравливали, и, как ни в чём не бывало, продолжали учиться. А врачи с тем же прилежанием по утрам и вечерам измеряли температуру, брали анализы до завершения срока эксперимента.
У меня есть, а теперь уже был, замечательный однокурсник Володька Жуков из Адлера. Третьим в нашей комнате жил араб с Ближнего Востока. Мы вознамерились создать образцово-показательную комнату – почти каждый вечер убирались, мыли полы, протирали пыль, нарисовали большой плакат, где Жуков, в образе грозного красногвардейца, указательным пальцем показывает на тебя и говорит: «А ты дал закурить члену нашей комнаты?!».
Еще придумали прикольную, на наш взгляд, шутку. После уборки дежурный по комнате должен был спрашивать: «Ну, господа, что еще сделать?!»
В тот злополучный вечер дежурил Санчес Пионль Пандора. Ребята же прозвали его Саней Бандера. Когда он прибрался и с ведром ушел в туалет, чтобы вылить грязную воду, к нам в комнату ввалились инспектирующие из райкома, да студкома комсомола.
Им понравилось оформление комнаты – оригинально и уютно. А тут входит Саня Бандера и, смотря на Володьку Жукова, с большим акцентом, говорит: «Мой господин, в комнате прибрался, что прикажете делать дальше?! Рапортовал Саня Бандера!»
Комсомольские начальники не были, конечно, в восторге…
Через три дня висел приказ ректора об отчислении Володьки за аморальное поведение, позорящее честь и достоинство советского студента.
Мне было неимоверно горестно, что все так получилось, но начинались первые экзамены.
Я не слишком-то усердствовал в учебе, часто пропускал лекции, даже семинарские занятия, потому что по совету слесаря-сантехника Владимира вовсю штурмовал Эрмитаж, знакомился с архитектурой Ленинграда, смотрел спектакли в БэДэТэ, часто бывал в Кировском…
Так что пришлось проявить немало изворотливости, чтобы сдать первую зимнюю сессию. Например, по античной литературе. Преподавательница – пожилая, с изысканными манерами женщина, истинная петербурженка. Речь ее – сплошная поэзия, слушаешь, как музыку, но ничего не запоминаешь, смотришь на нее, словно на сценки из сюрреалистического фильма. Картинки-сценки помнишь, а сути – нет. Она, казалось, никого не пыталась перевоспитать, переделать, просто хотела, чтобы студенты, в особенности, будущие журналюги, хотя бы немножечко разбирались в древнеримской литературе и мифологии. Она принимала студентиков-первокурсников такими, какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками.
– Ну-с, уважаемый Батадаев, давайте, послушаем, как Вы понимаете классическую эпоху расцвета литературы?
– Космогонические представления греков принципиально не отличались от представлений многих других народов. Считалось, изначально существовали Хаос, Земля (Гея), подземный мир (Тартар) и Эрос – жизненное начало. Гея породила Уран, от Урана и Геи родилось второе поколение богов – титаны… От брака Зевса и Геры родились Геба – богиня юности, Арес – бог войны, Гефест, олицетворявший вулканический огонь, скрытый в недрах земли…
– Да, товарищ Батадаев, у меня такое ощущение, что у Вас довольно оригинальное представление о древнеримской литературе…
– Да, оригинальное, – вторил профессорше. Вдруг взбодрился, вспомнив, как со словаком-однокурсником Йозефом шутя, ради хохмы, авось, где пригодится, выучил наизусть какие-то латинские фразы.
– Príncipiúm cujus hínc nobís exórdia súmet, Núllam r(em) e niló gigní divínitus únquam, – вдохновенно продекламировал я на латыни.
Заметил, как зашушукались за спиной девчонки-одногруппницы. —
Так, так, та-ак, – в недоумении или с долей растерянности протянула профессор.
– Это значит, изгнать этот страх из души, чтобы потемки рассеялись, – старался я перевести с латыни на русский свой монолог.
– Но рассеять должны не солнца лучи и не света сиянье дневного, а знания… Наверное…
– Это Вы Пиндара процитировали?! – вопрошала профессор.
Я уже и не помнил никакого Пиндара. Но не молчать же, в конце-то концов.
– Потом пошел процесс упадка литературы и расцвета драматургии… Сюжетами для пьес служили сцены из жизни Божеств… И был еще хор, сопровождавший все драматическое действо… Такое сегодня и представить сложно…
– Это вы правильно подметили…
– В произведениях древних римлян, в отличие от греков, преобладали символика и аллергия…
– Наверное, аллегория?..
– Ах, да, конечно же, аллегория. Это я от волнения…
– Да, чувствуется…
Профессор молча, неторопливо заполняла графу в зачетной книжке. Даже расписалась. Оставалось лишь поставить оценку.
– А за латынь Вам спасибо…
– Да, вот еще особенность… В отличие от современного театра в Греции не было постоянных трупп, да и профессиональные актеры появились не сразу. Первоначально играли, пели и танцевали сами граждане.
Профессор жирно написала «Хорошо» и подала зачетку.
– Благодарствую… с, – запинающимся языком пролепетал я и вышел из аудитории, кланяясь профессору, как ламе. Профессор улыбалась. Мне показалось, она жалела меня.
На экзамен по немецкому языку нужно было подготовить перевод газетной статьи, не менее ста тысяч знаков. Для студента, практически не знающего язык, это фантастически тяжелый труд.
«Что же делать?», – думал я. И пошел в публичную библиотеку на Невском. Пожилая библиотекарь встретила меня с интересом.
– Ну-с, где молодой человек работает или учится?
Она посмотрела студенческий билет и воскликнула: «У нас в старые времена бытовал анекдот: «Питерская публичка – братская могила ЛГУ», то есть вашего университета.
– Да, я в курсях, – небрежно бросил, хотя понятия не имел, откуда и почему пошел гулять по Питеру этот анекдот.
– Видите ли, уважаемая, мне нужна такая книга… или журнал… на немецком языке…
Библиотекарь слушала, внимательно рассматривая меня.
– Так вот… Чтобы там рядом присутствовали тексты на немецком и русском языках… Ну, чтобы не тратить время на перевод…
– Помочь могу, а каким должен быть текст, какой направленности?
– Политической, наверное, как в газете «Neues Deutschland»…
– У нас в основном научные статьи, философские… Хотя, подождите, что-то припоминаю… В архивах сохранилась одна интересная книжка… Статьи о революционерах, кажется, о Либкнехте, о Кларе Цеткин, Розе Люксембург, с переводом на русский язык…
Она набрала номер телефона, сказав: «Узнаю у каталогизатора, или у библиографа…»
Минут через тридцать принесли старую, потрепанную, видимо, уже реставрированную книгу довоенного издания «Рот-Фронт». «Странно, – подумал, – кажется, есть конфеты рот-фронтовские, а тут издательство».
На третьей странице прочел: «Карл Либкнехт (1871—1919), сын Вильгельма Либкнехта, был страстным агитатором. Силой своего глубокого убеждения и пламенным красноречием он пробуждал в массах волю к борьбе. Карл Либкнехт был одним из первых германских социал-демократов, открыто выступивших против империализма и опасности империалистической войны. Он был организатором международного юношеского движения…»
И тут же, на правой половине страницы увидел текст на немецком: «Karl Liebknecht (1871—1919), der Sohn von Wilhelm Liebknecht war ein Rührwerk. Kraft seiner tiefen Überzeugung und eine feurige Beredsamkeit er die Massen geweckt wird, um zu kämpfen. Karl Liebknecht war einer der ersten deutschen Sozialdemokrat, sprach offen gegen den Imperialismus und die Gefahr eines imperialistischen Krieges. "Er war ein Organisator der internationalen Jugendbewegung».
Я был на седьмом небе от радости.
– А можно взять книгу на сутки?
– Нет, работать с таким изданием разрешается только в читальном зале, – вежливо ответила библиотекарь.
– Хорошо, оставьте, пожалуйста, на сутки, завтра подойду…
На следующий день взял книгу, сфотографировал нужные страницы и отпечатал фотографии. Затем купил общую тетрадь формата А-4, страницы поделил пополам и начал старательно писать… Через сутки подготовил текст на сто тысяч слов с переводом, значит, готов к экзамену. Экзамен принимала Наталья Константиновна, молодая, симпатичная девушка, наверное, старше меня лишь на год-другой, зато уже дипломированный специалист, преподаватель университета.
Присев к столу, напротив преподавателя, стараясь быть спокойным, медленно сказал: «Deutsch – ziemlich logische und klare Sprache, können Sie alles nach den halbpunkten auszulegen. Liebe ihn mit jedem Tag stärker…»
Выучил эту фразу на всякий случай, помогал в этом словацкий друг Йозеф. Фраза переводилась так: «Немецкий – довольно логичный и четкий язык, все можно разложить по полочкам. Люблю его сильнее с каждым днем».
Наталья Константиновна широко улыбнулась, знала, мне очень трудно дается немецкий, с первых семинарских занятий поняла: у студента нет абсолютно никакой базы – ни грамматической основы, ни словарного запаса, произношение можно сравнить, видимо, со стрекотом пулемета. И такой сюрприз. От удивления и радости она только и произнесла:
– Да ладно… Ой… Ja okay…
– Наталья Константиновна, я сделал перевод, сто тысяч знаков. Но перевел научную статью о жизни и деятельности немецкого революционера Карла Либкнехта. Газета «Новости Германии» меня не вдохновила, а вот перевести текст…
Наталья Константиновна перелистывала страницы тетради, останавливала свой прекрасный взор в некоторых местах и приговаривала: «Ja okay… Ja okay…»
– Ну, что ж, в виде исключения приму этот перевод. Но в будущем попрошу все-таки переводить на русский язык текст из газеты…
Ринча понял: Наталья Константиновна прекрасно поняла подвох, но пожалела меня. Она заговорщицки, хитро улыбнувшись, посмотрела на меня, мол, есть, теперь, небольшой секрет один на двоих…
Я раскраснелся, чего за мной никогда не замечалось.
– Meine Erfolge werden sich nicht lange warten lassen, ich verspreche dass mein Geliebte Mentor Natalia konstanitnowna!
– О-о! – воскликнула, наверное, восхищенная этим мини-монологом Наталья Константиновна. Эту фразу «Мои успехи не заставят себя долго ждать, обещаю, мой любимый наставник Наталья Константиновна» тоже заучил с помощью Йозефа перед экзаменом.
Более парадоксальная, а может и анекдотичная ситуация сложилась на экзамене по истории компартии СССР.
Принимал экзамен старенький профессор Жуков, наверное, учивший историю еще в царские времена. Перед экзаменом я почти не заглядывал ни в учебники, ни в конспекты. В то время приходилось активно и увлеченно изучать Питерскую архитектуру, а историю, как считал, знаю превосходно, ничего сложного в предмете нет.
– Кстати, вы приехали учиться к нам не с Чукотки?! – Жуков расплылся в потрясной улыбке.
А мне показалось, он издевается надо мной.
– Я чукча в десятом поколении, – злорадно сказал ему.
Но дело было в другом – Жуков когда-то после университета короткое время работал на Чукотке, учительствовал, и его, конечно, интересовала нынешняя жизнь «на краю земли».
Но моя реакция очень удивила его. Внимательнее вчитавшись в имя и фамилию, он понял, допустил оплошность.
– И так, уважаемый, – профессор помедлил, листая страницы большой тетради.
– А почему Вы не пришли на экскурсию в Ленинградский филиал Центрального музея имени Владимира Ильича Ленина, дорогой Батадаев?
– Я был на экскурсии… Но не там… То есть, осматривал архитектуру Мраморного Дворца, где сегодня и расположился этот Ваш музей. Теперь знаю, здание возводилось по указанию самой императрицы и стало завершающим зданием Дворцовой набережной Невы. А строил его сам Антонио Ринальди, великий итальянский архитектор…
Профессор недовольно поморщился. Я распалялся все больше и больше. Мне казалось, этот профессор, старый питерский интеллигент, должен по достоинству оценить мои архитектурные познания. И, вдохновившись, продолжил:
– Императрица строила мраморный дворец для своего возлюбленного, графа Орлова, но, к сожалению, он не увидел этого восхитительного архитектурного творения – умер в 1783 году. Поэтому здание было подарено великому князю Константину Николаевичу…
– А кто это такой? – небрежно спросил профессор.
– Что вы, это же генерал-адмирал, второй сын императора Николая Первого и императрицы Александры Федоровны, младший брат императора Александра третьего…
– Так, так-с, – постукивал костяшками белесых пальцев профессор.
– Мраморный дворец знаменит английским кабинетом, готической музыкальной гостиной, нижней библиотекой – все это создал впоследствии великий князь Константин Константинович, сын…
– Хватит! – резко бросил профессор.
– А где конспекты работ Владимира Ильича Ленина?
– Вот, пожалуйста, – протянул тетрадь, которую держал в руках.
Профессор Жуков начал внимательно вчитываться в тетрадные строки.
– А что это за сокращения такие, вот, например, «раб. кл.» – спросил профессор.
– Рабочий класс.
– Мне показалось, пишете «рабы классные», – усмехнулся преподаватель.
Вдруг профессор начал машинально листать страницы, вчитываясь в конспекты классиков марксизма-ленинизма.
– Это же не конспекты, студент Батадаев?! Я вижу, Вы переписали первые и последние абзацы великих работ Ленина?! Как можно так?! Это же издевательство!
Он бросил тетрадь на стол. Немного успокоившись, спросил:
– Ну-с, господин Батадаев, расскажите-ка мне, как Вы читали Ленина?!
– Его вообще-то интересно читать…
– Вообще, или в общем?
Я понимал, что это деепричастие, в совершенном и несовершенном виде означает одно и то же. А понимает ли это профессор?! Ну, черт с ним:
– Особенно если сравнивать то, что он писал до революции, и то, что он писал уже в двадцатые годы…
– И что же Вас заинтересовало?
– Поначалу он писал о городе-солнце, который будут строить большевики, а позднее стал писать о борьбе с меньшевизмом, о монополии на хлеб, о расстрелах…
– Да-а, господин Батадаев, а Вы знаете, студенты, которые посетили мою экскурсию в музее Владимира Ильича Ленина, все получили «отлично». Не знаете, почему?
– Сие, наверное, известно, лишь Богу одному…
– О-о! Да Вы еще и в Бога веруете?
Молчание затягивалось, я понимал, допустил много ошибок на экзамене… идеологических ошибок.
А ведь профессор, казался, интеллигентнейшим человеком… старым питерцем…
Не удивился, когда он назначил переэкзаменовку: «Когда лучше подготовитесь, приму экзамен», – буркнул он.
Я был в хороших отношениях с замдекана, завкафедрой истории журналистики Хасбием Сергеевичем Булацевым. Не раз и не два играли блицпартии в шахматы. С Булацевым познакомил меня Владимир Георгиевич Комаров, доцент журфака, родом из Читы. Комаров рассказывал, что Булацев первым в СССР начал изучать становление провинциальной прессы не какого-то отдельного региона, а процесс развития региональной печати в целом по стране. Также он разработал новый курс по истории журналистики народов СССР, именно с подачи Хасбия Сергеевича началась системная подготовка профессиональных журналистских и научных кадров для национальных республик.
Премилейший человек был Хасбий Сергеевич, интеллигентный, вдумчивый, кумир многих студентов журфака.
Когда Хасбий Сергеевич спросил меня: «Как сессия?», ответил: «Все идет классно, но вот профессор Жуков на экзамене по истории обозвал чукчей и выгнал с экзамена…»
Ринча знал, на что давить, ведь замдекана чечен. На следующий день вызвали в деканат и объявили: «Переэкзаменовка через два часа. В присутствии декана».
Когда пришел в аудиторию, за преподавательским столом сидел представительный мужчина в очках. Увидев меня, он слегка улыбнулся, кажется, даже загадочно, мол, сейчас покажу, «где раки зимуют». Я узнал его – это профессор Владимир Георгиевич Ревуненков, завкафедрой новой и новейшей истории истфака. Декана журфака Александра Федосеевича Бережного, конечно, не было. В деканате, видимо, решили припугнуть именем декана наглого студентика.
– Будете тянуть билет? – спросил Владимир Георгиевич. – Или задам вопрос на засыпку?
– Давайте на засыпку, – поперхнувшись, вполголоса, промямлил я.
Владимир Георгиевич сидел, словно отрешенный от сего мира, взгляд его уперся на поверхность пустого, чистого стола.
– Ну-с, на засыпку, так на засыпку… Расскажите, пожалуйста, все, что знаете о девятнадцатом съезде.
Я думал, попросят рассказать о каком-нибудь национальном вопросе, о ленинской национальной политике, именно в этих вопросах я был силен. А тут, такой сложняк, этот скандальный съезд партии, созванный, говорят, против воли Сталина в октябре пятьдесят второго года, такое двоякое толкование этого съезда… Вспомнил, как недавно познакомился со студентом-земляком Зориком, с истфака. Он рассказывал, в годы репрессий половину преподавателей истфака пересажали в тюрьмы, и эта тема до сих пор там аукается.
И тут же решил, будь что будет, расскажу и по учебнику, и по «не учебнику». На курсе сблизился с Колей Вареник, он увлекался учением Плеханова, даже на книжной полке в его комнате красовались томики работ в темно-коричневом переплете с золотистым тиснением «Г. В. Плеханов». Как мантру Коля Вареник под хмельком частенько повторял, что в СССР нужна не эволюция, а революция. Но для этого потребуется, наверное, целое столетие, человеческой жизни не хватит на борьбу – нужно организовать новую партию, учить новые кадры, создавать новую теорию, социал-демократическую… В частности, Николай рассказывал о девятнадцатом съезде, он явился бунтом высшей партийной номенклатуры против стареющего Сталина, именно тогда было объявлено коммунистами, что «мы не большевики» и переименовали ВПК(б) в КПСС. Коля, вероятно, знал, что говорил, ведь отец его, по слухам, крупная партийная шишка.
– Это была уголовная разборка! – тихо, словно могли услышать, шептал на ухо Коля. – Авторитетные урки хотели прогнать своего пахана, для этого упразднили политбюро и создали президиум…
Вспомнив эти слова Вареника, я, наверное, дерзко улыбнулся.
– Вы готовы отвечать?! – спросил Владимир Георгиевич.
– Можно, буду отвечать не академически, а словно размышляя?
– Но, по сути, без заскоков, – посоветовал профессор. Видимо, был наслышан, до какого фантазерства могут дойти журфаковцы, эти будущие правдорубы пера и микрофона…
– Съезд известен, прежде всего, тем, что принял решение: ВКП(б) впредь именовать КПСС. В постановлении съезда отмечено: двойное наименование партии «коммунистическая» – «большевистская» исторически образовалось в результате борьбы с меньшевиками и имело своей целью отгородиться от них. Поскольку меньшевистской партии в СССР давно нет, двойное наименование партии потеряло смысл, тем более, понятие «коммунистическая» выражает наиболее точно содержание задач партии. Нужно отметить, предыдущий, восемнадцатый съезд партии, состоялся до войны, в тридцать восьмом году, и перерыв почти в пятнадцать лет фактически являлся нарушением устава партии…
– Так, хорошо, далее, не торопясь, – советовал профессор. – Политбюро было упразднено, образовали президиум…
– А какую должность занимал в те годы Сталин?
– Он был секретарем ЦэКа партии, а также председателем Совнаркома до конца войны, а потом – председателем Совета министров.
– Да, правильно, и председателем совета обороны в годы войны, – уточнил профессор.
– В послевоенные годы Сталин занимался хозяйственными проблемами, даже написал аналитическую статью «Экономические проблемы социализма в СССР». Мне кажется, Владимир Георгиевич, Сталин хотел отстранить партию от руководства страной…
– Стоп, стоп и ещё раз стоп! Кто это вам сказал? Неужели профессор Жуков?!
– Нет. Коля Вареник, мой однокурсник. У него есть вырезка из газеты «Правда», в которой написано, как Сталин говорил венгру, не помню его фамилию, что коммунистическая партия, какой бы она ни была популярной, является лишь маленькой частицей народа. А советский народ считает своим представительным органом правительство, поскольку оно избрано депутатами, за которых проголосовал весь народ.
– Это Сталин сказал лидеру венгерских коммунистов Ракоши, – уточнил Ревуненков.
– Эта мысль Сталина говорит о второстепенной роли партии…
– Ладно, достаточно… Скажите мне, сколько человек входило в состав президиума?
– Точно не помню, больше двадцати, а вот кандидатов было одиннадцать.
– Что еще можете сказать по президиуму? – пытливо смотрел Владимир Георгиевич.
– Сталин образовал еще бюро президиума, из пяти человек… Это для оперативного принятия важных решений…
Я понимал, нельзя останавливаться, делать большие паузы, нужно говорить и говорить… Все, что знаешь, ну, хотя бы помнишь…
– А еще Сталин выступил с краткой речью на закрытии съезда, он сказал, нашей стране и партии нужны проверенные, преданные коммунистической идее люди, патриоты и профессионалы. А не те, кто с помощью членства в партии заботится о своей карьере… Тогда же Сталин высказался против даже роста численности партии… Да, еще – Сталин присутствовал лишь в первый и в последний дни работы съезда, потому что прибаливал…
– Хорошо, Вы правильно ориентируетесь, знаете основные положения съезда…
Я видел, как профессор в крошечном блокнотике что-то записал, когда я говорил о Коле Варенике.
– Владимир Георгиевич, можно просьбу. Коля Вареник не говорил никаких слов про КПСС, это я приврал, кажется, подставил друга…
Ревуненков рассмеялся, тут же вырвал страничку из блокнота и отдал мне. Там было написано: «Вареник, журфак, отрицает направляющую и руководящую роль КПСС?!»
– Ладно, последний вопрос на засыпку. Расскажите, если что-нибудь знаете, о здании, в котором сегодня находится наш исторический факультет.
Я понял, Ревуненков узнавал у Жукова, что за студентик такой, этот Батадаев, собирающийся обыкновенное незнание предмета увести в плоскость дискриминации представителя национального меньшинства.
– Отвечу по существу. Здание двухэтажное, типичное помещение для торговли, четырехугольные лавки, обнесенные галереей – бывший Новобиржевой гостиный двор, строил его итальянский архитектор Джакомо Кваренги в пору расцвета торговли в новой столице Российской империи. В годы советской власти, бывший Гостиный двор стал студенческим гнездом: там разместились Вы и Ваши коллеги. Это случилось ещё до войны…
– С таким бы усердием Вам учить историю КПСС, – улыбнулся профессор.
– Да, кстати, когда сюда заселили истфак, здание перестроили для нужд университета: добавили третий этаж, изменили интерьер, а потом построили вестибюль с гардеробом и знаменитый среди студентов двухэтажный лекторий на четыреста мест, выполненный в виде амфитеатра.
Поначалу хмурый, как бы замкнутый в себе, даже в чем-то настороженный, Ревуненков подобрел, даже улыбнулся, испытующе, изучающе, смотрел на меня, словно пытаясь понять: кто он, этот молодой человек, фигляр или бунтарь, а может обыкновенный сноб?
– Вы не против, если поставлю Вам «отлично»? – вдруг спросил Владимир Георгиевич и этим вопросом, может быть двусмысленным, поставил меня в тупик.
– А я заслужил такую оценку своим сумбурным, порой сбивчивым ответом? – вопросом на вопрос ответил профессору.
Это, видимо, на секунду-другую обескуражило Ревуненкова, ожидавший, вероятно, ответа, как и от любого студента: «Конечно же!», но все же поставил в «зачетку» пятерку.
– Вообще мне интересно общаться с будущими журналистами, – сказал на прощание Владимир Георгиевич. – Они не ординарные люди, нестандартно мыслят. Ну, до свидания…»
Одним из таких «не ординарных» и «нестандартно» мыслящих, был Коля Вареник, из соседней комнаты. Мы с ним «корефанили», у нас были общие, часто обсуждаемые нами, темы – Достоевский и Плеханов. Для меня Федор Иванович был не понятным, а для него – гением.
Также мы спорили, кем был для русской революции Георгий Валентинович Плеханов. Если Николай считал его русским гением, сравнимого с апостолом Андреем Первозванным, то я считал, что он простой революционный литератор.
– Ты же должен знать, что Плеханов похоронен здесь, в Питере, рядом с Тургеневым, Белинским… Кстати, мать Плеханова являлась внучатой племянницей самого Белинского… И ты должен знать, что последняя воля Плеханова звучала так: «Похороните меня, как литератора»…
В наших дискуссиях принимали участие и наши однокурсники из Чехословакии. Они мало знали о Достоевском, и внимательно слушали наши прения, ведь по его произведениям придется сдавать экзамен.
Оказалось, творчество Достоевского у чехов и словаков было мало известно, и наши чешско-словацкие однокурсники почти ничего не знали о гениальном русском писателе. А Йозеф Седлак, словак из Братиславы, поделился, что в восьмидесятых годах еще девятнадцатого века был опубликован сокращённый чешский перевод «Преступления и наказания» в газете «Народни листы». Тогда чешская писательница Каролина Светлая так отозвалась о русском писателе: «Какой это великан, какой Христос!».
И это были все его познания о Достоевском.
Карел Гвардник поделился: популяризация, известность Достоевского в социалистической Чехословакии началась с инсценировок его романов на театральных подмостках, к началу семидесятых годов в театрах поставили около двадцати пьес.
– У нас, в СССР, много и хорошо знают о чешских писателях, – недоумевал Вареник. – Юлиус Фучик, Вацлав Гавел, Карел Чапек… Вот лишь навскидку, ваши литераторы… А вы?! Достоевского не знаете?! Как же так?!
Мила Невски, одногруппница, вскрикнула:
– Коля, Микола… Мила заступалась за свой народ: – первый президент Масарик после падения Австро-Венгерской империи, был поклонником Достоевского, он разделял взгляды Федара Михайлойвовича по многим религиозным вопросам, ценил психологизм в оценке человеческих побьюждений… Никола, не говори, что чехи не знают Достаевскакого…
Тут вскочил Йозеф:
– Франтишек Шальда, литературовед и критик первым у нас напечатал статью «Творчество Достоевского и его положение в Европе… И это было смело, накануне фашистского переворота в Германии…
Коля как-то сказал: «Слушай, у нас в СССР, очень хорошо знают европейскую литературу, а эти… даже о Достоевском плохо наслышаны… Тоже мне, братья называются…»
Тогда не придал значения его словам, ведь как всегда, Николай часто бывал категоричен в суждениях
Еще в деревне, на копке картошки, у вечернего костра, уже не абитура, но еще и не студенты, а лишь зачисленные, мы дискутировали на разные темы. Ну, надо же, в новом коллективе показать эрудицию, умение пощеголять знаниями.
Ну, конечно, о хорошем и плохом завязалась дискуссия. О вкусах и приоритетах, о поступках людей, затем, незаметно, дискуссия перевелась на самого человека. Были разные мнения, но большинство согласилось, хороший человек относится добрее к своим врагам, чем плохой – к своим друзьям, или лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого. Было над чем подумать: хороший человек не мстительный, не совершает зла, а если нужно, протянет руку помощи. А когда рядом плохой человек, да еще друг, то нужно помнить, он может предать, сделать подленькое исподтишка.
Но ведь отличить хорошего человека от плохого не просто. Я, наоборот, был мнения, что хорошего человека от плохого очень легко отличить. И сослался на бурятскую поговорку: «Хороший мужчина рассказывает об увиденном, плохой мужчина рассказывает, что ел и пил». Есть и другая пословица у бурят, что хороший мужчина хвалит своего коня, средний мужчина хвалит свою собаку, глупый мужчина хвалит свою жену.
Все расхохотались, действительно, все очень просто.
– Не бывает хороших или плохих людей, – парировала Лисичкина, дочь именитого питерского журналиста. – Хорошими или плохими людей делает то, как их воспринимают другие со своей точки зрения.
– Чтобы отличить хорошего человека от плохого, достаточно обратить внимание на то, как он смеётся, – улыбаясь во всю щеку, сказал парень с низким, ядреным мужицким голосом, эдакий крепыш, широкоплечий увалень.
Начался гвалт, каждый из нас хотел высказать свое мнение, мол, «встречают по одежке, а провожают по уму», но, конечно, суть этой поговорки глубока, по одежке, наверное, нельзя судить. а плохого от хорошего, различить и вовсе не трудно.
Но этот парень выставил железобетонный аргумент: «А ведь это сказал Федор Михайлович Достоевский!» Вот что он говорил, почти дословно:
– Для искреннего смеха, говорил писатель, нужны беззлобность и веселость, и только хорошие люди умеют хохотать добродушно, не пытаясь никого задеть и не выбирая повод, который может быть обидным для окружающих…
При упоминании имени Достоевского, споры увяли. А когда у костра, с сумерками, поредело, подошел к нему. Так и познакомились.
– А ведь Федор Иванович был игроманом, – говорю. – Однажды тысячу рублей проиграл в бильярд. Игрок – хороший человек, или как, по твоему?!
– У каждого человека могут быть пристрастия, даже у гениев, – парировал Вареник. – Но он один из лучших романистов мира.
– Джон Голсуорси, тоже один из лучших романистов. Почитай, кстати, лауреат Нобелевки. Его легко читать, колоритные персонажи, чопорные, влиятельные, сдержанные… Сага о Форсайтах, представляешь – сага… в четырех книгах. История семейного клана, целого английского рода, на протяжении двух веков…
– Ты так говоришь, глаза у тебя загорелись, словно сам бы ты захотел что-то подобное сотворить?!
– Да нет, куда мне?! Такие форсайты жили-поживали, да добра наживали в старой России, но революция смела их. Но форсайты живучи, они и в советском обществе, среди партактива, уже зарождаются, эдакие новые Ирэн и Филипп… Кстати, прошлым летом крутили по тэвэ сериал о Форсайтах…
– Нет, не смотрел, и роман не читал, не довелось как-то, – Николай, кажется, был обескуражен этим.
– А ведь четырехтомник о Голсуорси – это социальная критика буржуазного общества, почти что социалистический реализм.
– Да?! Поэтому, видимо, этот Голсуорси обожаем в Советском Союзе. Не всякого капиталистического писателя в Советском Союзе переводят и публикуют
– Читать Достоевского, конечно, трудно, сложно, это далеко не Набоков. Сплошное нагромождение слов и смыслов… Чтобы осмыслить, нужно перечитывать, думать, он прежде всего философ и психолог… Идиот, короче… Для меня чтение – это наслаждение, игра слов, ощущений, а не поиск мыслей, смыслов, преступник он или нищий неудачник…
Я, наверное, еще бы разглагольствовал на литературные темы, но Николай неожиданно спросил, так жестковато, словно удар под дых:
– Ты зачем в журналистику идешь? За игрой слов в статьях?
Я не знал, что ответить, сказал, что пришло сразу на ум:
– Суть вещей буду доносить до людей…
Коля расхохотался, не громко, втихую, уважая, видимо, меня, чтобы однокурсники не услышали. Не понравился мне Колин смешок, ехидный такой.
– Каких вещей?! В журналистике конкретика нужна. Железобетонная. Так мне отец говорит.
Я не унимался:
– Считаю важным показать обществу, что происходит в жизни на самом деле. Уверен, наш мир не идеален, не совсем такой, каким рисуют начальники и коммунисты. В газетах, на радио и телевидении мы слышим только их мнение, начальства, а простой человек или не может сказать правду, или боится… А жизнь не картина на холсте, она зачастую мазана черно-белыми оттенками, между ними нет оттенков чванства, хамства, лживости, беспредельщины… Хочу разукрасить реальность между черным и белым разными красками, донести до людей суть вещей, буду писать, что было в прошлом, что происходит в настоящем… Ведь без прошлого и настоящего нам не понять будущего..
– Ого-го, да ты не прост, Ринчин, бурятский Павка Корчагин будешь.
Сравнением с Корчагиным, кажется, мой новый товарищ чуть не положил меня на лопатки. Мне нравились его слова о смысле жизни, что нужно успеть в жизни то-то, и то-то.
– А ведь Островский, устами Павки Корчагина, в тридцать, ну, почти в сорок слов, вложил сколько смысла… Жизнь дается один раз…
– Вот эти его слова и есть железобетон!
– Не пори горячку, Коля, а сам то Павка бесцельно прожил, получается, умер, не сумел жизнь свою сохранить для борьбы… Правильно сказала Тоня Туманова, «Неужели ты не заслужил лучшей доли у новой власти…»
– Антагонисты мы с тобой, Ринча, разные взгляды у нас, – улыбаясь, проговорил Николай. – Не пролетарский ты будешь журналюга, на стороне власти строить баррикады будешь…
– Ну, ты заладил…На чьей стороне будешь?! Правду буду писать, показывать жизнь такой, какая есть… Без прикрас… А читатель сам поймет, он умный, наш читатель…
Дискуссии на подобные темы, видимо, нам понравились, это нас и сблизило, кажется.
Был он родом с Украины, но его отец, партийный работник, несколько лет работал на Урале, возглавлял крупное предприятие, впоследствии, его вновь направили на партийную работу в Днепропетровскую область.
Николай Вареник всегда умел находить интересные истории, так сказать, «в тему», подходящей к той или иной истории.
Я раньше никогда не слышал людей с фамилией «Вареник», хотя там, на флоте, каких только пареньков с чудными для забайкальца, фамилиями, не повстречал. И на Камчатке, и во Владике, на Улисе, и в учебной роте подплава, и на рембазе Павловск, Шкотовского района. Я частенько рассказывал Николаю, что вкусная у него фамилия, вспоминая парней-украинцев, с которыми довелось служить. И занятные же фамилии были у них!
– Был у нас в учебной роте парень Иван Соня, кажется, родом из Латвии, но украинец…
– Но Соня же не вкусная фамилия, – улыбался Коля.
– Вкууусная! – смеялся я. – Особенно в учебке, когда все время хочется дрыхнуть…
Командовал отделением электриков на подлодке Паша Ромашка, чубатый, крепкий паренек из Ужгорода. А Василь Недайборщ был призван из Сумской области, из деревни Новенькое, насколько помнится.
– Наливай, Налевайко, побольше борща Недайборщу из деревни Новенькое! А то чумичку отберу и передам Ринче!, – выкрикивал он «разводящему» за столом. А разводящим как раз был и Налевайко из Одессы.
Помню очень хорошо Вадима, по фамилии Вырвыкаша с Западной Украины, из деревни Павлоком. В «учебке» мы спали на одной двухярусной кровати, я – внизу, он – наверху. Вадя иногда рассказывал о поляках, с которыми они жили в одной деревне.
– Нас, украинцев, было в два раза больше шляхтичей, – рассказывал вечерами он. – Они высокомерные, каки то, злобливы… Зато здесь, на флоте, чувствую себя в своей тарелке…
Он мечтал, когда дембельнется, приедет ко мне в Забайкалье, женится на буряточке, и будет жить-поживать, без дрязг и скандалов с соседями-поляками… «Устал от косых взглядов», говорил мне… После учебки мы попали на разные подлодки, и, как то, встретились, обнялись.
–Нифига, корреспондентом стал, – позавидовал, кажется, он мне.
Из молоденького пацана, Вадя становился бравым моряком, голос даже огрубел. Почувствовал, Вадя стал настоящим «черпаком», крепким, опытным. А потом его подлодка через льды Северного океана отплыла в Северодвинск, и мы потерялись.
А Коля Вареник часто доказывал нам, что фамилия его производна от шведского Варениус.
– В скандинавских языках есть слово «vär», что значит «швея», – размахивая руками для убедительности, говорил он. – Но никак не от слова «варенье».
Николай делал паузу и продолжал:
– А скандинавское «vär», в свою очередь, как утверждают знатоки языков, корнями уходит к латинскому слову «varenus», что означает «красный».
А словак Йозеф, улыбаясь, добавлял:
– Кстати, «varenus», если с латыни, означает «варёный»…
Мы все хором начинали выкрикивать:
– И все-таки вареный, варенье вареное!
Николай сдавался: «Да ладно, уж, я ж к истине стремлюсь, вовсе не нахожу свою фамилию неказистой, или некрасивой» …
Курсом младше учился у нас Саня Сытый, родом из Ужгорода. Мы также проявляли повышенный интерес к происхождению этой довольно интересной фамилии. Не обязательно от слова «сытый», смеялись мы, но сам он был равнодушен к нашим изысканиям. Худощавый, среднего роста, он, кажется, действительно всегда был сыт, никогда не сдавал с нами банки-склянки для сдачи в пункт приема стеклотары. Мы же частенько занимались таким промыслом, чтобы наполнить наши желудки сытыми блюдами. Никогда он и кровь не сдавал, дабы бесплатно пообедать, да еще со стаканом портвейна.
Саня называл свой город Ужмисто, вместо Ужгорода. Оказывается, в старые времена в Малороссии разговаривали на малороссийском диалекте и город именовался мiстом, вот и, получается, Санек рекламировал для нас украинское произношение…»
На этом записи вновь завершались, а я вспомнил, как он приезжал зимой на каникулы, после первой сессии.
Перед отъездом Ринчи в Питер после зимних каникул, мы сидели с ним в моей съёмной комнатушке, как всегда, пили пиво.
– А все-таки я сделал выводы из моей первой сессии – надо учиться, а не балду гонять… Хотя и то, и другое…
Он не договорил, так как мы расхохотались. Потом забыли допить пиво.
Перед расставанием, сделал заказы, чтобы Ринча купил в Питере джинсы, пару рубашек, дипломат – такие кейсы, модные в то время… Это были легкие и удобные портфельчики из винилового пластика с замками. Дал ему две сотки. После многих лет, однажды при случайной встрече, Ринча спросил меня: «А остатки того пива, ну, помнишь, мы не допили, ты же наверняка в редакцию унес?!»
– Конечно!
– Я так и знал! – расхохотался Ринча, словно радуясь, что через много лет подтвердилось его предположение…
А вот заказы мои Ринча так и не исполнил. Тогда подумалось: «Про пиво вспомнил, а про деньги – забыл». Закрутился, наверное, а потом забыл. Да и встречались с ним случайно, мимоходом, раз в пятилетку – получив диплом, он осел в городе, потом уехал на БАМ, там, на северах, трудился более десяти лет, а переписываться мы не договаривались.
Иной раз слышал, как он живет, работает, от общих знакомых. А редкие встречи происходили, как правило, «на ногах» – он был с друзьями, я тоже, мы спешили по неотложным делам, разве парой фраз обмолвимся, похохочем, случайно вспомнив былые посиделки.
Глава IV
Я читал записи разных лет Ринчи, и понимал, это были не обычные дневники, а труд, близкий к документальной публицистике, к литературному жанру, и представляли собой пограничный жанр, который может рассматриваться в отдельных случаях как литературный или нелитературный текст. Поэтому, видимо, до сих пор, дневниковым записям присущи некая «двойственность», жанровая неопределённость.
Тут я вспомнил, ведь в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», автором дневников являлся сам Печорин. «Дневник» Печорина использовался, и как способ авторской характеристики, и как форма самовысказывания героя, и как предмет изображения человеческой души.
Знал ли об этом Ринча? Наверное, помнил. И сполна использовал его, как приём психологического изображения героя. Именно дневниковые записи вводят нас в сложный мир Печорина, заставляют поверить в неподдельность его душевных движений. Так получалось и с дневниками Ринчи.
Казалось, он делал наброски будущей повести или романа, писал давно, но особенно много и интенсивно в последние месяцы. В его дневниках были весьма неплохие философские эссе, лирические зарисовки, размышления по поводу и без оного. Читал набросанные талантливым пером пейзажные зарисовки, портреты людей, с кем он работал или встречался, целые истории, написанные в форме рассказа.
Вспомнил, в редакции районки, где встретились впервые с Ринчей, когда-то работал литрабом известный писатель Геннадий Донец. Рассказывали, он за ночь отпечатывал около десятка страниц текста, потом их сортировал, скреплял по две-три странички бельевой прищепкой, и развешивал на леске, укрепленной от стены до стены в его комнатке. Донец, говорят, не писал свой роман «За хребтом Сатымара» строка за строкой, страницу за страницей. А писал то, что его вдохновляло, а потом собирал все написанное, листок к листку, «связывал» их новыми страницами, которые воссоединяли предыдущие, и получалось, в конце концов, из этих ежедневных и изнуряющих душу и сердце трудов, талантливое произведение.
Наверное, он помнил эти истории, возможно, подражал. На одной из страниц своих записей Ринчин, уже в девяностые годы, красной пастой написал:
«Зачем мне этот дневник? В молодости казалось, когда-нибудь выпущу книгу очерков или рассказов. Конечно, мог бы выпустить уже не одну такую книженцию. Многие знакомые так и делают. Но уж слишком скучными, бесталанными казались эти книженции. Поэтому, наверное, начал просто вести дневник. Авось, пригодятся записи когда-нибудь. А может, просто начитался литературщины, всяких там тургеневских девиц и попал во власть литературного идеализма, схожего с альтруизмом. Но самые замечательные, на мой взгляд, слова о влиянии литературы на жизнь сказал филолог-фольклорист, преподаватель Ленинградского университета Владимир Пропп.
Мне пришлось однажды попасть на его лекцию. Запомнилось, он мыслил не традиционно. «Литература, – говорил он, – никогда не имеет ни малейшего влияния на жизнь (не на отдельного человека) и те, кто думают, будто это влияние есть, возможно, жестоко ошибаются. «Ревизор» не действовал на взяточников, а статьи и воззвания Толстого о смертной казни не остановили ни одного убийства под видом казни. Литература сильна тем, что вызывает острое чувство счастья. И Гоголь велик не тем, что осмеивал Хлестакова и Чичикова, а тем, как он это делал, что мы до сих пор дышим счастьем, читая его. В этом все дело, не в том, что, а в том, как. А счастье облагораживает, и в этом значение литературы, которая делает нас счастливыми и тем подымает нас над тоскливой обыденностью.
Чем сильнее поучительность, тем слабее влияние литературы».
Далее, уже на другой бумаге, новые записи.
«Вообще-то я хотел быть журналистом, наверное, поэтому дневниковыми записями «оттачивал» литературный стиль. Многие писатели начинали свой творческий путь с дневниковых записей. А может, готовил себя к тому, чтобы стать священником-ламой, ведь лама должен уметь выражать свои мысли, а для этого литературная работа очень кстати. Да, я хотел в одно время выучиться на ламу, но взял страх: буду сидеть в темноте дацана, а люди за советом будут ходить в райком партии. Отцу нравилась моя идея стать священнослужителем. Но когда сказал, что хочу стать журналистом, был огорчен: «Сынок, учись, например, на ветеринара, всегда сыт будешь…»
