Российский колокол № 1 (50) 2025
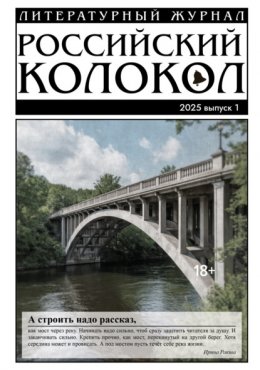
© Российский колокол, 2025
Редакция не рецензирует присланные работы и не вступает в переписку с авторами.
При перепечатке ссылка на журнал «Российский колокол» № 1 (50) 2025 г. обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Слово редактора
Дорогие читатели журнала «Российский колокол»!
Этим выпуском журнала «Российский колокол» мы открываем новый, 2025 год.
Как всегда, в новогоднюю ночь мы загадываем, что ждёт нас впереди. Убеждаем грядущее не скупиться – подарить нам всё, о чём мечтаем. Бегут месяцы, и ворчим мы и хмуримся: что-то не торопятся наши желания исполняться. А провожая год за праздничным столом, с грустью вспоминаем самое лучшее и доброе, что свершилось. И опять мечтаем и загадываем. Год, в который мы вступили, сулит нам много важных событий. Это год юбилея нашей Победы. И мы готовы к новым победам, вспоминая давнее и недавнее, всё, о чём скорбим и чём гордимся.
Этот выпуск журнала мы открываем рубрикой «Время героев», посвящённой юбилейной дате. В этой рубрике начинается публикация романа профессора МГИМО, поэта, прозаика, Дмитрия Необходимова «Город-герой». Роман, повествующий о легендарном Сталинграде и его защитниках, обращён к нам, прошедшим через советский «застой» и бурные 90-е годы, уставшим от бесконечной переоценки ценностей и вернувшимся к истокам нашей духовности.
Повесть «Ребята с нашего двора» лауреата российских и международных литературных конкурсов Ольги Семёновой о детях Донбасса 2014 года, которым досталось трудное и героическое детство. И читатель 2025 года прочтёт между строк о судьбах тех, кто вырос под грохот обстрелов и сейчас защищает свою родину.
В поэтическую рубрику журнала вошли фрагменты из книги замечательного крымского поэта, прозаика, публициста, лауреата литературных премий Валерия Митрохина «Юго-Восток». Порадуют изысканной метафоричностью, неожиданным видением мира, глубиной мысли стихотворения Марии Керцевой, Светланы Крюковой, Алексея Казанского.
В рубрике «Проза» мы завершаем публикацию романа Анастасии Писаревой «Игроки». Автор намеренно оставляет финал открытым. Она признаётся, что сделала это сознательно, ради сотворчества с читателем.
В рубрике «Метафора» по сложившейся традиции публикуются произведения, где события развиваются на грани реальности, где возможно всё невозможное и этим открываются новые истины. Здесь читатель найдёт рассказы Ольги Небелицкой «Органный комплекс» и Павла Алексеева «Я – опухоль».
Рубрика «Сатира» всегда интересна читателям злободневностью тематики и возможностью увидеть обыденность с иного ракурса. В этом выпуске журнала мы публикуем фрагмент из романа Светланы Чвертко «Райтер-хаус» о том, к чему приводит бесконечная писательская борьба за тиражи.
В новой рубрике журнала «Золотой фонд» мы планируем публикации произведений авторов, чьи имена давно стали достоянием нашей отечественной культуры. Ирина Ракша – писатель, кинодраматург и публицист поколения 60-х годов, кавалер государственных наград, лауреат многих литературных премий.
Вниманию читателей предлагаются фрагменты из последней книги, которая скоро выйдет в издательстве Интернационального Союза писателей «Верю, надеюсь, люблю».
И наконец, в рубрике «Литературоведение» мы представляем статью петербургского филолога, культуролога и философа Александра Крейцера с интригующим названием «Ложь Невского проспекта», посвящённую творчеству Гоголя.
Итак, в путь! Авторы первого выпуска журнала «Российский колокол» 2025 года ждут встречи с читателем.
Ольга Грибанова,
шеф-редактор журнала «Российский колокол», филолог, прозаик, поэт, публицист
Время героев
Дмитрий Необходимов
Город-герой
- Рвались сердца, тела сливались с камнем, кипела сталь…
- Разил бойцов, стоявших насмерть, железный град…
- «За Волгой нет земли!» – неслось с Кургана – в вечность, вдаль…
- Так устоял, не дрогнул и навек остался – Сталинград
Часть первая
…Смерть летела в лицо.
Иван вдруг отчётливо осознал её неотвратимость.
Время словно остановилось. Вернее, оно неимоверно замедлилось – для него одного. В это мгновение ему показалось, что он смог заглянуть за край времени, так бесконечно долго оно длилось. Заглянуть и успеть увидеть, что будет дальше, после той яркой вспышки и оглушительного разрыва перед ним. После того, как эти летящие с бешеной скоростью осколки врежутся в него, войдут в тело, размозжат и расплющат его. И он перестанет жить и чувствовать.
Иван увидел, как продолжится наша атака – уже без него. Как город, отвоёванный и спасённый высокой ценой, будет освобождён и возродится. А на земле воцарится мир. Возможно, он не будет прочным и долговечным, но всё-таки это будет мир, а не война.
И каждый день, как это было всегда, продолжит восходить, рождаясь, а потом закатываться за горизонт, точно умирая, большое, красивое, огненное солнце. Так и земная жизнь будет идти по кругу, подобно родившейся весной траве, что цветёт летом, стареет осенью и умирает зимой. Чтобы новой весной снова воскреснуть. И так – по извечному кругу жизни и смерти этого мира.
Только его, Ивана, в этом мире не будет.
Всю свою жизнь он, оказывается, шёл по этому кругу – к своей смерти. И пока он шёл, он радовался и печалился, приходил в отчаяние и надеялся. Он сражался и ненавидел. Он любил. Неужели именно сейчас всё кончится?
А почему бы всему и не кончиться? Разве как-то иначе это происходит? В этом мире, которому не было и нет никакого дела до твоей жизни. И до твоей смерти. В мире, который идёт своим чередом, а ты – своим. И лишь ненадолго тебе с ним было по пути.
Неожиданно громыхнул второй разрыв, позади него. Иван почувствовал, что его подхватывает ударной волной, подкидывает над землёй и с невероятной силой швыряет вперёд, туда – навстречу неумолимо летящей на него смерти.
И перед ним стремительно пронеслась одним длинным, но сжатым в единый миг воспоминанием, вся его непостижимая и необъятная, но такая короткая жизнь. Он успел ощутить, как она промчалась сквозь него, словно огненный вихрь, с размаху ударив в лицо потоком горячего воздуха.
Потоки горячего воздуха, разносимые ветром, дующим сразу со всех сторон, медленно струились вдоль улиц, приподнимая завитушки жёлтого песка на площадях и улицах. Несла, плавно огибая город, свои воды верная и давняя его спутница, величественная в своём спокойствии, – река. В жаркий июльский месяц 1942 года Сталинград жил своей обычной жизнью.
Однако город чувствовал нарастающую тревогу, она стягивалась к его окраинам, ткалась из незримых потоков, которые, подобно порывам ветра, раскалёнными струйками проносились сквозь него. Тревога эта сгущалась над ним, ощущалась в воздухе, пропитывала всё вокруг.
Город смутно помнил то время, когда он начал осознавать себя. Воспринимать себя живым. Живущим. Почти так, как, наверное, ощущают себя все его многочисленные обитатели, в особенности самые главные – люди. Ему никак не удавалось до конца понять этих созданий. Они всегда вызывали в нём огромный интерес, но он осознавал, что многие люди совсем не чувствовали его. Не понимали и не догадывались, что город, в котором они живут, тоже – живой.
Городу нравилось наблюдать за людьми. Они были очень похожи друг на друга, но у каждого из них был свой особенный свет. Это свечение, как и у любого живого и разумного организма, растения или существа, переливалось разными цветами, усиливая: от белого к ярко-красному, до темно-серого и опять – к белому. Наблюдая за людьми, город научился распознавать, какому настроению и состоянию соответствовал цвет, а также видеть причины и последствия изменений этих состояний.
Свет всегда сопровождал любого живущего человека. С самого момента появления жизни и раньше, ещё в материнской утробе, когда там зарождалась и начинала расти новая жизнь, необыкновенно маленькое, пока не сформировавшееся тельце человека соединялось с этим приходящим откуда-то сверху светом. И не расставалось с ним до самой смерти, после чего свет опять слабым, едва различимым бликом устремлялся вверх. А тело оставалось на земле и растворялось во времени.
Но город также видел, что не все сгустки света сразу устремлялись ввысь. Иногда они скользили вдоль поверхности земли, сливаясь с другими бликами. Многие из них летали, не отдаляясь слишком далеко от своего остывшего тела, как будто какая-то незримая связь прочно удерживала их. Часто это было связано с принятой у людей традицией погребения тел усопших в землю. И некоторые огоньки устремлялись вверх только после того, как тело было похоронено. Но многие, несмотря на захоронение, всё равно продолжали долго блуждать по городу, то исчезая, покидая его, то возвращаясь в город. Иные просто растворялись, как к полудню рассеивается утренний туман.
Неумолимо текло время по Земле. Ничто, никакая сила, помимо воли самого времени, не могла нарушить его ход. Невозможно было замедлить, ускорить или остановить его движение, если только время само так не хотело. Время проносилось и сквозь город. И видя, как сменяют друг друга поколения людей, наблюдая бесконечное движение их света по кругу, город не переставал удивляться тому, что все они были разными и каждый человек светился своим, принадлежащим только ему светом.
Однако некоторые из них помимо света излучали ещё и особое тепло. Оно было чем-то неуловимо похоже на тепло всех женщин, носящих внутри себя ребёнка и сиявших во время беременности гораздо ярче других людей. Ведь к их свечению добавлялся ещё и свет не родившегося пока ребёнка. Но у них это тепло со временем уходило, а у этих, особенных людей, теплота появлялась с самого начала и вела себя как и свет: то затухала, то усиливалась, в зависимости от текущего состояния человека. Город дал таким людям своё название – светлячки. Он подслушал это название у людей, и оно ему очень понравилось. Мысленно окрестив их так, он почувствовал, что тепло исходит из самого этого названия. Он знал, что в этом мире от имени зависит очень многое.
Городу особенно нравились эти люди-светлячки, он старался постоянно держать их в поле своего зрения. Он ждал возвращения одного из таких людей. Человек был далеко, но двигался в сторону дома. Город чувствовал это и ждал.
Он сам согревался от тепла таких людей, и это было очень приятное ощущение. Он и себя осознавал огромным живым существом-светлячком, от которого тоже исходят удивительные тепло и свет. А люди, живущие в нём, представлялись ему неотъемлемой частью его самого. Ему представлялось, что он, как беременная женщина, носит все эти находящиеся внутри него создания, как своих детей.
В такие моменты большой и сильный, очень многое повидавший на своём веку, суровый, спокойный, невозмутимый и беспристрастный город отчётливо, беспокойно и пронзительно осознавал необычайную хрупкость и незащищённость человеческой жизни в этом мире.
А тем временем в жаркий июльский воздух города подмешивалось не менее обжигающее дыхание людской войны. Высоко-высоко в небе летали чужие и враждебные самолёты-разведчики. Далеко на западе глухо звучали пушечные разрывы. На улицах города, в подъездах домов появлялись ящики с песком и бочки с водой для тушения пожаров после возможных бомбёжек. Во внутренних дворах предприятий и многоквартирных домов выкапывались изломанные узкие траншеи-щели для укрытия от авианалётов. Когда на улицы города спускалась вечерне-ночная темнота, электричество уже не включалось. Окна в домах закрывались, завешивались, затемнялись. Светились только прожекторы, механически ощупывающие ночное небо.
Вокруг и внутри города было беспокойно и тревожно. Он видел сплошное тёмно-серое свечение, надвигающееся на него издалека, с запада, а также беспокойные всполохи красных огней внутри себя и вокруг. Наблюдая всё это общее движение людских потоков из Сталинграда и в Сталинград, город чувствовал, как время само начинает изменять свой ход, незримо и почти неощутимо огибая город, и как неумолимо подступает в этом жарком июльском месяце к границам города грядущее.
Шёл уже второй год этой тяжёлой войны. Отлаженная, безукоризненно чётко работающая военная машина врага, прокатившаяся победным маршем по многим странам, не встретив практически нигде серьёзного отпора, увязла и забуксовала. И сейчас Сталинград ощущал себя центром притяжения для всей изломанной, разделяющей страну полосы фронта. Городу казалось, что решающая схватка с врагом будет здесь. Именно в этом месте и будет решаться судьба всей войны. Возможно, что здесь в итоге и решится, погибнет ли страна, раздавленная под фашистской пятой, или будет жить.
«…Жить. Жить! Только жить!» – стучало в голове старшего лейтенанта. Это была не столько мысль, сколько всеобъемлющее ощущение единственно оставшейся для него возможности, зародившееся где-то внизу живота, поднявшееся до груди и теперь побуждающее его бежать вперёд. Вперёд! Прочь от смерти!
Это чувство билось в нём, гудело кровью в висках, заставляло петлять в этом грохоте, не разбирая пути, уворачиваясь, как ему казалось, от постоянных разрывов то сзади, то спереди, то сбоку, от свистящих вокруг него пуль, чей горячий и тугой воздушный след обжигал ему руки и лицо. Ему казалось, что от следующей пули, от ещё одного взрыва ему уже не увернуться. Ведь нельзя, невозможно избежать того, что предназначено именно тебе. Но очередной снаряд, летящий прямо в него, как казалось ему по нарастающему гулу, каким-то чудом разрывался в стороне. И это заставляло его бежать ещё быстрее, снова и снова пригибаться и отчаянно петлять.
Не так он представлял себе свой первый бой с немцами.
На изнуряющем марше в эти душные майские дни и ночи сорок второго года, когда с каждым километром, приближающим его роту к линии фронта и передовой, приближалось и к нему то неизбежное и неведомое, чего он внутренне и пока ещё не вполне осознанно так страшился.
Старшему лейтенанту представлялось, когда они шли маршем, что местом его первого боя будет огромное, бескрайнее поле. Как в легендах про былинных богатырей, что сходятся с неприятелем в «чистом поле». С одной стороны ровной линией враг, с другой – наши ряды.
Но здесь чёрт знает что творилось с самого начала боя, который длился уже несколько часов. Ни в одном учебнике такого не было, ни на одном занятии с младшим комсоставом такие ситуации не рассматривались. Не было никакого поля, сплошная пересечённая местность, через которую непонятной изломанной линией проходил фронт, смешивая в одно целое и наши, и немецкие позиции. Весь участок наискось перерезался глубокими оврагами, которые сходились в огромную балку, и такими перепадами высот, что, отклонившись и пройдя вдоль оврагов в сторону, можно было оказаться в расположении врага.
В этом хаосе и беспорядке они сначала получили приказ удерживать позиции, а не наступать. Но не могли они удерживать позиции, когда на отдалении от них, вокруг, как слышалось по шуму и разрывам, кипели бои, а на них никто не нападал. И это непонятное ему ожидание и отсутствие неприятеля в такой момент выматывало ещё больше, натягивая канатом и без того натянутые нервы. Когда шум боя справа и слева от них начал затихать, уходя, как показалось старшему лейтенанту, далеко вперёд, к ним пришла команда атаковать противника.
И вот он бежал с поля боя.
Хотя в самом начале он в числе первых выбежал из окопа с криком «В атаку!». Первым роту в атаку поднял не он, а политрук. Теперь-то старшему лейтенанту было ясно, что политрук был по-настоящему смелым человеком. Не то что он сам.
Старший лейтенант так и не успел сблизиться со своим политруком. С самого начала встало между ними какое-то непонятое и невысказанное недоверие. За глаза он называл его особистом, хотя понимал, что никаким «особистом» тот не был. Он знал, что политрук ещё до войны получил военный опыт: побывал сначала на Халхин-Голе, потом сразу – на «зимней войне» в Финляндии. Почему после всего этого он стал политруком в их роте, а не, например, комбатом, было непонятно. Старший лейтенант опасался его. Он считал, что тот придирается к любой мелочи, ищет любой повод найти в нём изъян в том, как он командует подчинёнными. Но главное, он подозревал, что политрук чувствует его постоянно нарастающую тревогу и страх.
И когда поступила команда атаковать, в голове у старшего лейтенанта закрутилась навязчивая мысль: «Меня сегодня непременно убьют».
Тело одеревенело, ноги стали чужими и приросли к земле. Наверное, он сильно побледнел, потому что политрук посмотрел на него и, бросив: «Давай вперёд. Ничего не бойся», первым выскочил из окопа.
«Неужели он увидел, что я испугался?» – подумал он.
Старший лейтенант побежал из окопа тоже – от страха, что останется здесь один.
А теперь он бежал назад. Бежал и успевал удивляться тому, как непрестанно работает его мысль, с какой стремительной скоростью и удивительной отчётливостью в голове прокручиваются воспоминания о различных отрезках из его жизни: от секунды назад до нескольких лет. Мысли разбегались и смешивались, наскакивая одна на другую. Но отчётливее всего, заглушая всё и довлея над всеми мыслями, большими чёрными буквами на огромном белом плакате в его сознании пропечаталось: «Тебе нельзя умирать. Не сегодня. Не сейчас. Никогда! Надо сберечь себя. Надо любой ценой остаться жить».
Вихрем пронеслось в памяти детство. Он вспомнил, как пошёл в первый класс. Как сильно тогда он испугался бегущих с громким ором по школьному коридору его одноклассников-мальчишек. Он встал рядом с нарядными, в белых бантах, тихо стоящими девочками и только так успокоился. В классе он был самым лучшим учеником. Гордость родителей, гордость класса. Школу он окончил с отличием. Он всегда всё делал старательно, по правилам.
Потом было военное училище. Он лучший курсант. Он видел, как командиры одобрительно смотрели на него и невольно любовались его чёткими движениями, отменной выправкой во время смотра строевой подготовки. Потом, во время войны, была школа лейтенантов, успешно им оконченная. Он самый молодой лейтенант. Потом – старший лейтенант.
Многие вещи давались ему легко, он и сам всегда был лёгок и непринуждён. Многим он был обязан и своей внешности. Он знал, что он «хорош собой» и красив. Высокий, стройный, правильные черты красивого лица, прямой нос, высокий лоб, обаятельная улыбка, открывающая ровные ряды белых зубов. Он всегда нравился девушкам, женщинам.
Женился на красавице, словно из сказки. У них с ней двое чудесных детей. А как они прощались с ним перед его отправкой на фронт…
– Папа, я тебя буду очень шдать, – смешно прошепелявил ему младший, надувая бархатные щёчки.
– Береги себя, папочка, – проворковала дочурка, прижавшись к нему.
– Главное, вернись, – прошептала, целуя его, жена.
Как он может позволить себе не вернуться к ним?
Перед глазами у него вдруг встала другая картина, увиденная им, когда, простившись с семьёй, он ехал на вокзал: девушки – хрупкие, худенькие – несут по улице огромный аэростат. Их должно было быть двенадцать. Если хотя бы одной не хватало, их общего веса недоставало, чтобы удержать на земле громадную конструкцию аэростата. Старший лейтенант с интересом, как всегда он это делал, рассматривал тоненькие, стройные фигурки девушек. Внезапно подул сильный ветер, он дул всё сильнее, а они так и не выпускали из рук канатов, бежали, влекомые надувной громадиной, но продолжали держаться. И аэростат уже волочит их по земле, обдирая о тротуар незащищённые локти и коленки, того и гляди унесёт их неведомо куда, но девушки вцепились в канаты мёртвой хваткой, казалось, что их руки невозможно разжать.
«Почему они так упорно продолжают держаться? Странные…» – подумал он тогда.
А сейчас в голове старшего лейтенанта отчаянно крутилось: «Да пропади ты пропадом, война. Я здесь и не нужен никому».
Он бежал, словно его тащил какой-то невидимый аэростат, как тех девушек, и ему представлялось, что он совсем крошечный и бежит по чистому белому листу бумаги, но этот лист неведомые, враждебные ему силы подожгли с двух сторон. И огонь быстро приближается к нему, и надо успеть проскочить туда, вперёд, где пламя его не достанет. Он нёсся по дну одного из многочисленных бывших здесь кривых оврагов. Бежал, подстёгиваемый огнём, совершенно не зная, куда этот овраг его выведет.
Когда все поднялись в атаку, и он тоже, он начал постепенно замедлять бег. Не пробежали и двадцати шагов, как спереди и справа по ним открыли огонь. Засвистели пули – и начали, вскрикивая, падать ребята рядом. Иные, упав, продолжали кричать, иные падали молча и уже не двигались.
Впереди, высоко подняв руку с пистолетом, маячил политрук. Он бежал первым. Бежал прямо навстречу пулям и увлекал за собой остальных.
На бегу старший лейтенант споткнулся и, перекувыркнувшись, упал, оставшись лежать.
– Командира ранило! – закричали рядом с ним.
Один из бойцов, он не смог вспомнить его фамилию, подбежал к нему и, нагнувшись, тронул за плечо.
– Товарищ старший лейтенант, что с вами?
Повернувшись, старший лейтенант посмотрел на бойца и хрипло сказал:
– Ничего. Споткнулся я.
Боец изменился было в лице, но, подобравшись, спросил:
– А почему вы не встаёте? Вставайте, вам вперёд надо…
Ему показалось, что это было сказано с укором. Рассердившись и на бойца, и на себя, он, сморщив лицо, выдавил из себя:
– Ногу зашиб. Сейчас встану. Ты беги, беги вперёд.
«Зачем я соврал ему про ногу?» – успел подумать старший лейтенант, как вдруг боец неестественно широко и удивлённо распахнул глаза. Взгляд его застыл, и он бросился на старшего лейтенанта. Они столкнулись лбами. Боец цеплял одной рукой его за гимнастёрку, другой странно размахивал, как будто пытаясь что-то смахнуть со своей спины. На лицо, на шею, под гимнастёрку старшему лейтенанту потекло что-то горячее и липкое. Он закричал и только потом понял, что у бойца пошла ртом кровь.
Смертельно раненный дёргался и хрипел на старшем лейтенанте, а тот, оцепенев, не сбрасывал его с себя. Смотрел в подёргивающиеся мутной поволокой глаза и видел, как медленно и бесповоротно, с каждым толчком крови, из бойца утекает жизнь.
Откуда-то спереди и справа захлопало, в воздухе протяжно завыли мины, которые враг обрушил на их наступающую роту. Несколько осколков глухо, по касательной ударили в мёртвое тело бойца, которое как щит закрывало старшего лейтенанта. Эти глухие удары вывели его из оцепенения. Сбросив с себя тело бойца, он вскочил и увидел, что многие тоже залегли, прячась от мин, а теперь вскакивают и снова бегут в атаку. Далеко впереди, там, где всё ещё маячила крепкая фигура политрука, была какая-то стычка. Тёмные фигуры накатывались и рассыпались, разбиваясь, словно волны о берег, о передний край нашей атаки.
Старший лейтенант бежал за удаляющимися от него бойцами, всё замедляясь, прихрамывая, хотя не чувствовал никакой боли, весь перепачканный чужой кровью. В воздухе снова протяжно завыло и засвистело. Вражеские миномётчики скорректировали огонь. Мины летели и рвались теперь далеко впереди него, там, где был политрук.
Сквозь дым он увидел, как политрук начал взбираться на высокий край оврага. Остальные бойцы устремились за ним. До вершины оставалось каких-то три шага, как вдруг прямо перед политруком несколько раз рвануло, вздымая вверх комья земли вместе с травой и остатками низкого кустарника. Старший лейтенант увидел, как отбросило вниз политрука и бежавших за ним и как странно отлетела в сторону рука политрука, сжимавшая пистолет.
С того места, где он был, хорошо просматривался весь склон этого оврага. Старший лейтенант остановился, заворожённо, словно в тумане, глядя, как политрук поднялся на ноги и, пошатываясь, пошёл куда-то в сторону, как вместо правой руки у него висели, болтаясь, какие-то рваные полоски, как, наклонившись, политрук поднял с земли свою оторванную руку и зубами вырвал из мёртвой своей ладони пистолет. Отбросив руку, сильно раскачиваясь из стороны в сторону, взяв пистолет в левую руку, он что-то кричал и снова пытался подняться вверх по склону оврага, поднимая оставшихся бойцов в бой. Вокруг него полыхнуло, и он рухнул, растворившись в этих новых взрывах вокруг него, посечённый тяжёлыми осколками.
Очнувшись от навалившейся на него оторопи, старший лейтенант побежал, пока ещё вперёд, хотя уже и не прямо, а вдоль оврага, огибая его низом, по дуге, осторожно глядя туда, где в низине бесформенной массой, смешанной с землёй плотью лежало то, что осталось от их политрука.
Овраг кончился. Впереди открывалась, уходя в серый, смешанный с пылью и порохом туман, широкая балка. Старший лейтенант, спустившись в балку, пробежал так ещё какое-то время, пока не осознал, что бежит совершенно один. Вдруг он резко остановился и замер.
Впереди, всего в каких-то тридцати шагах от него, серой ревущей громадиной стоял заведённый немецкий танк. Ещё один, чуть в стороне, был подбит и горел, извергая густой чёрный дым. Поодаль в тумане угадывались очертания ещё нескольких, быстро удаляющихся, танков. Ближайший танк был повернут к нему правым бортом. Под башней, в обрамлении стальных рядов клёпок, старший лейтенант отчётливо видел чёрный, с белой окантовкой крест.
Но ужаснее всего были красные, как он сразу догадался – от крови, гусеницы танка. В этих гусеницах он разглядел перемешанные с землёй и тканью бурые ошмётки плоти. В одном месте белела, вся ободранная, застрявшая в гусенице человеческая кость. К горлу подступила вязкая дурнота, и согнувшегося пополам старшего лейтенанта обильно стошнило.
От башни танка в сторону одного из склонов балки пунктиром пульсировали две трассирующие линии. Это непрерывно били пулемёты, прижимая огнём, вдавливая в землю горстку залёгших в низине, за небольшим холмиком, бойцов из его роты. Вернее, то, что ещё от неё оставалось.
Со своего места старшему лейтенанту ясно было видно отчаянное положение бойцов. Среди них были тяжелораненые. Они редко отстреливались.
Бойцы его заметили, кто-то замахал стволом ППШ, ему что-то кричали. Послышалось «лейтенант» и «граната».
Его чёткий ум, как всегда, работал быстро. Старший лейтенант сразу точно оценил обстановку. Немецкие танки уходили с этой позиции. Возможно, тут было их боевое охранение, а теперь они передислоцируются. С задержавшегося здесь последнего немецкого танка, обстреливающего укрывшихся бойцов, его не видно. Правильным было бы воспользоваться этим и попытаться уничтожить танк гранатой. Он потянулся было к висящей у него на поясе гранате, но где-то глубоко в нём, заглушая и отодвигая голос разума и совести, заскреблось сомнение: «А вдруг не получится, не разорвётся граната или отскочит от танка и бесполезно рванёт рядом, как это, рассказывали, не раз бывало? Надо ли рисковать и высовываться?»
В его голове пронеслось: «Зачем они кричат и машут мне? Они же меня обнаружат и погубят».
Мелькнула предательская мысль: «Почему танк не стреляет по ним из пушки, а только пулемётами?»
Ему опять показалось, что он слышит, как со стороны бойцов до него доносится пронзительное и настойчивое «товарищ старший лейтенант…». Он стал осторожно пятиться, как вдруг танк взревел и двинулся с места. На миг ему показалось, что башня танка разворачивается в его сторону.
Этот миг решил всё в дальнейшей его судьбе.
Старший лейтенант резко развернулся и бросился бежать. Сняв с ремня всё это время мешавшую ему противотанковую гранату, он просто отбросил её в сторону. В сторону полетел и ставший теперь отчётливо ненужным во время бегства автомат ППШ с почти полным диском патронов.
До его ушей ещё слабо доносился отчаянный крик «товарищ старший лейтенант…», но он уже бежал. Бежал от зловещего немецкого танка, бежал от этого крика звавших его на помощь товарищей.
Сзади что-то оглушительно разорвалось. Спотыкаясь, падая, вставая на бегу, старший лейтенант, не оборачиваясь, почувствовал и не глядя – увидел, что выстрелом в упор фашистский танк разметал весь этот холмик, всё это ненадёжное укрытие и последнее пристанище его бойцов, весь остаток его роты. Но он не оборачивался, он бежал петляя, а ему навстречу, в лицо, бил поток горячего воздуха.
Страх хлестал его по глазам, по спине, по подгибающимся в коленках ногам. Он и представить себе раньше не мог, как много в нём страха. А ещё его терзало острое чувство обиды на свою судьбу, которая так несправедливо и подло забросила его сюда.
«Как же это подло и несправедливо, что я попал сюда именно сейчас, – думал младший сержант Иван Волгин, лёжа на своей узкой, сбитой из обрезков деревянной койке заволжского госпиталя. – Быть раненым в первый день боёв на улицах своего родного и любимого города! Вот же не повезло!»
Тесно заставленная рядами таких же коек палата представляла из себя, по сути, землянку, вырытую на глубине почти четырёх метров. Как ему рассказал сосед по койке, раненный в обе ноги говорливый мужичок Василий Маркин, землянки под подземный госпиталь рыл весь персонал, от санитарок и медсестёр до начальника госпиталя. Копали и днём и ночью, сооружали сначала землянки для своего жилья, а затем палаты, перевязочные, операционные и большую землянку-сортировочную. Проводили вентиляцию и обустраивали септики. Из брёвен и досок делали перегородки. Электричество на первое время обеспечивалось тремя тракторными двигателями.
На всём Заволжье, на берегах Ахтубы, по приказанию начальника санитарной службы армии было построено более сотни таких зарытых в землю госпиталей. Учитывая интенсивные бомбёжки и скудную местную растительность, прятать объекты военной инфраструктуры под землю было чуть ли не единственным выходом. Вот и размещали, зарывая под землю, штабы, блиндажи, склады и медсанчасти.
В отличие от своего соседа Маркина, Иван уже не был лежачим больным. Он мог передвигаться. Это в первые дни в госпитале ему было тяжело. Своё состояние он считал нормальным. Поэтому переживал, что его пока не выписывают и он вынужден терять время, когда другие воюют.
Он лежал на больничной койке, а в памяти его само собой возникало и медленно проплывало перед глазами всё, что было с ним до этого.
Иван родился и вырос в Сталинграде. Он не помнил и не осознавал прежнее, бывшее до 1925 года, название своего города. Гордился звучным и сильным именем – Сталинград, мысленно связывая его почему-то не с именем Сталина, а с чем-то другим – сильным, стальным. Было для него в этом имени что-то крепкое, грозное, несгибаемое и упрямое. Но вместе с тем родной город всегда был для Ивана добрым, тёплым и живым.
Семья Волгиных: отец Сергей Михайлович, мать Александра Ивановна и младшая сестрёнка Варенька – жила практически в самом центре города, на улице Советской, в доме номер 13. Это число Иван считал для себя счастливым, как и номер своей квартиры – 55. У него с детства сложилось так, что всегда, когда надо было что-то решить, важное или не очень, либо были сомнения, он мысленно считал до пятидесяти пяти и только потом действовал. Это могло касаться всего: незначительных мелочей и вещей вполне серьёзных.
От их дома номер 13 было рукой подать до набережной Волги. С родителями они катались на прогулочном пароходике по реке, на велосипедах – по парку Карла Маркса. Летом стояла неимоверная жара, от которой спасали растущие кругом развесистые клёны, дававшие тень, да ещё множество спасительных фонтанов, установленных по всему городу. В эту жару они много купались в Волге и потом, накупавшись вдоволь, грелись с Варей на тёплом песке пляжа. Для всей городской детворы это было особое, любимое место. По длинным деревянным сходням люди шли на переправу. До набережной они ходили с Варей через шумный сталинградский базар. Иван закрыл глаза, представились ряды с яблоками, мешки с воблой, корзины с огурцами, возы с арбузами, дынями. Ему сразу показалось, что он ощущает тот особый, родной сталинградский запах. Запах речной рыбы, рогожи и свежей волжской воды.
От их дома недалеко было до их любимой с Варюшей площади Павших Борцов революции с её просторными аллейками вдоль нарядных и ароматных клумб, скамейками, где всегда легко можно было найти свободное место, присесть и насладиться немного подтаявшим мороженым. И где по праздникам очень весело и хитро на всю эту площадь посматривал товарищ Сталин с огромного круглого плаката, растянутого на полстены дома на углу. От их дома было совсем недалеко до иногда подсыхающего летом русла тихой речки Царицы, в честь которой когда-то первоначально и был назван город – Царицын. Бегать туда Ваня любил, чуть забирая вправо, через уютную Октябрьскую площадь, с её неизменным трамвайным перезвоном, обгоняя по пути прогуливающиеся под руку парочки.
На одном из заброшенных пустырей вдоль берега Царицы произошла с ним история. Случилась она в кажущиеся неимоверно далёкими школьные годы.
«Не история, – думалось ему, – а испытание».
Из всех, выпавших ему потом, одно из первых. Испытание, которое Иван тогда не смог пройти.
Относиться к событиям в своей жизни как к испытаниям, которые надо пройти и выдержать, его приучил отец.
Спокойный и серьёзный, Сергей Михайлович, разговаривая с сыном, с малых его лет старался тому объяснить, каким должен быть человек.
– …Если он, этот человек, претендует на то, чтобы считать себя настоящим человеком, – часто добавлял отец.
Он рассказывал Ивану о том, что жизнь часто ежедневно испытывает тебя, подталкивая порой совершать неправильные поступки. И важно уметь постоянно, в любой ситуации выдерживать такие испытания, чтобы оставаться человеком.
Его отец не терпел вранья. Ещё Иван часто слышал от него, что никогда нельзя предавать своих друзей. Отец, не боясь затереть эти избитые истины и превратить их в ничего не значащие слова, старался донести их до сына.
Многое из того, что говорил ему отец, Иван начал понимать, лишь когда сам прошёл через многое.
Родители Ивана были инженерами. Вечерами в небольшой, но отдельной квартире Волгиных часто собирались друзья. Сидели допоздна. Бывало, что выпивали немного, но зато много шутили, смеялись, иногда громко спорили о чём-то, но всегда пели, и это были красивые песни.
Ваня с сестрёнкой Варей слушали их разговоры, подхватывали слова песен, ставших за столько вечеров знакомыми, хоть порой и малопонятными для них. Им нравились такие посиделки дома, когда они ждали гостей, когда стремительная, разрумянившаяся мама весело металась по кухне, накрывая на стол. Когда заметно оживлялся в основном серьёзный папа и начинал очень смешно шутить, когда гости постепенно собирались на их кухне.
Ваня смущался и молчал в присутствии гостей, а Варя, несмотря на то что была гораздо младше брата, вела себя очень смело. Она начинала засыпать вопросами и рассказами каждого приходящего к ним в гости так, что родителям приходилось порой оттаскивать её от них, шутливо приказывая отправиться в их с Ваней комнату.
Маленькая Варя никогда не терялась. По любому поводу у неё находилось своё собственное мнение. И не было для неё такого вопроса, на который она ответила бы «не знаю». Ваня всегда утверждал в таких случаях, что Варя просто не знает такого ответа – «не знаю». Удивительно, но он быстро научился извлекать пользу из этого упрямства младшей сестры. Когда она была ещё слишком маленькой, чтобы долго вечерами гулять одной, с ней гулял Ваня. И ему часто приходилось прибегать к одной хитрости, чтобы убедить отчаянно упирающуюся Варю, что пора уходить с детской площадки домой.
Сначала он говорил ей:
– Варя, нам с тобой срочно по важному делу надо идти домой, уже поздно.
Часто это не срабатывало. И Варя, готовясь громко разреветься, категорично заявляла ему:
– Нет! Я ещё долго буду здесь играть. Не пойду домой!
Тогда Ваня, напуская на себя немного загадочный вид, сообщал ей:
– Но надо обязательно идти, Варя. Ведь – аккумулятор!
Иногда вместо «аккумулятора» Ваня вставлял слово «квартал» или ещё какое-нибудь непременно сложное, непонятное Варе слово. И это слово действовало на Варю магически.
Не желая признаваться в том, что она не знает значения этого «умного и сложного» слова, Варя сразу становилась серьёзной. Затем она начинала прощаться со своими подружками в песочнице. Всем своим важным видом она показывала, что «раз уж тут замешан сам “аккумулятор”, то ничего не поделаешь: у неё появилось важное дело, и ей надо срочно отправляться вслед за Ваней домой».
От этого происходили смешные случаи. Иван улыбнулся, вспомнив, как однажды друг отца, дядя Витя, посмеиваясь над Вариным «всезнайством», спросил её:
– Варя, ты ведь всё знаешь?
– Да! Конечно, всё, – ничуть не смутившись, ответила Варя.
– А вот кто такой был, например, гладиатор Спартак? Знаешь?
– Да!
– И кто же?
Варя, подумав всего пару секунд, выпалила удивлённому и оторопевшему от её ответа дяде Вите:
– Он очень много сделал для советских людей!
– Да, тут ты права, трудно спорить, – со смехом отозвался папин друг.
Дядя Витя Семёнов был душою папиной с мамой компании. Шумный, остроумный, любящий розыгрыши, он нравился всем, а особенно детям. Его громкий смех и сильный голос перекрывали другие голоса. Как-то в один из вечеров он объявил, что сегодня он впервые сядет на шпагат. Он готов был поспорить с любым, что это у него выйдет легко и просто, без всякой подготовки.
Это всем показалось невероятным. Да и массивная фигура дяди Вити вызывала сомнения, что это вряд ли у него получится. Но когда все сомневающиеся заключили с ним пари и потребовали, чтобы дядя Витя незамедлительно исполнил обещанное, тот, нисколько не смутившись, вышел на середину комнаты и зычным своим голосом пророкотал, обращаясь к Ивану:
– Ванька! Неси шпагат!
Засмеявшись, Ваня принёс из кладовой моток верёвки, бросил её на пол, а дядя Витя, под общий смех и аплодисменты, торжественно уселся на неё.
– Вот я и сел на шпагат! – торжественно объявил он собравшимся.
Ваня хохотал тогда громче всех.
Но, несмотря на то что он очень любил дядю Витю, была одна вещь, которая ему в нём не нравилась. Это вечно ускользающие от собеседника глаза дяди Вити. Иван с детства привык заглядывать людям, с которыми он встречался или разговаривал, глубоко в глаза. Ему всегда представлялось, что там, в самой глубине глаз, у каждого человека есть что-то такое, что человек старается спрятать от других о себе. Он знал, что, прочитав и разгадав это, можно многое понять о человеке. В детстве Иван и в свои глаза пытался заглянуть поглубже, подолгу смотрясь в зеркало. У дяди Вити из глубины глаз проглядывало что-то жёсткое и колючее, что пугало Ваню тем, как сильно оно не совпадало с весёлым дядивитиным смехом.
Иван с сожалением вспомнил, как перестали у них дома собираться эти шумные компании.
В один из последних вечеров на кухне собрались все, кто обычно бывал. Не было только почему-то давнего папиного друга, дяди Серёжи. В тот вечер говорили тихо, не пели и не веселились. Из кухни еле слышно доносились приглушённо-напряжённые голоса. Но Ваня услышал, что разговаривали о дяде Серёже. В какой-то момент отец начал что-то резко высказывать дяде Вите. Всегда шумный и задорный, тот что-то тихо и невнятно ему отвечал. Внезапно отец отчётливо и сильно произнёс:
– Подлец!
Дети, слыша обрывки разговора у себя в комнате, вздрогнули. Варя испуганно зашмыгала носом. Задвигались стулья, в притихшей квартире застучали шаги. Гости начали расходиться. Первым, хлопнув дверью, ушёл дядя Витя. За ним, смущённо прощаясь, ушли остальные.
Отец ещё долго сидел с мамой на кухне, и Ваня слышал, как он горячо объяснял ей, что «Сергей никак не мог быть врагом, что он давно его знает. Они вместе через многое прошли, не мог он всё это время притворяться честным человеком и вредить Родине, что это ошибка и всё обязательно выяснится». Мама испуганным голосом просила его говорить потише. А отец, всё повышая голос, говорил: то, что сделал Семёнов, – подлость, что нельзя так поступать с друзьями, что он никогда бы не подписал то, что подписал Виктор и не выступил бы так, как он, на общем собрании.
Так они долго разговаривали. Иван с Варей легли спать, пошла спать и мама. Проснувшись ночью от жажды, Иван прошлёпал босыми ногами на кухню, чтобы напиться. Он увидел там при слабом свете настольной лампы под зелёным абажуром отца, который всё ещё сидел за столом и, замерев, смотрел в одну точку.
– Пап, ты чего не спишь? – спросил Ваня.
– Ложись спать, сынок. Чего ты встал? – вздрогнул отец.
Он притянул сына к себе, прижал и, как когда-то в детстве, поцеловал сверху вниз в макушку. Иван заметил, что глаза у отца немного красные, и испугался за него.
А отец, крепко его обнимая, горячо прошептал:
– Никогда… никогда, сын, не предавай своих друзей.
– Да я никогда, пап… – смутившись, пролепетал тогда Ваня.
Всё это промелькнуло единым мгновением перед Иваном. А прихотливая ниточка памяти, тянувшаяся откуда-то из глубины через дебри прошедших событий, снова привела его к тому царицынскому пустырю.
Тот пустырь на полувысохшем русле речки Царицы они с одноклассником, другом Сашкой, как раз и решили тогда облазить. Была блаженная пора школьных каникул. Самое их начало. В воздухе вкусно пахло всеми запахами лета. Казалось, что впереди вагоны и вагоны, просто бесконечные составы свободного времени и насыщенных вольготных дней. Без учёбы, без школы, зато с пляжем, Волгой и прочими радостями.
Они с Сашкой слонялись по городу, предоставленные самим себе. И как всегда, богатый на выдумки Санёк убедил Ивана, что там, на этом пустыре, можно найти старинные монеты, ещё царской чеканки. Эта идея захватила их. Постоянно Сашка что-то сочинял, а Иван ему верил.
Сашка год назад перевёлся в их класс. Его отец был военным, и до этого Сашка учился в разных городах: семья следовала за отцом, которого переводили по службе. Фамилия у него была смешная – Дудка. Но почему-то она ему очень подходила, так что над ней в классе никто не смеялся.
Сначала Сашка очень не понравился Ивану. Худой, на вид какой-то щуплый, невысокого роста, с чёрными, просто смоляными волосами, и при этом всё лицо его было в огромных рыжих веснушках. Наглая улыбка, резкий, громкий голос. Он никогда не лез за словом в карман. Громко и уверенно высказывал своё, иногда очень неожиданное и оригинальное, мнение по любому вопросу. Просто возмутитель спокойствия какой-то.
Свой статус новенького в классе он проигнорировал и смело и нагло влезал в любые разговоры одноклассников и дела класса. Очень подвижный и беспокойный, он являл собой полную противоположность спокойному и тихому Ивану. Весь класс резко поделился пополам: первая половина горячо приняла Сашку, вторая – испытывала к нему резкую неприязнь. Иван поначалу был во второй половине класса.
Но постепенно, приглядываясь к Александру, Иван, к своему удивлению, начал невольно восхищаться его открытостью, а также искренностью, граничащей с глубокой наивностью. К тому же Сашка обладал бесспорными талантами: его шутки были оригинальны и смешны, он красиво рисовал, но главное – сочинял какие-то совсем не по его возрасту «взрослые» стихи и песни, а также очень прилично пел и играл на гитаре.
Саня очень трепетно относился к своему отцу Павлу Александровичу, много о нём рассказывал. Отец его, бывший в звании подполковника, ушёл по возрасту в отставку как офицер запаса и через какое-то время появился у них в школе. Начал преподавать военную подготовку. После уроков вёл для мальчишек секцию борьбы вольного стиля, впоследствии переименованную в самбо. Он проводил в школе дополнительные кружки, готовил ребят к сдаче норм ГТО, противовоздушной и противохимической обороны – ПВХО, к «Ворошиловскому стрелку» и к «Готов к санитарной обороне».
«Да, в школе нас пытались серьёзно подготовить к войне, – подумалось Ивану. – Готовились, готовились, да всё равно не готовы оказались…»
Павел Александрович был строгий мужчина, невысокий, квадратный, с пышными усами. Санёк участвовал почти во всех школьных занятиях отца. Часто они ходили по школе вместе, одноклассники в шутку говорили:
– Вон, смотрите, опять Пал-Санка с Сан-Палкой пошли…
Ивана тянуло к Сашке. Проводя с ним всё больше и больше времени, он сильно к нему привязался. В итоге они крепко сдружились и стали просто не разлей вода. Всегда их видели вдвоём, они сидели за одной партой, вместе делали уроки, вместе иногда сбегали с них. Часто допоздна засиживались друг у друга в гостях, потом долго по очереди провожали друг друга до дома, расставаясь традиционно где-то посередине пути между их домами. Саня жил далековато от дома Волгиных, на Транспортной улице. Его семье, отцу-военному, выделили просторную квартиру в новых, недавно построенных в этом районе домах.
В тот жаркий июньский день они потащились искать эти древние монеты на пустырь. Сашка увлечённо рассказывал, что где-то в этом районе часто околачивается со своей компанией его давний враг, хулиган Колька Кивин. Однажды Кивин пристал к Саше, когда он возвращался домой из музыкальной школы, и если бы не гитара и не ноты в папке, которые разлетелись по брусчатке, когда Кивин его толкнул, то Сашка его бы обязательно взгрел по полной. И всё в таком духе.
И надо было такому случиться, что когда они продрались сквозь кустарники, буйно разросшиеся вдоль сухого берега, и вышли на небольшую плешивую полянку, то как раз наткнулись на компанию Кивина.
Им навстречу двигались пятеро пацанов, примерно таких, как они, ну, может быть, чуть постарше. Впереди шёл, небрежно засунув руки глубоко в карманы и нагло поблёскивая глазами из-под козырька серой пыльной кепки, надвинутой на самый лоб, не кто иной, как Колька Кивин собственной персоной.
– Вот чёрт, влипли, – только и успел ругнуться Санёк, – сходила бабка за монетками…
– Это же Кивин. И ты его сейчас «взгреешь», как собирался, – попытался сострить Иван, хотя ему всё больше становилось не по себе.
– Ага, взгрею, как же… Потом догоню и ещё раз взгрею. Только чего-то, Вано, мне ссыкотно…
Ватага приближалась к ним. Видно было, как напряглись, словно в стойке у гончих собак, их фигуры и все они внимательно смотрят на Санька с Иваном. Разворачиваться и быстро уходить было уже поздно, да и стыдно.
– Э! Пацанва, а ну стоять! – глухо пробасил Кивин и, отделившись от своей компании, быстро приблизился к Ивану с Сашкой.
– Деньги есть, пацаны? – хмуро обратился он к ним.
– Нет денег, – стараясь говорить спокойно и миролюбиво, протянул Иван, машинально ощупывая в кармане брюк всё своё богатство: три пятнадцатикопеечных монеты.
Уж очень не хотелось Ивану связываться с этими ребятами. Он чувствовал, как липкое ощущение страха начинает сковывать его движения, слова и даже мысли.
– Ну есть. И что? – вдруг с вызовом выпалил Саня.
– Опа! Это чо тут за фраера на катушках? – услышав ответ Санька, заорал один из спутников Кольки, долговязый, подстриженный под ноль пацан. Он приблизился к ним развязной походкой.
Смерив глазами Ивана, долговязый вдруг подмигнул ему и неожиданно улыбнулся. Улыбка оказалась какой-то совершенно детской, обезоруживающей. Иван, не удержавшись, улыбнулся ему в ответ. А долговязый, обходя их вокруг, неожиданно, исподтишка, сзади и сбоку, смачно врезал Саньку по челюсти и тут же отскочил в сторону. От неожиданности Саня чуть не упал, но выпрямился и замер, схватившись за челюсть. Так он стоял и молчал. Видно было, что он порядком струхнул.
– Не лезь! Я сам с ними разберусь, – одёрнул долговязого Кивин, и в наглых глазах его зажглись два угрожающих огонька.
Остальная компания, включая долговязого, плотно окружила их, рассредоточившись со всех сторон, правда, вплотную не приближаясь.
Кровь горячо прилила к лицу Ивана. На лбу выступил пот. Страх, чувство унижения и жгучий стыд – всё это смешивалось в нём, как в каком-то котелке, подвешенном над огнём. Иван понимал, что после этого подлого выпада долговязого он должен был наброситься на него. Надо было влезть в драку, а там будь что будет. Но ноги приросли к земле. Только сильно стучало сердце, отдаваясь где-то в висках.
На всю жизнь Иван запомнил тот постыдный для себя случай, когда, испугавшись, он не вступился за друга. Фактически предав его. Потом, во многие минуты опасности, у него в памяти вихрем проносились воспоминания того дня, и это помогало ему справляться со своим страхом.
А тогда Колька Кивин двинул совсем не сопротивлявшегося ему Санька по лицу. Разбил тому губу, кровь потекла по подбородку. Потом Кивин харкнул им под ноги, процедив обоим:
– Ссыкло.
И, медленно развернувшись, пошёл догонять свою компанию, которая потеряла к ним всякий интерес. Погогатывая, они уходили с этого ставшего печальным и мрачным пустыря – свидетеля их позора.
Они какое-то время стояли и ошарашенно смотрели друг на друга. Неожиданно Сашка, растянув разбитые губы в улыбке, дурашливым, нарочито высоким голосом прошепелявил:
– Штрашно мне чего-то стало…
Иван не удержался и прыснул от смеха. Но тут же серьёзно добавил:
– Да и я, Саня, испугался, если честно. А должен был длинному по кумполу настучать, а ты – с Кивиным этим подраться.
– Да они бы нас впятером уделали бы, наверное. Как хорёк тараканов…
Они немного помолчали, обдумывая, как бы эти пацаны их «уделали». Санёк неожиданно предложил:
– Слушай, а давай их догоним и надаём, а?
Внезапно обрадовавшись такой возможности реабилитироваться, хотя бы в собственных глазах, Иван с готовностью ответил:
– А давай. Побежали! Они недалеко ушли.
Дальнейшее со стороны выглядело очень глупо. Прячась за деревьями, углами Иван с Сашкой догнали компанию Кивина. Колька шёл чуть позади остальных, разговаривая с каким-то щуплым пареньком. На этих двоих сзади, без предупреждения, совершенно по-глупому и по-подлому, налетели Иван с Саней. Санёк сбил с ног щуплого. А Иван, отвесив увесистого пинка Кольке, да такого, что он сам, как ему показалось, чуть не сломал об него ногу, лихорадочно замолотил кулаками по затылку Кивина. Кепка с того слетела, сам Кивин, пронзительно заорав, свалился тоже.
– Валим! – крикнул Саня.
И друзья, резко развернувшись, ринулись убегать.
Пробежав, петляя по дворам и пустырям, с километр, они, задыхаясь, обнаружили, что за ними никто и не гонится.
Отдышавшись и не сказав друг другу ни слова, они разошлись по домам в тот день.
Странно, но после этого случая кивинская шпана их зауважала и больше никогда не трогала. А со временем сам Колька Кивин даже немного сблизился с Саньком. Сошлись они из-за умения Сашки играть на гитаре. Однажды Колька, держась, как всегда, нагло и независимо, заявился домой к Саньку и сурово попросил дать ему несколько уроков игры на гитаре. Кивин, оказывается, страстно хотел научиться «лабать» дворовые матерные песенки. Особенно ему хотелось петь под гитару свою любимую: «Свинчаткой вдарю я по тыкве волосатой…» – грустную песню о том, как «фраерам» никак «не дают жизни» злые «мусора». А учиться в музыкальной школе ему было западло. Санёк за несколько занятий успешно научил его нескольким блатным аккордам.
Думая об этом, Иван вспомнил и смерть хулигана Кольки Кивина.
Погиб Николай Кивин, когда они тяжело отступали к Дону. Их стрелковая дивизия, будучи в составе теснимой фашистами 64-й армии, находилась после изнуряющего ночного перехода на отдыхе в районе станции Ложки близ хутора Логовский.
Отдых, так толком и не начавшись, был прерван приказом заместителя командующего армией выступить с занимаемого района для подготовки оборонительного рубежа по восточному берегу реки Лиска в районе хутора Бурацкий. Основной целью было помочь находившейся на том участке малочисленной бригаде морской пехоты, обеспечивать стык с 62-й армией и не допустить прорыв противника в глубину обороны.
В сущности, для Ивана это были бои на дальних подступах к Сталинграду. Так он это для себя и понимал.
На базе оперативного управления Юго-Западного фронта 12 июля 1942 года был создан фронт, связанный в своём названии с родным для Ивана городом – Сталинградский. Этот фронт объединил в себе целых семь общевойсковых армий, да ещё одну – воздушную. К тому же все знали, что на базе резервных армий Сталинградского фронта дополнительно формируются ещё две армии – танковые. «Большая сила!» – думал тогда Иван.
Командующим Сталинградским фронтом был назначен маршал С. К. Тимошенко, а с 13 августа сорок второго командующим фронта будет генерал-лейтенант А. И. Ерёменко. Перед фронтом была поставлена задача остановить противника, не дать ему выйти к Волге.
Это были трудные дни. Приходил приказ отступать – и они отступали. Иван тогда много думал над этим. Он пытался себя успокоить, что в этих длительных отступлениях имеется какой-то скрытый смысл. Может, надо было дать немцам глубоко завязнуть в своём наступлении, растянуть свой фронт, а значит, и всю линию атаки? А следовательно, всем этим ослабить врага? Думая так, он понимал, что обманывает самого себя. Пытается найти оправдание всему происходящему. Получается плохо.
Но уж очень неравными были силы. К началу боёв на сталинградском направлении против наших войск были выдвинуты четырнадцать немецко-фашистских дивизий, превышавших советские войска почти в два раза по численности и количеству орудий. В три раза у немцев тогда было больше самолётов. Существенное превышение было и по количеству танков.
Огромной железной махиной катились фашистские войска по родной земле к Дону и Волге, стремясь подмять, растоптать и уничтожить всё, что встречалось ей на пути. Колоссальная поддержка была у немцев с воздуха. Немецкие самолёты, по сути хозяйничая в небе, наносили огромный урон нашим войскам и всей наземной инфраструктуре. Они бомбили и мирные поселения.
Потери нашей армии были огромными. Необстрелянное пополнение сразу бросали в бой. На смену выбывшим прибывали новые бойцы. Казалось, что единственное, в чём нет недостатка у нашей необъятной Родины, так это в живой силе. Промышленность страны разместилась почти вся за Уралом, в Сибири и работала как никогда напряжённо, круглосуточно, пытаясь обеспечить армию тяжёлой техникой, танками, снарядами, вооружением и всем, что требовалось. Но всё это как будто оседало где-то в резерве, не доходя до фронта.
Ивану хотелось верить, что где-то там, в тылу, наливается огромной силой сжимающийся кулак возмездия. Кулак, который пока не виден и который всё никак не обрушится на головы врага. И надо ждать. А воевать приходилось здесь и сейчас, рассчитывая при этом исключительно на свои, тающие с каждым днём силы и ресурсы.
Тогда, в июле сорок второго, принимая пополнение в своё на две трети поредевшее отделение, Иван, считающий себя уже опытным и стреляным бойцом, с неудовольствием отмечал совсем «небоевой» вид прибывших бойцов. Двенадцать щуплых мальчишек, сжавшись в кучку, неровно сгрудились вдоль линии окопа. Они с опаской смотрели на него, вздрагивая и вжимая голову в плечи от дальних разрывов немецких снарядов. Разрывы ложились вдалеке от их позиций, поэтому «старики» не обращали на них внимания.
И тут, присматриваясь к отдельно и как-то независимо от всех стоящему пареньку, Иван наткнулся на наглые глаза Кольки Кивина.
– Привет, земеля, – протянул Кивин, первым узнав Ивана, – ты у нас за командира будешь, чо ли?
Странно, но Иван очень обрадовался ему. На войне всегда радуешься встреченному земляку. И не важно при этом становится, что в родном городе вы совсем и не были друзьями. Такое же чувство, похоже, испытывал и Колька. И поддавшись этому какому-то неожиданному порыву, Иван, подойдя к нему, вдруг приобнял Кивина и дружески похлопал того по плечу.
– Ну чо, воевать-то будем? Или обниматься? – отстраняясь, буркнул Кивин каким-то другим, чуть дрогнувшим голосом, в котором уже не звучали те нагловатые нотки, что слышались вначале.
Пополнение принимали в полдень, а к трём часам дня половина из них погибла при авианалёте. Погиб тогда в неравном бою пехоты с тремя «мессершмиттами» и Николай Кивин.
Сначала над позициями дивизии долго болталась в воздухе «рама». Так из-за особой двухбалочной конструкции все называли немецкий самолёт-разведчик «Фокке-Вульф». Широкий размах несуразно длинных крыльев с расположенными на них моторами и соединённая двойная хвостовая часть придавали самолёту форму, напоминающую рамку для картины. По самолёту-разведчику не стреляли, это было бесполезно. Да их и не опасались, с «рамы» редко сбрасывались бомбы. Стрелять было слишком высоко. А зенитной артиллерии у них тогда в дивизии не имелось, несмотря на наличие целой отдельной зенитной артиллерийской батареи. Не было пока зениток.
«Рама» удалилась, оставляя высоко в небе слабый серебристый след. Через полчаса воздух прорезало монотонное и нарастающее, знакомое уже Ивану отвратительное гудение. Летя друг за другом, к ним приближалась тройка «мессершмиттов». По команде «Воздух!» всё пришло в движение. Солдаты разбегались с открытых участков, искали укрытие. Многие при этом занимали удобные для стрельбы вверх позиции.
Так уж сложилось, что всегда при виде немецких самолётов наши бойцы открывали огонь изо всех видов стрелкового оружия. Повелось так не сразу, не с самого начала войны. Стреляли из винтовок, противотанковых ружей, автоматов и пистолетов.
Уже здесь, в госпитале, Ивану довелось пообщаться с нашим лётчиком, который рассказал ему, что при атаках советских штурмовиков фрицы всегда сразу прятались в окопы и блиндажи и, в отличие от наших, никогда не пытались оказывать существенного сопротивления.
– Фашисты, как мыши, сразу в норы забиваются, – смеясь, говорил лётчик, – а наши, как воробьи задиристые, всегда огрызаются.
«Мессершмитты» с рёвом заходили на снижение, неуловимо исчезая из виду и появляясь неожиданно, стремительно проносились вдоль позиций, поливая их огнём из своих пулемётов. Два самолёта из тройки скинули бомбы в стороне от того места, где укрылся Иван.
В ушах гудело. В воздухе стояла взметнувшаяся взрывами пыль, перемешанная с толом. Горло нещадно саднило, хотелось откашляться, но не получалось. Слышались крики раненых бойцов. Перекрывая общий шум, на высокой ноте разносилось вокруг протяжное лошадиное ржание. Одна из бомб угодила в стоявший рядом в рощице обоз, разметав в стороны людей, подводы и запряжённых в них лошадей.
Иван пытался поймать в прицел своей винтовки эти неуловимые воздушные мишени. Ничего не получалось, но он стрелял, как и все вокруг. Краем глаза он заметил, как Кивин, не пригибаясь и не прячась, метнулся в сторону залёгших неподалёку бойцов-бронебойщиков. Подбежав к ним, Колька ухватил одной рукой поперёк длинного чёрного ствола противотанковое ружьё, лежащее рядом с укрывшимися и не стрелявшими по самолётам бойцами, а другой – небольшой ящик с патронами и поволок всё это к краю рощицы. Там, на переднем крае этой рощицы, торчал высокий разлапистый пенёк – обрубок дерева, посечённого бомбёжкой. Приладив неудобный, тяжёлый ствол в одну из расщепин этого обрубка, Николай начал обстреливать пикирующие вражеские самолёты.
Так он стоял на самом открытом месте, громко матерясь и посылая в небо один бронебойный патрон за другим.
Один из «мессеров» улетел. Двое оставшихся, следуя друг за другом, заходили на вираж и начинали снижаться над Николаем, непрерывно строча пулемётами. Отчаянно поворачивая стволом, силясь лучше прицелиться, Кивин не обращал никакого внимания ни на царивший над ним визг и гул, ни на разрывающиеся рядом с ним пулемётные очереди, вздымающие фонтанчики из земли и щепок вокруг него.
Внезапно из-под жёлто-серого брюха первого номера повалил густой чёрный дым. Самолёт качнуло в сторону, он криво развернулся и, оставляя за собой тягучий чёрный след, полетел на запад.
– Попал! Твою-ж-ядрить-Бога-душу-мать, попа-а-ал! – истошно завопил Колька и осёкся, срезанный, прошитый насквозь пулемётной очередью второго номера.
Бойцы, выбежав из укрытий, кричали «Ура!», подбрасывали вверх пилотки и каски. Все смотрели вверх, провожая взглядами чёрный след подбитого – несомненно, Колькой – самолёта. След уходил за линию горизонта, приближенную высокими деревьями, за которой чуть позже раздался густой хлопок. И взрывом над местом падения вражеского самолёта в воздух взметнулось большое округлое чёрное облако.
Новый радостный крик пронёсся над нашими позициями. Но Николай всего этого уже не слышал. Последний «мессершмитт», сделав ещё один круг, расстрелял, снизившись, ещё раз мёртвое, распластанное на земле тело Николая и, резко качнув крыльями, улетел.
Позднее красноармеец Николай Кивин был посмертно представлен за сбитый им немецкий самолёт к награде – медаль «За отвагу». Он погиб 17 июля 1942 года. В этот день к рекам Чир и Дон вышли передовые части фашистских войск в составе 6-й полевой армии вермахта под командованием генерал-лейтенанта Паулюса. Здесь с ними вступили в бой наши части 62-й армии.
Так на дальних подступах к городу, в большой излучине Дона, началась великая Сталинградская битва.
Грузно заворочался сосед слева, тяжелораненый и контуженный боец Смирнов. Попросил пить. Волгин поднялся, сходил к стоящему в углу баку с водой, зачерпнул жестяной кружкой, поднёс к губам солдата. Балагур Маркин, крепко забывшись беспокойным сном, громко бормотал что-то неразборчивое. Отчётливо слышались только постоянно перемежающие это бормотание ругательства. Маркин и бодрствуя, и засыпая, не был воздержан на язык.
Оглядывая больничную палату, всматриваясь в лица раненых бойцов, Иван подумал, что так было всегда – всегда шла война, – и не было никакой «мирной жизни». Настолько была огромной пропасть, которая пролегла между тем временем и этим.
И трудно было понять, что больше смахивало на сон: жизнь до войны с её кажущимися сейчас нереальными, недосягаемыми радостями и ничтожными проблемами или война – один сплошной страшный и кровавый сон, который никак не заканчивается.
Волгин понимал, что он сам изменился, бесповоротно и окончательно. Стал другим человеком. Многое осталось там, за невидимой чертой, в той, другой жизни. Много милого, дорогого сердцу, о чём сейчас, в грозной обстановке военного времени, и не думалось.
Но в глубоких уголках живой памяти Иван мысленно возвращался к родному городу, семье.
И постоянно и остро – к Ольге.
Он не виделся с ней почти с самого начала войны. Целая вечность прошла. Писал ей, но ответов не было. Это совсем не означало, что она не писала ему писем. Просто почта не всегда могла угнаться в те дни за постоянно меняющим своё местонахождение адресатом. Бывало, что бойцы сразу получали по несколько писем из дома.
Поэтому он не переставал ждать письма от Ольги.
Как там она? Где она сейчас?
Старшая медсестра Ольга Иванова смотрела сквозь запылённое стекло окна на играющих во дворе фронтового госпиталя детей. Эта очень мирная картина никак не вязалась с обстановкой, царившей в госпитале, разместившемся в Николаевской слободе, соседствующей через Волгу с Камышиным. Чьи это дети и кто их сюда пустил, было непонятно. Но глядя на них со второго этажа, Ольга ощутила дыхание тёплого ветерка «той жизни», обнимавшее её замерзающую душу. Раненые бойцы, чьи кровати были у окна, тоже, кто мог, с интересом смотрели во двор.
Был конец сентября, в её родном Сталинграде шли ожесточённые уличные бои. И сердце у Ольги каждый раз сжималось, когда оттуда в их госпиталь доставляли раненых. Каждый раз она, всматриваясь в их лица, и ждала, и боялась увидеть Ивана.
В Николаевской слободе Иванова работала с весны сорок второго года, распределившись сюда сразу после четырёхмесячных курсов подготовки медсестёр Красного Креста. На эти курсы она записалась вместе с подружкой, бывшей одноклассницей Ниной Крюковой.
Крюкова вместе с Ольгой тоже распределилась в этот госпиталь. Обе хотели бы остаться в Сталинграде: вроде и больниц, и госпиталей там было достаточно. Но не вышло.
С самых первых дней войны сам Сталинград и область стали крупнейшей госпитальной базой в тылу страны. Сюда прибывали тысячи раненых, госпитали были переполнены и работали на пределе. Нагрузка эта многократно возросла после ноября сорок первого года. Фашисты прорвали фронт под Ростовом, и на Сталинград и Сталинградскую область хлынул поток раненых с юга. И всё же их с Ниной отправили в Николаевскую слободу.
К размеренной тишине после просторного и шумного Сталинграда привыкли не сразу. В трудах прошёл месяц, другой – и всё вокруг стало привычным и своим. Шустрая и непостоянная Нинка уже крутила роман с молоденьким симпатичным, интеллигентного вида врачом, эвакуировавшимся вместе с тремя коллегами из Ленинграда. И это несмотря на то, что в Сталинграде у неё вроде оставался жених. В эти последние месяцы в городах Поволжья много было эвакуированных, они сразу включались в тыловую работу на местах. Люди приезжали самые разные.
Ольга Нинкиного легкомыслия не разделяла, но и не осуждала строго. Каждый живёт по своей совести. А сейчас она и мысли не допускала о том, что Нину можно было за что-то осудить. Всё бы ей простила, только бы она была жива.
Сама Ольга всегда носила с собой полученные почти одновременно два письма от Ивана. И сильно тревожилась, понимая по характеру его второго письма, что были ещё письма, которые она не получила, а главное – он не получил ни одного письма от неё. Это больно царапало её. Но тем не менее она понимала главное – Ваня был жив, хорошо воюет и очень её любит. Это было и радостно, и тревожно, потому что раньше Иван мог редко такое сказать напрямую. Такой уж был характер. Но сердцем она всё это понимала и видела.
Она вспомнила, как впервые увидела Ивана и обратила на него внимание. Среди других мальчишек их параллели в школе она замечала его и раньше. Высокий, стройный, широкоплечий, светловолосый. Иван учился в параллельном «Б» классе и сразу, как только её стали всё больше и больше интересовать мальчики, был отнесён Ольгой в разряд симпатичных и интересных. Но он был неразговорчив, застенчив, а временами казался ей хмурым и неприветливым.
В тот день они на уличной школьной спортплощадке сдавали вместе с другими классами нормы ГТО. Все были разделены на группы. На площадке царили суета и разноголосый шум. Ребята одновременно сдавали разные нормативы, потом менялись, подходили к судьям, контролировавшим точное выполнение упражнений.
Сдав нормативы раньше других, Оля помогала судьям, разбивала дополнительно ребят на группы, звонко выкрикивала фамилии из списка. Она тогда ещё не знала фамилию Ивана и когда увидела его в группе мальчиков, выстроившихся рядом с ней и ожидающих её команды, то неожиданно для себя разволновалась. Сильнее забилось сердце, и чуть стали подрагивать руки. Оля вдруг рассердилась на себя за это и начала грозно выкрикивать фамилии.
Ребята, повинуясь её голосу, отделялись от группы и начинали по свистку судьи выполнять упражнения. На одной чуть смазанно написанной и почему-то без имени фамилии она было запнулась, но сразу громко объявила:
– Иволгин.
Никто не пошевелился, Оля снова громко повторила фамилию, делая ударение на первую букву:
– Иволгин!
Внезапно Иван отделился от группы и подошёл к ней. Посмотрев через её плечо в список, сказал:
– Я не Иволгин, а Волгин. Смотри, тут точка после «И». Это значит Иван Волгин.
– Так надо было так и писать, как все записали, полностью, – насупилась Оля.
– Ладно, прости. Но моя фамилия всё-таки не в честь какой-то птички-пичужки, а в честь нашей реки – Волги. – Иван смущённо улыбнулся.
И эта открытая улыбка и озорной его чуть-чуть исподлобья взгляд сразу сделали лицо Ивана тёплым и светлым. Запомнилось это Ольге. И в тот день между ними, как не раз потом говорила, улыбаясь, её мама Ирина Тимофеевна, которой Оля доверяла все свои секреты, словно «искорка пробежала, и всё вспыхнуло».
Гораздо позднее эта несуществующая фамилия, Иволгин, стала у них подобием кодового слова, а иногда и ключом к разрешению мелких споров и разногласий. Ольга, в шутку либо всерьёз сердясь на Ивана, специально поддразнивая, называла его Иволгин. Бывало, что и сам Иван, если опаздывал или забывал что-то, ссылался на то, что это не он виноват, а некий никому не известный Иволгин. А настоящий Иван Волгин здесь совсем ни при чём.
Потом, когда они были в последнем классе, началась их дружба. Неловкие, но оттого и очень милые ухаживания Ивана. Он долго оставался таким же застенчивым и робким с ней, как в первые дни. Иван признался ей, что до неё он никогда ни с кем не дружил и даже не целовался ни разу. Такое доверие очень тронуло её. Ведь обычно мальчики стараются казаться более опытными и многое выдумывают, а тут так сразу он ей во всём признался.
Оля раньше дружила с мальчиками. Сначала с красавчиком Олегом из её класса. Потом, расставшись с Олегом, – с соседом Игорем, парнем постарше. Ничего серьёзного, это была просто дружба, но и Олег, и Игорь были очень напористы. На свиданиях старались уединиться и сразу лезли целоваться. А Игорь в какой-то момент так вообще начал очень грубо распускать руки. Ольга с неприязнью вспомнила это первое, ожидаемое и всё-таки оказавшееся в тот момент таким нежеланным прикосновение.
Вся дружба сразу закончилась. Да и маме с папой развязный, с нагловатыми глазами, но какой-то трусоватый Игорь не нравился. А мнением родителей Оля очень дорожила. Хотя ни за что бы им в этом не призналась тогда.
Иван маме сразу понравился, о чём она в первый день их знакомства сразу заявила Оле. Папа, Сергей Васильевич, помалкивал, но в том, как он становился сразу чуть более разговорчивым, как будто от волнения, когда к ним в гости приходил Иван, она чувствовала его молчаливое одобрение. И была счастлива.
Но если с Игорем ей сразу становилось неприятно и неловко, когда он пытался сблизиться с ней, то с Иваном, наоборот, ей хотелось, чтобы он был чуть-чуть посмелее. Ольга ждала, когда он наконец решится, и думала, что, видимо, ей самой придётся действовать. Потому что трудно было спокойно переносить тот жар, в который словно окунали всё её тело в те моменты, когда Ваня был рядом.
Какую-то особую и невыносимую прелесть всему этому добавляло то, что Ольга точно знала, что её Иван не робкого десятка.
В один из поздних вечеров они задержались, гуляя и смеясь, после танцплощадки и поздно возвращались домой. Иван провожал Ольгу, и, идя под руку с ним, она привычно вела его знакомым маршрутом. Когда до дома оставалось всего ничего и достаточно было пройти слабо освещённой тусклыми фонарями улицей и повернуть, Оля привычно свернула на короткую дорогу через пустырь, где всегда ходила днём. Однако повернув на пустырь и увидев, что тут почти нет света, Оля, осознав свою ошибку, оробела, попятилась и потянула Ивана за собой.
– Темно здесь, – прошептала она, – пойдём улицей.
– Да ничего, не бойся. Пройдём, – упрямо отозвался Иван.
Проявлялось в нём, в голосе, в поступках иногда такое упрямство, от которого проще было отступить и согласиться.
Где-то на середине узенького пустыря от стены отделились четыре неясные тени и приблизились к ним.
– И откуда это мы возвращаемся? – прорезал вечерний сумрак развязный голос.
Пахнуло водкой и резким запахом крепких папирос.
Ольга узнала голос Игоря. От сердца чуть отлегло.
– Никак с танцулек чапает парочка – гусь да татарочка, – глумливым, подвыпившим голосом подхватил дружок Игоря. Он грязно выругался при этом. Тени загоготали.
– Отстань от нас, Игорь, пропусти, – сердито сказала Оля.
– О! Да это ж моя любовь ко мне прилетела, – хохотнул Игорь, узнав Ольгу.
Он приблизился к ним и, пихнув Ивана плечом, попытался обнять Ольгу за плечи.
– Убери руки, сволочь.
Звук тихого, но яростного шёпота Ивана ошеломил и испугал Олю. Даже сильнее, чем вся эта подвыпившая компания. Такая глухая и явная опасность и угроза зазвучали в нём. Тени тоже на миг опешили. Игорь был намного крупнее Ивана и выше его, да и остальные дружки производили впечатление физически довольно крепких мужчин. Отшатнувшись от Ольги, Игорь наклонил лицо к лицу Ивана:
– Вали отсюда, придурок, пока цел. А с девушкой мы потанцуем.
Отстраняясь от Ивана, Игорь неожиданно обеими руками сильно толкнул того в грудь. Иван отступил назад, чуть не потеряв равновесие. Кто-то грубо схватил Ольгу за руку, дёрнул. Оля вскрикнула.
Несмотря на страх, Ольге отчётливо представилось, что ситуацию, в которую они попали, она видела в каком-то кино, не раз похожие события описывались в книгах, которые она читала. Дальнейшее тоже оказалось таким, как это обычно описывалось в литературе.
Иван коротко, не замахиваясь, ударил снизу-вверх Игоря в челюсть. Что-то неприятно лязгнуло, голова Игоря неестественно качнулась вверх и назад. Через мгновение сам он, обхватив виски руками, присел на корточки и срывающимся в визг голосом завопил:
– С…ка! Валите его, мужики!
А Иван, уже не обращая на Игоря внимания, наносил серию ударов по ближайшему из его дружков. По тому, что выглядел здоровее прочих. Он молотил по нему, как по боксёрской груше. Противник вяло отбивался и пятился под градом ударов. Наконец, уткнувшись спиной в стену и закрыв лицо руками, он начал медленно оседать. Из двух других теней, оторопело стоявших чуть поодаль, только один, спохватившись, попытался наброситься на Ивана сзади, нанося ему удары в спину и по затылку. Но получив крепкий, с разворота, удар локтем, свалился, скуля и матерясь, ошеломлённый этим ударом.
Четвёртый остался стоять как вкопанный и только резко отпрянул назад, когда Иван сделал шаг в его сторону. Он что-то невнятно бормотал. И в самой его сникшей тёмной фигуре, и в этом бормотании угадывался страх и нежелание продолжать такую внезапно ставшую опасной для него ночную беседу.
Всё произошло так стремительно, что Ольга не успела толком испугаться ни за себя, ни за Ивана. Тем более что он со сбившимся дыханием, но своим спокойным, обычным голосом обратился к ней:
– Оль, пойдём домой.
Ольга тогда подумала, что, как это ни странно, опасаться надо было не за Ивана, а за этих четырёх незадачливых здоровяков, вставших у него на пути. Иван был спортсменом, серьёзно занимался боксом и борьбой. А сегодня она узнала, что он ещё и отважный рыцарь. Её рыцарь.
В тот поздний вечер они зашли домой к Ольге. Отец уже лёг спать, а мама её ждала. Увидев оцарапанное в кровь лицо Ивана и испачканные засохшей кровью его кулаки, Ирина Тимофеевна ойкнула и побледнела, но спокойно отправила Ивана на кухню умываться, а дочери сказала принести спирта и обработать царапины.
Потом, после оказания первой помощи «нападавшему», как пошутила Оля, они, ещё не оправившиеся в полной мере от произошедшего, возбуждённые и пребывающие в каком-то азартном состоянии, долго и впервые по-настоящему целовались на кухне.
Сердце у Ольги подпрыгнуло и билось где-то в горле, в висках. От солнечного сплетения к животу и ниже разливалось блаженное тепло. Ей представлялось, что она не стоит на холодном полу, а парит в воздухе или на руках Ивана. И не было сил оторваться от его губ. Проходила минута за минутой, а они всё целовались и целовались. Голова кружилась. И вся она растворилась в сильной теплоте обнимавших её рук.
Потом был выпускной. Радостно-счастливые глаза Вани во время их танца. Оле казалось, что они самая красивая пара на выпускном. Правда, в тот вечер все были необычайно красивыми. Даже с лица вечно скрипучей учительницы физики Ирины Феоктистовны не сходила добрая улыбка, делавшая её очень приветливой. Счастливы были все: и школа, выпускающая в новую, взрослую жизнь своих питомцев, и повзрослевшие, переполненные радостными планами выпускники, перед которыми теперь открывались все дороги.
Иван после школы успешно сдал экзамен и поступил в Механический институт на автотракторный факультет. Его родители были инженерами, и он шёл по их стопам. А Оля всегда хотела, как и оба её родителя, стать школьным учителем. По этой причине вопроса, куда Оле поступать, в их семье не стояло. Только в Сталинградский педагогический институт.
Незаметно пролетел полный учёбы, новых знаний, хлопот, удивительных событий и открытий первый год их студенческой жизни. Заканчивался первый курс, близилась сессия, но тёплый, наполненный солнечным светом май кружил им головы. Тем маем сорок первого Иван и «наконец-то», и всё равно – «вдруг неожиданно» сделал Ольге предложение.
В их жизнь стремительно ворвались радостно-волнующие планы о свадьбе. Как просияло счастьем мамино лицо и какой торжественно-сосредоточенный вид был у папы, когда он узнал об этом!
Но жизнь изменилась 22 июня 1941 года. Война, никого не спрашивая, вторглась к ним, круша, ломая и перемешивая всё, что становилось у неё на пути.
Ольга помнила, как изменялись лица окружающих, приобретая поначалу какое-то удивлённо-недоуменное, а потом озабоченно-тревожное выражение. Как люди на улицах, в магазинах, очередях шёпотом пересказывали друг другу смешанные наполовину со слухами известия с фронта в первые дни войны. Дни, полные затаённого страха, тревоги. Но с другой стороны, это были и дни надежды на то, что эта внезапная война так же внезапно прекратится и в очередной сводке сообщат о полной победе над захватчиками.
Потом такие слова, как «война», «фронт», «бои», «потери», «отступления» и многие другие «военные» слова, стали вытеснять из повседневного обихода все ставшие второстепенными мирные. Слово «свадьба» тоже было мирным, и саму свадьбу решили отложить до лучших времён.
Иван Волгин в первый месяц войны записался добровольцем, но на фронт его отправили не сразу. В июле Иван был направлен в Астраханское военно-пехотное стрелково-пулемётное училище на ускоренные курсы.
Они с Олей так и не увиделись перед его отправкой на фронт. Иван перед самым отъездом, не успев никого предупредить, заезжал ненадолго в Сталинград попрощаться с ней и со своими родителями. И надо же было ей в этот день отправиться с мамой в Камышин навестить там приболевшую тётю Галю! Забежав к ним, Иван успел поговорить только с отцом Ольги, тот не поехал с ними.
Он оставил Ольге только свою фотокарточку, где он был снят в военной форме. Карточка и сейчас была с ней. На обороте было наискось написано его неровным почерком: «Очень тебя люблю. Я вернусь. Жди».
Глядя через окно госпиталя на остывающее вечернее сентябрьское солнце, Ольга опять на миг забылась.
Эти воспоминания, подобно потревоженному ветерком угольку в затухающем костре, вспыхнули и ненадолго согрели её. Но они же, эти воспоминания, словно осветили своим робким, трепетным светом ту окружающую её давящую темноту. Темноту, смешанную с её горем и одиночеством, а также – с отчаянным, сковывающим льдом осознанием непоправимости и необратимости случившегося.
Понимая и осмысливая всё случившееся и всё настоящее, город беспокоился о грядущем. Как и люди, живущие в нём. Как беспокоилось и всё живое, бывшее в нём. Составляющее его. А в нём всё было живое. Он не признавал в себе никаких мёртвых материй и энергий. Во всём была жизнь – в каждом человеке и в каждом камне.
Сама жизнь на земле обладает поистине бесконечным множеством форм – в любой материи. Природой заложено так, что нет в мире нигде неживого пространства, всё живёт и излучает свою энергию. Сама земля была призвана излучать в этот мир своё особое тепло, умножая в этом мире потоки энергии радости, мира, а главное – любви. А без любви любая материя в этом мире становилась мёртвой.
Беспокойство, растущее в нём, было совсем другого рода, не так, как это обычно проявляется у людей. Над городом грозно нависала предопределённость.
Он чувствовал через колебания и вибрации земли и воздуха, как в суетной жизни людей ревели и рождались в дыму и грохоте железные механизмы, моторы, оружие и материалы, несущие ему смерть. Как в бесконечном океане вспышек и энергий причудливыми волнами и потоками, огибающими планету, рождались замыслы и намерения людей, нацеленные на уничтожение всей накопленной в нём любви и жизни.
Он мог увидеть и осознать своё будущее. Но, в отличие от того, как это происходит у людей, будущее, сгущающееся над ним, не имело той власти неотвратимого и неизбежного рока, которого никак нельзя было избежать. Он был способен спрятаться от этой страшной силы, угрожающей ему. Уйти на время в другие, более тонкие и менее материальные слои бытия. Он мог предотвратить это страшное грядущее, отвести от себя и пустить стороной все ожидающие его испытания – испытания болью, разрушением, гибелью и последующим возрождением.
Но город остро чувствовал необходимость всего того ужасного, что должно было с ним произойти. В этой необходимости скрывался выход на совершенно другой, новый уровень и смысл его существования.
В ближайшее время ему предстоит сделать выбор. На чашах весов лежали с одной стороны будущее, с другой – настоящее. Он мог либо избавить себя от такого будущего, которого он страшился и не хотел, чтобы оно наступило. Тогда его настоящее могло спокойно жить дальше, почти так, как и жило. Либо принять грядущие испытания и пожертвовать своим безмятежным настоящим ради великого будущего. Выбор этот, недоступный и неподвластный никакой человеческой воле на этой земле, мог сделать только он сам.
Город знал, что разрушительные силы всё равно отыщут себе выход. Они не могут по своей природе, родившись, не иметь точки своего приложения. Своего пути. Поэтому если город отведёт все эти беды от себя, то они, эти силы, перегруппировавшись и распределившись, найдут себе новую жертву.
Ход истории и ход времени, сделав тогда на нём небольшую петлю, пойдут хоть и немного другой дорогой, но дальше и прямо, подминая и изменяя всё, что будет стоять у них на пути. Ибо никогда город ещё не видел, чтобы время и история останавливались и топтались на месте. Они могли ускориться, могли замедлить движение, но остановиться – никогда.
Город знал, что в разные времена другим достигшим известного уровня городам приходилось делать такой же выбор и менять свою уже предопределённую историю на новую.
Но он также понимал, что уничтожение его настоящего рождает его новое будущее. И главным здесь была живая память.
Не столь важно, какое земное имя он будет носить в будущем. Та память, которая останется на земле о нём в его будущем, всё равно будет неотделима от живой сути его настоящего.
И ради этого, ради памяти, ради будущего, ради возрождения в бесконечной борьбе жизни со смертью, он сделал свой выбор.
Город решил, что всем своим настоящим он вступит в бой с грядущим – за своё будущее. Что весь этот готовящийся чудовищной, небывалой до сего момента на земле силы удар он примет на себя.
Прячась от направленных, как ему казалось, прямо на него ударов рвущихся снарядов, отчаянно петляя, старший лейтенант ускорил бег.
«Жить! Что угодно, только жить!» – стучало в его голове.
Изрядно пробежав в сторону, шарахнувшись от очередного разрыва в двадцати шагах от него, продравшись сквозь заросли кустарника, цепляющегося за его липкую от пота гимнастёрку, словно чьи-то крючковатые пальцы, старший лейтенант забрался на какой-то бугор. Бугор оказался бруствером. И он свалился в окоп, чуть ли не на голову сгрудившимся в нём солдатам.
«Неужели немцы?» – испуганно пронеслось в голове.
Но он успокоился, разглядев, что в окопе были незнакомые ему, но однозначно наши бойцы. До него донеслось насмешливое, сказанное в сторону, вроде и не к нему относившееся:
– До чого ж гарно драпав, с…чий сын. Як шалений заец![1]
Это сказал усатый здоровяк, недобро разглядывающий его теперь. На его словно сажей перемазанном лице как-то неестественно ярко выделялись блестевшие белками глаза. Так же нестерпимо для старшего лейтенанта на этом закопчённом лице белели зубы, которые здоровяк скалил, нагло ему улыбаясь. По знакам различия старший лейтенант определил в нём старшину.
В окопе было пятеро, все какие-то неимоверно чумазые. Трое рядовых чуть в стороне возились каждый со своим оружием. Ещё двое – этот старшина и высокий молодой боец, младший сержант. Старший лейтенант как раз и свалился в окоп между этими двумя. Он стоял между ними, тяжело дышал и разглядывал их.
Что-то чувствовалось нестрогое, невоенное в этой странной группе. Какая-то неармейская независимость и скрытая лихость читались в их фигурах и поведении.
«Не бойцы, а банда какая-то», – мелькнуло у старшего лейтенанта. И тут же его осенила догадка: «Разведка, похоже…»
– Товарищ старший лейтенант, – обратился к нему младший сержант, – вы не заблудились? По-моему, вы не в ту сторону бежите.
Несмотря на всю недвусмысленность сказанного, это получилось у него совсем не дерзко, а как-то предупредительно.
«Почему они себя так ведут? Я ведь самый старший по званию здесь. Они не имеют права и не смеют так со мной обращаться. Подозревать меня в чём-то, намекать, спрашивать о чём-то в таком тоне», – крутилось у него в голове.
Вспыхнув, старший лейтенант хотел повысить голос, свой замечательный густой командный голос и урезонить этих наглецов.
Но посмотрев в какие-то бездонные, отдающие холодной синевой и затаённой, неведомой силой глаза этого младшего сержанта, старший лейтенант понял, что не сможет ни соврать ему, ни притвориться.
– Бежать надо туда, – продолжал меж тем младший сержант, показывая в сторону балки. – И мы туда побежим. Вы с нами?
Неожиданно для себя старший лейтенант с жаром возразил ему:
– Туда не надо… Там же немцы, там их танки.
Усатый здоровяк при этих его словах громко хмыкнул.
«Что я такое говорю? – лихорадочно завертелось в голове старшего лейтенанта. – Они же сейчас всё поймут. Надо взять себя в руки».
Но вслух он почему-то жалобно прошептал:
– Мне нельзя туда, меня там убьют.
– Да ну его к лешему! – взорвался вдруг старшина. – Ты что не видишь, товарищ не в себе…
И, подойдя вплотную к старшему лейтенанту, он бесцеремонно потянул того за пояс, завозился там чего-то, приговаривая:
– Вам оно и не надо, пожалуй, а нам сгодится.
Старший лейтенант не сразу понял, что здоровяк по-хозяйски отвязывает с его пояса вторую противотанковую гранату. Он вспомнил, что гранаты выдавали одну на двоих, а он зачем-то взял себе сразу две и был очень горд этим. А про вторую гранату он совсем забыл. Здоровяк сунул её себе куда-то за пояс.
Младший сержант что-то говорил ему, но старший лейтенант ничего не понимал. Кровь прилила к его лицу, в глазах туманилось. Стыд гнал его прочь. Он начал пятиться, полез спиной из окопа и, поймав, как ему показалось, сочувственный взгляд замолчавшего младшего сержанта, резко развернулся и побежал прочь. Прочь от этих насмешливых, наглых и злых не то солдат, не то разбойников, которые, один за одним перемахивая через бруствер, устремлялись вперёд. Туда, где безраздельно хозяйничала смерть. Туда, куда он никогда уже не побежит.
Он промчался от этого окопа наискось, в сторону КП и исходных позиций. Когда он, сделав большую дугу, пробежал приличное расстояние, совсем рядом с ним усилился свист и протяжное завывание, потом очень кучно забухало. Земля начала взрываться, вспениваясь буро-зелёной массой дёрна и песка. Старший лейтенант остановился. Потом в испуге заметался на месте, не решаясь бежать дальше.
Рвануло совсем рядом. Его оглушило всепроникающей до внутренностей упругой и горячей волной. Слух выключило. Падая, как сквозь густую, непролазную вату, старший лейтенант почувствовал, как чем-то тяжёлым ударило в голень, потом в бедро. Нога сразу онемела. Потом словно разогретой докрасна ручной пилой его наотмашь шоркнуло сбоку, по виску. Погас свет, и пустая темнота поглотила его полностью.
Темнота и тоскливая пустота постепенно отступили. Пожилой врач, осматривая его сегодня, отметил, что восстановление «идёт очень прилично» и что «рана теперь очень хорошая». Но главное, он сказал:
– Такими темпами, товарищ младший сержант, вы скоро отправитесь на фронт.
Иван не мог сдержать своей радости:
– Скорей бы!
Хотелось к своим, хотелось туда. Хотелось драться. Его город держался из последних сил. И ему надо защищать его.
Иван вспомнил, как он первый раз отправился на фронт.
В холодном ноябре сорок первого, в самом конце месяца. Младшего сержанта он получил по окончании курсов в Астрахани. В Сталинград приехал в новой форме. Он не застал Ольгу дома, когда заезжал домой перед отправкой. Тогда он успел попрощаться только со своими домашними.
Всегда шумная Варенька стояла очень тихо и с удивлением разглядывала его военную форму, не узнавая в ней брата. Он обнял её, поцеловал в макушку и серьёзно обратился к ней:
– Присматривай тут за родителями, а мне письма пиши почаще.
– Хорошо. Я за ними присмотрю, – тихо, подрагивающим голосом пролепетала Варюша. – Я тебе много-много писем отправлю. Только ты мне тоже пиши.
Сергей Михайлович ободряюще улыбался ему, и только в глубине его глаз прятались боль и беспокойство за сына. Александра Ивановна хоть и крепилась, но не смогла удержать слёз. Иван обнял их всех сразу. Он старался успокоить маму, шутил, что он упрямый и вредный, а с такими на войне никогда ничего не случается. Говорил, что обязательно вернётся и ещё заставит их всех плясать на своей свадьбе.
При упоминании о свадьбе лицо у мамы чуть просветлело. Она улыбнулась и сказала ему:
– Какой ты у меня ещё мальчишка несерьёзный! На войну собрался, а всё о свадьбе думаешь.
– Как это несерьёзный? – в шутку обиделся Иван. – Да что вообще может быть серьёзнее свадьбы после окончательного разгрома врага!
– С Олей-то увиделся? – спросила мама.
– Нет. Уже и не успею. Её в городе нет сегодня. Только папу её, Сергея Васильевича, застал у них.
– Очень жаль, – озабоченно покачала головой мама.
– Ну всё, мне пора, – заторопился Иван, поглядев на часы.
Лица родителей сразу стали совершенно по-детски растерянными и беспомощными. Они начали суетиться, пытаться что-то собрать и сунуть ему с собой. Видно было, что они никак не могут справиться с растущей в этот тяжёлый час расставания тревогой. Острой тревогой всех родителей на этой земле за своих детей. Тревогой вечной и постоянной. Тревогой, глубоко скрытой в повседневной жизни, незаметной, укрываемой заботами и хлопотами, но извлекаемой из этой глубины в минуты расставаний. Особенно когда будущее так неясно и так грозно.
Во все времена нестерпимо страшно родителям провожать детей своих на войну. И нет таких слов, чтобы описать, как холодеет и сжимается сердце матери, вырастившей сына и отдающей его в эту неизвестность по немыслимому требованию слепого и злого рока, по внезапно осознанной необходимости и неизбежности. С той минуты, когда уйдёт их ребёнок туда, не будет для родителей покоя. Всё их время превратится только в горячее и беспокойное ожидание возращения сына домой. И соткано это время будет только из отчаянной надежды.
– Какие же вы у меня всё-таки маленькие, – глядя на родителей, с нежностью сказал им Иван.
Он и сам не смог бы никому объяснить, почему он назвал родителей именно «маленькими», но их это вдруг очень рассмешило. Блестя мокрыми глазами, мама улыбнулась и обхватила тёплыми ладонями его голову, наклонила к себе и расцеловала в обе щеки. Отец крепко сжал ему руку и, глядя в глаза, твёрдо произнёс:
– Бей врага, сын. Защищай и береги нашу Родину, достойно исполняй свой долг. Будь настоящим мужчиной.
Отец говорил ему это так торжественно, как это часто звучало в те дни. Но Иван понимал, что несмотря на такие высокопарные и общепринятые слова-лозунги, отец был искренен. Он обнял отца. Сергей Михайлович, не сумев сдержать дрогнувшего голоса и скрыть своих повлажневших глаз, добавил:
– Но и себя, Вань, пожалуйста, сбереги… Вернись к нам, сынок…
Потом был вокзал, и переполненный шумными новобранцами вагон повёз его на запад. Рота, в которую Иван попал с пополнением в декабре сорок первого, до этого, ещё летом, участвовала в составе своей дивизии в боях за Киев. Потом осенью дивизию переформировали, так как в октябрьских боях под Вязьмой, попав в окружение, она погибла почти вся.
С декабря сорок первого по июль сорок второго они уже воевали на Юго-Западном фронте. В июле сорок второго их дивизия ещё была в составе 64-й армии, а с августа сорок второго перешла в состав 62-й армии.
Лёжа в тёплой палате-землянке госпиталя, Иван думал о том, как порой им приходилось туго. В самые первые его дни войны они дрались с немцами в страшнейшие морозы, бывало, по грудь в снегу.
Он никак не мог отчётливо выделить из памяти свой первый бой. Когда он был? Когда он в первый раз попал под бомбёжку? В тот день их поезд с новобранцами, почти приехав на пункт распределения, подвергся атаке с воздуха.
Поезд резко затормозил и остановился, и Иван с другими солдатами каким-то чудом под невыносимое завывание, треск и оглушающие разрывы успел выпрыгнуть из вагона. Его спас Юрка Рогов, знакомый, учившийся тоже, как и Иван, на автотракторном Механического, но на параллельном потоке. Они случайно столкнулись на вокзале и очень обрадовались друг другу.
Когда Иван застыл на месте, слушая, как воют самолёты и взрываются бомбы, Юрка первый опомнился и потянул его из вагона. Они вдвоём и ещё несколько солдат отбежали в сторону, прежде чем их вагон накрыло фашистской бомбой. Никто из оставшихся в том вагоне людей не уцелел.
Нет. Та бомбёжка не могла считаться его первым боем. Это было совсем не то. Никакого боя не было. Только безотчётный страх, парализовавший его полностью. Только смерть вокруг. Он впервые увидел её так близко от себя. А ему просто повезло. Он выбежал из вагона, тем и спасся. Они решили с Юркой, что всегда будут стараться держаться друг друга. Им казалось, что только так им будет везти в дальнейшем, как повезло в тот день остаться в живых.
Но увидев так близко от себя смерть, он всё же тогда её не почувствовал. Теперь он вполне понимал, что это такое. Впервые он увидел и по-настоящему почувствовал, что такое смерть, не там – под первой своей бомбёжкой, а перед своим «настоящим» первым боем.
В тот день они готовились идти в первую свою атаку на немецкие позиции. Без артподготовки, без поддержки авиации, по голой степи. Зато немцы их расстреливали, как в тире – и с земли, и с воздуха. Лежали рядом с Юркой, вжимаясь от разрывов в холодную твёрдую землю. Оба жалели, что не успели выкопать себе укрытие поглубже. Потом – тишина, хотя в голове у Ивана продолжало шуметь. И вроде прозвучала команда подыматься в атаку. Цепь наших бойцов уже была впереди. Юрка подскочил и побежал за ними. Иван поднялся и побежал за Юркой. Вот уже показались зигзаги немецких траншей, когда весь шум в голове Ивана перекрыл нарастающий вой летящей мины. Показалось, что воздух вокруг него наполнился свистящим и воющим металлическим скрежетом. Совсем рядом, чуть впереди, где бежал Юрка, – взрыв! Прямое попадание. И вот она, первая смерть, которую увидел и почувствовал Иван. Это была смерть Юрки. Сначала всё заволокло дымом. Иван упал, потом резко поднялся. А потом увидел, как впереди из дыма и вспенившегося снежного фонтанчика вылетают какие-то лохмотья. Когда всё осело и улеглось, Иван осторожно приблизился к воронке, по краям которой на снегу горели розовые пятна. А в самой воронке лежало нечто бесформенное. До пояса почти был Юрка, вернее, угадывался. Ивану показалось, что он даже почувствовал его запах. Это был запах пота, смешанного с дымом и мёрзлой землёй. А потом, ниже пояса, ничего не было… Рядом, раскуроченным прикладом вверх, валялась Юркина винтовка. Иван медленно обошёл эту воронку, не в силах оторвать глаз от этого ужасного бесформенного комка. От того, что ещё несколько секунд назад было Юрой.
Его охватила нервная дрожь. Хотелось развернуться и побежать прочь от этого страшного поля. От этой ужасной воронки. От того, что осталось от Юры. Но мимо него пробежал красноармеец с винтовкой, направленной штыком вперёд, справа всё сильнее накатывало: «Ура-а-а!»
Всё это невольно подсказало Ивану, да и многим другим необстрелянным ещё новобранцам, что нужно делать. Иван побежал вперёд. Он бежал, совсем не разбирая, куда бежит, не пригибаясь и не смотря под ноги. Потом свалился, кувыркнувшись в немецкую траншею, штыком зацепился за лежавший в траншее труп. Когда падал, наткнулся на ещё одно тело убитого – нашего или немца, он так и не разобрал.
«Тогда и начался мой самый первый бой», – подумал Иван.
Он на самом деле очень плохо помнил подробности того своего именно первого для него боя. Когда был бой, помнил. А каким он был, этот бой, не мог вспомнить. Прошло столько времени… И столько всего с ним произошло уже после этого.
В этом первом безотчётном сражении у него лихорадочно запрыгало перед глазами, как будто он понёсся куда-то в немыслимой свистопляске. Он совсем ничего не соображал от возбуждения и страха. Но именно тогда ему показалось, что им впервые овладела какая-то неведомая сила. И это был не страх. Эта сила, действуя отдельно от него, соединила всего его, с головой, руками, ногами и с его винтовкой, в одно целое. Это уже был не он, а совершенно другой человек. И этот начавший отдельно от его воли действовать другой человек нёсся вперёд. Выбрасывал на бегу короткие вспышки выстрелов, дико размахивал руками и бешено что-то вопил. Заколол ли он кого-нибудь штыком, застрелил ли он тогда хоть одного немца? Вряд ли. Скорее всего, он просто стрелял и лупил в пустоту да по появляющимся перед ним неясным теням, а может быть, и по телам убитых. Он холодел сейчас при одной только мысли, что в той горячке он вполне мог пырнуть штыком или выстрелить и в своего.
Более-менее он помнил только, как закончился для него тот бой. Когда стрельба и разрывы начали стихать, что-то с силой ударило его по каске. Он упал, потом вскочил. Сорвал каску и увидел на ней глубокую вмятину.
Вечером в переполненной бойцами и наполненной махорочным дымом землянке, которую ранее занимали фрицы, он начинал осознавать, как ему сегодня повезло. Не убило, не ранило, не покалечило. Уже засыпая, он пытался понять, как он всё же сумел преодолеть свой страх. Да и сумел ли? Преодолел ли? В этом Иван не был уверен и теперь.
Тот первый его бой стал для него тяжёлым, но необходимым испытанием. Тогда он понял, что надо уметь вовремя брать себя в руки. На войне только это и зависело от него самого. А на всё остальное он никак не мог повлиять.
Ночью, придя в себя, он сам вызвался идти на место гибели Юрки, чтобы похоронить его. Вызвался и сразу испугался, подумав: «Как же я там, в этой тьме кромешной, буду рыться в том, что осталось от Юрки, искать его документы? Смогу ли?» Старшина не разрешил этого сделать. Стыдно об этом вспоминать, но он тогда обрадовался, что старшина не разрешил.
«Стоит ли считать своим первым боем всё это?» – думал Иван.
Или первым его боем стоит считать тот, который был позже, когда они, проталкивая себя через глубокий снег, бежали, не чувствуя обжигающего холода, по перекошенному белому полю? Бежали прямо на бивший по ним пулемёт. Как прорубались через красный от крови снег, перемахивая через упавших. Тогда он так же, как и в первый раз, свалился во вражеский окоп и тут же разрядил треть диска своего ППШ в живот выскочившему ему навстречу из серого тумана немцу.
Немец завыл от боли, выронил автомат и, схватившись двумя руками за изодранный пулями живот, согнулся, осел и повалился набок. Прислонившись к стенке окопа, он весь скрючился и, поджав к груди ноги, затих, вздёрнув заострившееся, совсем ещё мальчишеское лицо.
Как страшно, больно и одновременно противно стало Ивану в тот момент! Впервые он отнял у человека жизнь. Пусть это была жизнь врага, который сам, своими ногами пришёл сюда, чтобы растоптать нашу Родину, и не задумываясь лишил бы жизни самого Ивана. Но горечь и понимание бессмысленности и неправильности любого убийства человека навалились в тот миг на него и долго не отпускали. Да и отпустили ли?
Тогда ему не дали об этом долго раздумывать. Сбоку, вплотную к нему, выскочили ещё две тёмные фигуры немцев. Иван с ходу, вложив всю силу, двинул прикладом своего ППШ ближайшего к нему прямо в переносицу. Немец, не успев вскрикнуть, опрокинулся на спину. Второй напрыгнул на Ивана, обхватил его за шею и, сопя, как паровоз, прямо в лицо, начал его душить. Невыносимое зловоние ударило Ивану в нос. Падая и увлекая за собой противника, он вывернул и крепко перехватив обеими руками руку немца, заломил её. Он тянул и тянул немцу руку, а сам совершенно не представлял, что он будет с ним делать дальше. Немец взвыл от боли, но завозился под Иваном, выворачиваясь. Только тут Иван увидел, насколько фашист был крупнее и, очевидно, сильнее его. Всё могло бы кончиться в тот день очень печально для него, если бы не подоспевший их старшина, богатырь Николай Охримчук, разведчик. Старшина на бегу чётким ударом сапёрной лопатки успокоил немца. Это слово «успокоил» Иван потом часто слышал от самого Охримчука.
А тогда, цепко и оценивающе оглядев Ивана и валяющихся рядом в окопе фрицев, старшина буркнул ему:
– Жив? Ну, добре… – И побежал вперёд.
После этого боя Иван и попал в разведку, в группу к Николаю Охримчуку. Потом это многое определило в его военной судьбе.
Но это всё было потом.
Вспоминая это сейчас в госпитале, Иван так и не смог себе ответить: каков был его первый бой?
Может быть, его первый бой так и не заканчивается по сей день и ещё долго и долго ему продолжаться?
Был ли в нём тогда страх и есть ли он в нём теперь?
Конечно, он был и никуда не делся. Но Иван решил для себя, что он не будет больше бояться своего страха. Он старался использовать свой страх, перегоняя его в азарт, в злобу, в оживление и в быстроту реакции.
Конечно, страх на войне может быть разный. Бывает тупой и безотчётный, захватывающий человека целиком, парализующий его волю. Люди, подчинившись такому страху, в минуту опасности уже не могли вести себя достойно. Такой страх мог привести к несвоевременной смерти, приводил он и к предательству, и к дезертирству, и к самострелам.
Последнее особенно сильно поразило Ивана, когда он в первый раз увидел таких «раненых». Их было четверо, у троих отрублено по одному пальцу, у одного пулевое ранение в руку. Они говорили фельдшеру: «У нас над окопом разорвалась вражеская граната, и всех нас ранило, нас надо в госпиталь». Фельдшер, обработав им раны, взял линейку и тщательно замерил входное отверстие тому, у которого было пулевое ранение. Он, видимо, всё понял, потому что сразу позвонил в штаб дивизии и попросил прислать военного следователя. Следователь, когда пришёл, определил состав преступления – членовредительство. Приговор здесь был обычный – расстрел. Но его часто заменяли отправкой в штрафную роту.
Иван думал, что его страх смерти всё же был не такой слепой и безотчётный. К нему добавлялось что-то злое и упрямое, заставляющее его перешагивать этот свой страх.
Ещё в школе, когда он читал и перечитывал потом любимые батальные части «Войны и мира» Льва Толстого, ему врезалось в память описанное великим писателем отношение русских солдат к опасности во время войны с французами. Перед боем им было «страшно и весело».
Только потом он смог понять, как это, когда «страшно и весело». Он часто, думая об этом своём любимом необъятном романе, который был весь пропитан особой глубиной и правдой, примерял на себя описываемые в нём события и поведение главных героев: «А как бы я сам повёл себя в той или иной ситуации? Не струсил бы?»
Особенно он выделял в романе князя Андрея Болконского. Смог бы он так же, как князь Андрей, приказать себе: «Я не могу бояться»? Когда он спокойно, не обращая внимания на пролетающие над ним пушечные ядра, шагал под страшным огнём французов между своими орудиями и спокойно делал свою ратную работу?
Нет, как у Болконского, у него не получалось. Иван всегда «кланялся» пролетающим над ним минам и снарядам, бросался на землю, чтобы не быть зря раненым или убитым. Да и нельзя было по-другому на этой войне. И всё же очень хотелось быть как Андрей Болконский и страшно было оказаться Мечиком из фадеевского «Разгрома».
Рассуждая так о смелости и страхе на войне, Иван подумал, что такой человек, как Андрей Болконский, и может называться настоящим мужчиной. Хотя что это – «настоящий мужчина»?
Отец, провожая его на фронт, сказал: «Будь настоящим мужчиной…» Стал ли он таким? Ведь не мальчик он уже. Кто вообще может так называться?
Иван вспомнил, как стал мужчиной. Горячая, сладостная волна яркого воспоминания захлестнула его. «Оля, Оленька, любимая, – думал он, – без тебя не стал бы я мужчиной».
Он влюбился в неё ещё в школе. В её задорные, насмешливые, упрямые и очень тёплые карие глаза. В густые волны темно-русых волос, спадающих на немного по-мальчишечьи выпирающие острые плечи. Во всю такую тоненькую, словно сотканную из воздуха, но при этом необычайно подвижную, ладную и крепкую фигурку. В губы, в улыбку, в голос и заразительный смех. Для него всё в ней было прекрасным.
Это случилось у них под Новый год. В разгар их первой студенческой сессии. Сам он сдал досрочно все предметы в своём Механическом институте и теперь помогал Оле готовиться к экзамену по математике в Педагогическом. Уже несколько томительных вечеров они засиживались допоздна у Ольги дома. Часто, позанимавшись сначала немного математикой, они начинали целоваться за закрытой дверью Ольгиной комнаты и никак не могли остановиться.
А всё случилось в тот вечер, когда Олины родители, нарядные, встретили Ивана у порога. Они, одеваясь, весело наказали Ольге накормить Ивана ужином и не ждать их сегодня слишком рано: они уходят в гости и будут очень поздно, к ночи.
Они с Олей так и не притронулись к учебникам этим вечером.
Как только они очутились в Олиной комнате, неукротимый вихрь закружил их, подхватил и унёс на необычайную, захватывающую дух высоту. Их унесло туда, где туго переплелись их разгорячённые в неукротимом движении тела. Где перемешалось и стало общим их дыхание, стёрлись все очертания, все запреты и бывшие до этого границы. Всё в едином и общем, слившемся в одно целое ритме трепетало в них от нежности, от ласкового прикосновения. От неудержимого и требовательного натиска любви и единения двух душ и тел.
Потом они лежали, крепко обнявшись, и Оля неожиданно заплакала. Иван, растерявшись и испугавшись, начал неумело утешать её. Он целовал её мокрые щёки и то лихорадочно шептал ей, что они всегда будут вместе и он никогда её не оставит, то начинал беспрестанно спрашивать: «Что с тобой?» и просить перестать плакать. В какой-то момент, замирая от нерешительности, он хотел сказать ей самое главное, то, что давно собирался сказать, но никак не мог решиться. Он начал было, по своей привычке, считать в уме до пятидесяти пяти, но Оля уже улыбалась ему. Она начала целовать его, прижимаясь к нему своим мокрым, заплаканным лицом, ласково приговаривая:
– Какой же ты у меня ещё глупенький.
Потом, помолчав, озорно выпалила с ударением:
– Иволгин! Вот ты у меня кто!
С самой первой их встречи она продолжала так в шутку его называть. В такие моменты он в шутку щипал её за бок, делал страшные глаза и низким голосом начинал страшно шептать ей:
– Не называй меня так! Я не Иволгин!
Она всегда начинала смеяться и назло ему упрямо повторяла:
– Иволгин, Иволгин, Иволгин!
В такие моменты остановить её можно было, только закрыв ей рот поцелуями. Они оба это хорошо знали, и постоянно этот весёлый спор разрешался именно так. Завершился он так и тогда.
Иван помнил, как он глупо, совсем по-мальчишески, гордился на следующий день, что стал мужчиной. Весь следующий день он гордо ходил по улицам города, расправив плечи, со значением и вызовом поглядывал на прохожих, а встречным мужчинам умышленно не уступал дорогу, сталкиваясь с ними плечами.
«Каким тупым балбесом я был…» – подумал он.
Теперь он понимал, что стать мужчиной и стать настоящим мужчиной – разные вещи. Стал ли он настоящим мужчиной? Поумнел ли он с того времени? На эти вопросы Иван и сейчас не мог ответить однозначно и утвердительно.
Ему вспомнился его знакомый, земляк Митя Панков. Его родители работали вместе с родителями Ивана. До войны он несколько раз видел застенчивого долговязого паренька Митю, когда тот приходил к ним в гости со своими родителями. Они не дружили. Митя был младше Ивана и не особо общителен. В июне сорок первого он, приписав себе год, ушёл добровольцем на фронт.
Судьба свела их под Верхнечирским, где Митя был в передовом отряде. Этот отряд направили для ведения сдерживающих боёв до занятия главными силами их стрелковой дивизии рубежа Старомаксимовский – Верхнечирский. Воины передового отряда до темноты несколько часов сдерживали пытавшегося прорваться противника. Все они сражались яростно, до последнего. Когда подоспело подкрепление из бойцов роты Ивана, в живых оставалась горстка бойцов. Враг был отброшен. В результате этого боя фашисты потеряли убитыми более трёхсот солдат и офицеров, сожжёнными тридцать танков и один сбитый пулемётным огнём бомбардировщик.
Иван тогда наткнулся на раненого, истекающего кровью Митю, который лежал у разбитого пулемётного расчёта, вцепившись мёртвой хваткой в убитого им немецкого солдата. Он узнал его, но Митя долго не мог узнать Ивана. Оторвав Митю от мёртвого немца, Иван, наскоро заткнув тому бинтами из медпакета рану на груди, понёс его к санитарам. Митя умер на руках у Ивана. Перед смертью он постоянно что-то тихо бормотал. Прислушавшись к его неровному шёпоту, Иван смог понять, о чём шепчет Митя:
– Как обидно… Обидно умирать… Я ещё ни разу не целовался. Как обидно.
Сказав это, он закрыл глаза, чтобы больше уже никогда их не открыть.
Так погиб настоящий мужчина – боец Митя Панков.
Почему-то Иван подумал ещё и о том старшем лейтенанте, который выбежал к их разведгруппе. Тогда, в мае сорок второго, когда они получили от своего ротного задание провести разведку в соседней к их позициям деревне на предмет расположения там моторизированных частей противника. А если придётся, то и разведку боем.
Он не помнил подробно лица того старшего лейтенанта, но помнил, что оно было по-настоящему «мужским». При взгляде на это красивое, но бледное лицо старшего лейтенанта, оценивая, как он появился в их окопе, не возникало сомнений, что он струсил и бежал с поля боя. Но нельзя было не отметить мужественные черты его лица и крепкую фигуру. Наверняка он имел успех у женщин. Но очевидно, что настоящим мужчиной он не мог считаться.
Отмахнувшись от этого неуместного воспоминания, словно смахивая муху, Иван опять мысленно вернулся к Ольге.
«Самое главное» он решился сказать ей только через полгода, в мае. Это было предложение руки и сердца. Но если быть честным и точным, Иван ведь так и не сказал этого вслух. Тогда, в середине жаркого, ещё мирного мая, они были с Олей в кино. В самом конце фильма Иван, достав из нагрудного кармана авторучку, написал на клочке бумаги: «Оленька-лапулька, давай поженимся» – и сунул в её тёплую ладошку. Она развернула записку, прочитала и, засмеявшись, выхватила у него авторучку и чуть ниже его надписи дописала своим аккуратным учительским почерком: «Я согласна!» – и подписала: «Твоя будущая жена».
Как он был счастлив в тот вечер! Они словно на крыльях возвращались из кино. Весь город распахнул навстречу им свои объятья. А в городе этом живут только счастливые, добрые и удивительно красивые люди. И впереди у них с Олей будет много солнечных и счастливых дней. Теперь всегда всё будет тепло и солнечно.
Это был май сорок первого года. А в июне пришла война.
Внешне с того самого дня, как пришла война, практически ничего не поменялось. Город жил, как жил. Потоки горячего воздуха всё так же каждым утром устремлялись на город сверху, нагревали его улицы, заплетённые затейливыми узорами дорожных петель. А вечером улицы начинали отдавать тепло. И уже вверх текли потоки распаренного воздуха, перемешанного с людскими мыслями, надеждами и устремлениями. Люди так же, как и улицы, постоянно вбирали, пропускали через себя, а потом отдавали тепло.
Несмотря на частичную эвакуацию многих предприятий, постоянный отток людей из города и то, что с середины июля сорок второго в городе формировались части народного ополчения, Сталинград пока что считался тыловым городом. Линия фронта многим казалась ещё далёкой. Непосредственная угроза не воспринималась как наступающая неотвратимая и суровая реальность.
Но сам город понимал, что скоро примет бой.
Он сделал свой выбор. От этого выбора теперь зависит не только его судьба. Судьба всей мировой войны, всего мира и человечества будет решаться здесь.
Время уже не играло особой роли. Оно текло сквозь город по-особому. Всё пространство вокруг Сталинграда было одновременно и разряжено, и наэлектризовано. Любая энергия и сила, входящая в соприкосновение с городом, сразу встраивалась в поток и направлялась на отведённое ей место.
Город видел, какое огромное количество человеческих судеб сплетается вокруг его судьбы. Город верил в людей и ждал. Как много их оказалось, готовых его защищать и отдать свои жизни за его жизнь! И это были не только те, кто жил в нём. К нему устремились и те, кто никогда раньше не ступал на его землю, и их было много. Очень много. Город готовился принять их всех. К нему с востока и запада непрерывным потоком двигались сотни и сотни тысяч, миллионы пульсирующих огней. Шли, чтобы столкнуться, смешаться, сойтись в ожесточённой битве. Битве, которая превзойдёт все прошлые битвы всех прошлых войн на земле.
Миллионы людей двести дней и ночей будут сражаться на территории почти в сто тысяч квадратных километров, и всё это будет объединять одно название – Сталинградская битва.
И люди, которые живут сейчас, и их потомки в будущем ещё очень много лет не смогут до конца понять и постичь великое значение и великую тайну этой битвы. Её истинное значение и скрытый временем смысл откроются людям лишь через многие годы после её окончания. Это случится после того, как город покинет и устремится ввысь последний огонёк – свидетель и участник этой битвы. Но откроется им эта тайна только при условии, что на земле не прервётся связь поколений, не умрёт священная память о великом противостоянии жизни и смерти. Память о той неизмеримо высокой цене, которая была заплачена. Память о тех потерях, о той великой жертве.
Потери были огромными. Теряя людей, обновляясь пополнением почти на три четверти, они отступали в боях весной сорок второго к Дону. Прибывающее пополнение с ходу бросалось в бой, и часто бывало так, что уже к вечеру следующего дня прибывшие вчера новобранцы могли считаться опытными бойцами.
Но, конечно, никто из них, даже самые лучшие, не был в состоянии сразу понять чувства державшихся всегда немного отдельно «стариков» – тех, кто уцелел и давно воюет. Тех, кто немного свысока поглядывал на «новичков». Понять полностью их горечь, усталость и злость могли только те, кто всё это время или гораздо больше, чем другие, был рядом.
Так устанавливалась на фронте особая, незримая, но крепкая и нерушимая общность людей, вместе в полной мере хлебнувших на этой треклятой войне тяжкого воинского труда и горя.
Одним из таких «стариков», бесспорно, был их старшина. Украинец Николай Охримчук, или, как он сам иногда себя называл, Микола.
Это был человек во всех смыслах колоритный.
Николай Охримчук был, наверное, один такой на всю их дивизию. Высокий, громкий, атлетического сложения: под гимнастёркой валами перекатывались мускулы. В их роте он возвышался над всеми и «вверх», и, как многие шутили, «вширь». При этом он был необычайно быстр, ловок и подвижен. Дополняло эту картину открытое, добродушное, по-деревенски простое лицо и совершенно не идущие к такому лицу пышные, ухоженные, даже холёные усы. Своими усами Охримчук явно гордился.
Говорил он всегда по-русски, но иногда переходил на ту особую, необычайно красивую и мелодичную смесь украинского с русским. В лихие минуты опасности или гнева он мог полностью перейти на «рщну мову». Но делал это очень редко.
Легко было поддаться на эту его открытость и простоту, на его своеобразный юмор и обаяние. Но если внимательно приглядеться к Николаю, то можно было заметить, что из серых глаз его на всё вокруг смотрела глубокая печаль, перемежаемая вспышками холодного, колючего, полного притаившейся грозной силы огня.
Ещё в мирное время он три года срочной службы отслужил во флоте. Потом вернулся домой, где и застала его война. Николай воевал с первых дней этой войны. Старшина Охримчук был командиром их ротной разведгруппы.
Иван попал к Охримчуку на следующий день после того памятного для него боя. Он, закончив поверку своего отделения, сидел, прислонившись к холодному колесу раскуроченной немецким снарядом и брошенной пока на их позициях сорокапятки. Охримчук появился перед ним совершенно из ниоткуда, будто соткался вмиг из воздуха. Ни скрипа снега, ни единого движения Иван так и не заметил.
Хитро поблёскивая глазами, глядя сверху вниз на Ивана, Николай сказал:
– Не сиди на снегу: хрен себе отморозишь – плохо бегать будешь. – Он протянул Ивану фляжку. – На вот, глотни, согрейся.
Иван глотнул немного из протянутой ему фляжки. Глоток приятно обжёг и согрел его.
– А куда тут бегать? – усмехнулся Иван, возвращая Николаю фляжку.
– Куда-куда, в разведгруппе моей бегать будешь, – как нечто уже давно решённое и не подлежащее обсуждению ответил Охримчук. – У меня, не бойсь, не замёрзнешь!
– Да я и не боюсь, – отозвался Иван. – В разведгруппу, так в разведгруппу. Я согласен. Когда начинаем?
– Вчера уже начали, – засмеялся Николай.
Разведгруппа была на особом положении в роте, в какой-то мере – независимом от общего распорядка. Но и задачи она выполняла особые. После выполненного задания бойцам-разведчикам часто давали возможность нормально отоспаться, что редко встречается в пехоте. Старшина Охримчук был умелым разведчиком и всех семерых бойцов своей группы обучал, хорошо видя и понимая, на что каждый из них способен.
Каждый из группы имел собственный позывной.
Охримчук был мастером раздавать всем прилипчивые прозвища. Как-то раз он назвал бойца, опрокинувшего на привале на себя свой котелок с кашей, Горшком. Так и прицепилось к тому это прозвище, и вскоре никто не мог уже припомнить ни имени, ни фамилии того бойца. Горшком для всех он и остался. Когда его, тяжелораненого, отправили в медсанбат, а оттуда в госпиталь, то так, говорят, и записали в ротной сводке, что по ранению убыл от них Горшок.
В их разведгруппе худой Жорка Васильев из Арзамаса получил позывной Шило, коренастый киргиз Айбек Мусаев почему-то имел позывной Феликс. Но со временем Иван понял, что каким-то непонятным образом именно имя Феликс ему удивительно подходило. Был у них и Флакон – сибиряк Серёга Братов, и Кирпич – квадратный богатырь Женя Ряхин. Юркий, невысокий москвич Костя Бакашов был Кошеней. Был у них и Монах – Кирилл Александров.
Случай с Монахом был особенный. Охримчук, иногда ругаясь, называл Кирилла и Попом, и Поповичем. А распекая за что-то Александрова, иронически вворачивал к нему обращение – святой отец. А всё потому, что, как выяснил потом Иван, боец-разведчик Александров был верующим человеком, постоянно читал молитвослов, напечатанный в маленькой книжице, и носил под гимнастёркой нательный крест и ладанку с небольшой иконой.
Само по себе это было не удивительно. Среди бойцов много встречалось верующих людей. А по меткому замечанию старшины, во время бомбёжки или артобстрела почти все бойцы становились верующими. Действительно, когда над головой оглушительно рвались снаряды, Иван, как и все остальные в окопе, то отчаянно матерился, вжимаясь в землю, хотя сильно не любил мат и старался никогда не сквернословить, то совершенно неожиданно для себя начинал звать маму. Но всегда наступал момент, когда он начинал молиться Богу о спасении или об окончании обстрела. Всё зависело от длительности и от силы бомбёжки или обстрела.
Но он всё же был воспитан атеистом и поначалу удивился, как верующий человек мог оказаться в их разведгруппе. Всем этим Александров вызывал в нём сильный интерес. Поэтому, сойдясь потом поближе, они часто, когда появлялась возможность, подолгу разговаривали.
Старшину наличие в разведгруппе религиозного человека ничуть не смущало. Его больше всего удивляло, что ни Иван, ни Кирилл, ни Айбек совсем не курили. Иван попробовал курить ещё в школе, потом он вполне осознанно от этого отказался и никогда больше не курил. А Монах вместе с Феликсом, похоже, и не пробовали ни разу.
– Ну як же так можно? Шоб на войне та и не курить! – часто нарочито громко возмущался старшина, глядя на Ивана с Кириллом. Но при этом неизменно добавлял: – Оно для разведчика, пожалуй, привычка курить действительно вредна. А то и смертельно опасна.
Охримчук иногда с иронией, ворчливо отзывался о своей разведгруппе, повторяя:
– Ну шо за вагон мне достался, сплошной интернационал, та ещё и для некурящих!
Иван тоже получил свой позывной. Ткнув его в грудь, Охримчук тогда просто сказал:
– Ты будешь Волгой.
– Как Волгой? – опешил Иван. – Это ведь женское имя!
Охримчук, побарабанив пальцами, словно молоточками, по его груди, широко улыбнулся, обнажая белые ровные зубы, и повторил с нажимом:
– Ты – Волга.
– Скажи ему спасибо, что он тебя Царицей не назвал, сталинградец, – хохотнул присутствующий при таком наречении Ивана Шило.
– Ну спасибо, Дед, – ответил Иван.
Все в группе за глаза, да и в глаза тоже, звали Николая Дедом. Он и не соглашался на это, и не запрещал так его звать.
Старшина был гораздо старше каждого из разведгруппы. Иван предполагал, что ему больше тридцати лет, но точного его возраста никто из них не знал. По самому Николаю это было невозможно понять. Его вполне можно было назвать человеком без возраста. Так причудливо уживались в нём суровость, опыт и твёрдость с его лёгким нравом и какой-то молодецкой удалью.
Иван многому научился у Николая. И как правильно, по-особому, наматывать портянки, и как приладить к ноге на специальном ремешке чехол-ножны для ножа. Как подавать друг другу сигналы в лесу, в поле и как долго, часами сидеть неподвижно в засаде, прятаться и бесшумно приближаться к противнику. Как его, этого противника, правильнее, если это требуется, скрутить, связать и нести потом на себе одному или вдвоём с напарником. Как вставить «языку» в рот кляп, чтобы тот не мог его выплюнуть и подать голос. Он подробно рассказывал Ивану и другим бойцам разведгруппы, какие мины могут им встретиться, когда пойдут в разведку, и на что обращать внимание, чтобы их распознать.
– Сапёры нам, конечно, хорошо помогают, но самим надо быть внимательнее и смотреть, где ямка, где бугорок, а где трава пожухлая. Там мины и могут быть, – говорил им Николай и добавлял: – В разведке, хлопцы, мелочей нет. Малейшая ошибка – смерть.
Многое объяснял им старшина. Часто он назидательно поучал их:
– Никогда не забывайте о том, что немцы – сильные вояки и очень хорошо подготовлены.
Он твердил им постоянно:
– Нельзя недооценивать противника. Особенно в рукопашной. Самое страшное и опасное на войне что? – задавал он им вопрос и тут же сам на него отвечал: – Это не бомбёжка, не миномётный обстрел и не когда жратвы нет, Флакон! – старшина резко обратился к жующему здоровяку Серёге, любившему крепко закусить и бывшему постоянно голодным по этой причине. – Бомба или мина, она дура: либо упадёт на тебя, либо не упадёт. А в рукопашной только и видно, что ты из себя представляешь. Тут выход только один: либо ты, либо тебя. Другого не дано. И запомните, рукопашная – это вам не мордобой какой-то, не просто драка. И не надо чем попало драться.
И не как Волга надо драться, тут тебе мало помогут все приёмчики да стойки боксёрские. Да и прикладом, как Ваня наш любит, драться не стоит. В серьёзной рукопашке кто ж тебе нормально замахнуться-то даст? Не успеть, братцы. Не даст тебе немец нормально замахнуться, не будет он ждать тебя. Поэтому винтовка или автомат в рукопашной за спиной должны висеть.
И вообще, Волга, к тебе персонально обращаюсь, прикладом от ППШ старайся не бить. Предохранитель ненадёжный у автомата. Вдаришь так, а он сам стрелять начнёт. Самопроизвольно. Да ещё и не одиночными, а сразу очередью. Смекаешь, как хреново может получиться?
Немного помолчав и покурив, старшина продолжил:
– Драться, мужики, сподручнее всего сапёрными лопатками. И штыками, а также ножами. В левой руке держи штык, лучше всего с трёхлинейки, а в правой – лопатку. И фрицы, те, которые поопытнее, так же дерутся и спуску вам не дадут. Не надо рассчитывать, что они вас испугаются и побегут. Может, даже испугаются и побегут. Но на это не рассчитывайте.
Закончив так, старшина обвёл всех взглядом и, ещё раз глубоко затянувшись, вдруг спросил:
– А что, бойцы, самое главное в рукопашной?
Несмотря на то, что все промолчали, на миг задумавшись над таким вопросом, он снова ответил сам:
– Правильно! Самое главное – чувствовать локоть товарищей справа и слева. Если распадается ваша шеренга, – сразу становитесь спиной к спине! Иначе сзади по вам вдарят фашисты. Сначала, если сошлись с врагом, делаешь штыком, что в левой руке, выпад вперёд.
Дед сделал резкое движение рукой в сторону стоявших ближе всех к нему Монаха с Феликсом. Те испуганно отшатнулись.
– Вот! Это нужно, чтобы противник не приближался или трухнул трохи. А как только он башкой крутить станет, как Монах сейчас башкой завертел, или просто чуть в сторону посмотрит, – руби что есть мочи с правой лезвием лопаты ему по шее. Зря мы, что ли, их так заточили-то? Тут фрыцу и кирдык придёт, – завершал наставления старшина.
– Да, Феликс? – как всегда в конце обращался он к Айбеку.
Мусаев вскочил и бодро выпалил:
– Так тосьно, товарища Дед! Полная кирдык ему придёта!
Все покатились со смеху, слыша, как Айбек нарочно, для хохмы, коверкал слова. На самом деле все они хорошо знали, что грамотной русской речи Айбек мог ещё и любого русского поучить. На родине, в Киргизии, мать его работала в школе учителем русского языка и литературы.
– А если серьёзно, ребята, – часто повторял старшина, – разведка – дело очень непростое, и я хочу, чтобы вы не только нормально воевали, но и выжили.
Николай часто сам вступал с каждым из бойцов своей группы в учебную схватку. И когда разведчик его вдруг побеждал, он сильно радовался и мог потом за это бойца расцеловать.
«Да… Интересна, но страшна была та наука», – подумал Иван.
Воистину страшен всегда, во все времена, был русский рукопашный бой. Часто, когда дело доходило до него, не выдерживали нервы у противника. Бросался он в бегство. И ничего, кроме численного превосходства, не могло его спасти от той сметающей всё ярости, бешеной злобы людей, бьющихся насмерть. И трещали кости, и бывало, что слетали с плеч головы, снесённые сапёрными лопатками. И фонтаном била из обезображенного туловища кровь, качаемая ещё живым сердцем. Невозможно было всё это вынести и выжить, не загнав глубоко в себя, не отключив, не подавив в себе на время яростной схватки всё человеческое.
Разные у разведгруппы были задания, и далеко не всегда всё шло по плану. Действовать часто приходилось по обстановке. Много раз им удавалось избежать неминуемого уничтожения группы благодаря какому-то звериному чутью старшины Охримчука, их Деда. Не могло в таких условиях обойтись и без потерь.
Через два месяца после того, как Иван стал частью разведгруппы Деда, потеряли они Кирпича и Шило.
В середине января сорок второго года, в ходе зимнего контрнаступления, войска Юго-Западного фронта, где была их дивизия, сосредоточили свои силы на щигровском направлении Курской области. Перед началом контрнаступления они получили приказ: во что бы то ни стало взять «языка». Причём тогда разведгруппа Охримчука должна была взять «контрольного языка». Пленным слабо верили, как всегда, а в ту пору – особенно. Все их показания старались проверять. Поэтому и понадобился второй, «контрольный язык».
Пошли ночью. В группе захвата: Дед, Феликс, Кошеня, Монах, Флакон и Волга. В прикрытии: Георгий Васильев – Шило, Евгений Ряхин – Кирпич и ещё один новенький боец – Андрей Сёмушкин, недавно принятый в их группу и позывного пока не имеющий. Так сложилось, что в последнее время задача прикрывать отходящую с «языком» группу выпадала именно Георгию и Жене.
С самого начала, с первого их знакомства Женя сразу сблизился с Жоркой Васильевым. Было трудно объяснить, почему так вышло.
А как люди между собой сходятся? Пожали друг другу руки, улыбнулись, перекинулись парой ничего не значащих слов. И затеплилось что-то от этой улыбки, от взгляда, от странного, неуловимого осознания, что рядом с тобой родственная тебе душа. Что рядом – друг. Так и у них с Жорой получилось. Хоть и разные они были как внешне, так и по характерам.
Женя с удачной для своей комплекции фамилией Ряхин – здоровый, крепкий и очень спокойный. Безмятежный просто. Но несмотря на свою «удачную» фамилию, старшина всё-таки метко его Кирпичом нарёк. Было в нём что-то квадратное, угловатое, в общем, кирпичное. Георгий, он же Жора, совсем другой. Тощий, но при этом сильный и жилистый, подвижный, как ртуть, и беспокойный. Настоящее шило. Старшина ещё не раз добавлял, что это шило у него было в известном месте. И ведь словно прилипли они друг к другу. А когда вместе в первую свою разведку сходили и потом стали ходить, то это чувство близкой и крепкой дружбы уже нельзя было ни с чем перепутать.
В их разведгруппе отношение друг к другу было очень тёплое. Вначале к тебе все присматриваются. А принимают в коллектив только после совместных вылазок в немецкий тыл, где человек быстро проявляется. Были случаи, когда у вроде бы нормальных бойцов не выдерживали нервы. Ведь каждая вылазка «на дело», как выражался Дед, – это как прыжок в ледяную полынью. И выплывешь ли ты оттуда, вернёшься ли назад, никогда не известно. Нельзя заранее представить, что ждёт тебя там, впереди, как переползёшь через нейтральную полосу, замирая в свете ракет и при каждом постороннем шорохе. Те, кто не справлялись, терялись, пугались, начинали паниковать, – просто отсеивались, если дело из-за них не оборачивалось серьёзными проблемами или потерями. И таких больше не брали в разведку.
– Не для них разведка, – просто говорил тогда старшина.
Многих, кто во время вылазок проявлял малодушие, просто выгоняли из разведки – прохвосты и трусы там не задерживались.
Так и сплотилась в итоге их разведгруппа, где всех объединяло боевое братство. Но Женю с Жорой крепко связывала ещё и мужская дружба.
Тогда было холодно, морозно. Вышли со всеми предосторожностями глубокой ночью. Оделись хорошо: валенки, ватные брюки, тёплое бельё, фуфайки, тёплые рукавицы. Поверх всего этого – маскхалаты. Между немецкими позициями и нашими – небольшая замершая река. Получалось, что нейтральная полоса проходила как раз по льду этой реки.
Шли очень осторожно. Когда от берега до переднего края немецких позиций осталось метров двести, преодолели их ползком. Сёмушкина, как пока что новенького и не проверенного в деле человека, на всякий случай оставили на льду, чтобы он прикрывал, если немцы попробуют отрезать группе отход. Остальные расположились тут и сделали засаду. По всем расчётам, скоро должна была произойти смена немецкого охранения. Долго ждать не пришлось.
Немцы появились примерно в три часа ночи. Шли двое, не спеша, разговаривая на ходу. Бойцы группы захвата сразу определили, что это не смена, – идут два офицера. Когда они поравнялись с засадой, то их обоих тихо взяли. Потащили немцев на лёд. Успели оттащить метров сто от берега, как вдруг немцы всполошились. В небо полетели осветительные ракеты. Группа отхода с двумя пленными офицерами сразу оказалась на виду.
Большая группа фрицев высыпала на берег. Женя дал прицельную очередь по бегущим из своего укрытия. Несколько человек упали, остальные залегли, открыли огонь. Жорка тоже дал длинную очередь по набегавшим справа от них немцам и прижал их к берегу. С немецкой стороны всё прибывали, рассыпаясь цепью, вражеские солдаты. Заработали пулемёты. В это время Сёмушкин вскочил и помчался, убегая за отходившей группой, так и не сделав ни одного выстрела по бежавшим немцам. Он бежал по льду, а по нему с немецкого берега били несколько пулемётов трассирующими пулями. Женя отчётливо увидел, как трассеры догнали убегающего Сёмушкина и все разом, соединившись, впились ему в спину. Его скошенное пулями тело опрокинулось на лёд.
Женя продолжал стрелять по набегающим немцам, как вдруг трассеры от пулемётов сместились в его сторону, и его остро и сильно хлестнуло по ногам и по голове. Одной пулей с него сбило шапку, оцарапав макушку, другой – насквозь пробило щеку. Пули раздробили ему левую голень и глубоко вошли в бедро правой ноги. Он опрокинулся на спину и застонал.
К нему подполз Жорка, испуганно прошептал:
– Ты как, Женя? Ранен? Сильно?
– Жорка, друг… Я, похоже, отвоевался, – отплёвываясь кровью, прохрипел Женя. – Я тут останусь. Ещё немного их подзадержу, сколько смогу… А ты – давай на тот берег. Группа наша с «языком» ещё не успела уйти. Прикрой их там…
– Я тебя не брошу, брат! – отчаянно вскричал Жора.
– Мы оба с тобой знаем, что так надо, – хрипло прошептал Женя, перевернулся на живот, вставил запасной диск в автомат и, брызгая изо рта кровью, закричал на Жорку: – Ну! Иди же!
– Я вернусь за тобой. Держись и жди меня, братка, – сказал Жорка и скользнул в темноту, сильно забирая вправо.
Немцы пока не стреляли. Слышны были их отрывистые крики. Они о чём-то громко переговаривались. Женя лежал, выставив вперёд автомат. Он достал и положил рядом с собой сменный диск и пару «лимонок». Голова немного кружилась. Он поднял и снова нахлобучил себе на голову изодранную пулей шапку. Кровь из царапины с макушки уже не текла ему на лицо.
«Неглубокая там, видимо, царапина. Затянулась», – подумал он.
Сильно кровоточила пробитая щека. Он заткнул её варежкой. Беспокоили его только ноги. Он их не чувствовал, они были как деревянные. Он понимал, что раны там очень опасные и из-за них, именно этих ран, он так быстро теряет последние силы…
Внезапно довольно далеко справа «заговорил» в сторону немцев Жоркин ППШ. Немцы, словно очнувшись, разом ответили ему огнём.
«На себя, гадёныш эдакий, огонь вызывает, – понял Женя, – фрицев от меня отвлечь вздумал».
– Ну, это у тебя не выйдет, – хмуро прошипел Женя в темноту.
Он лежал, какое-то время пытаясь справиться с подступающей к нему дурнотой.
«Только бы сознание не потерять, – забеспокоился он, – так и в плен могут взять. А в плен я больше не пойду. Ни за что».
Чтобы не отключаться и распалить себя, он вспомнил, как летом сорок первого попал в плен к фашистам.
Женя родился в августе 1920 года на казачьем хуторе Какичев, что находился рядом с Белой Калитвой. Испокон веков здесь проживали казаки. Семья его: отец Емельян Павлович, мамка Александра Митрофановна да братья, старший Василий и младший Иван, – все жили в небольшой землянке со стенами, обшитыми тонкими досками. Пол тоже был земляной. Жили бедно, хозяйства у них не было, кормились в основном с огорода. В 1927 году семья Ряхиных одной из первых вступила в колхоз. Работали все много. Приучены были к трудной работе. Вроде и начала жизнь налаживаться. Но в 1935 году на редкость холодной выдалась зима в их краях. А надо было ехать за сеном для колхозного стада. Ехать далеко от них, на Чёрные земли. Отправили туда несколько подвод. Поехал и Емельян Павлович со старшим сыном Василием.
Никто не вернулся назад. Замёрзли все. Весной только нашли в стогу сена трупы всех, кто из Какичева уехал. Осталась мамка одна с двумя детьми. Да, голодное и тяжёлое детство выпало на долю Евгения. Но сила, заложенная в нём природой, помогла ему в эти трудные годы и выжить, и с работой справиться, и семилетку окончить.
В 1940 году отправился он служить в Красную Армию. Ребят в армию провожал весь Какичев. Служил Женя в стрелковом полку. Весной 1941 года их стрелковый полк перебросили к границе, недалеко от Бреста. На границе было очень неспокойно. Многое говорило о приближении войны: скопление живой силы и техники рядом с нашей границей, наглое, провоцирующее поведение немцев.
22 июня 1941 года все проснулись от страшного грохота, всё было в огне, рвались снаряды, слышались крики раненых и умирающих. Их часть стала отступать, неся потери, в полной неразберихе, без связи, без боеприпасов. Женя вспомнил, как они, испуганные, измотанные и обессиленные, прятались ночью в лесу. Утром они попали под миномётный обстрел, и его оглушило. Он потерял сознание, а когда пришёл в себя, то услышал чужую грубую речь. Это и был плен.
Он оказался в построенном наспех лагере для военнопленных. Рядом с нашей границей, в Польше, большую территорию обнесли колючей проволокой, наскоро сколотили тесные бараки и затолкали туда сверх всякой меры наших пленных. Охраняли лагерь немцы с собаками. Пленных практически не кормили в том лагере. Давали на всех какую-то вязкую, смешанную с опилками размазню и ржавую, тухлую воду. В лагере было много раненых. Они-то в первую очередь и начали умирать от ран и истощения. Трупы складывали тут же вдоль ограды с колючей проволокой, как дрова, – в огромные штабеля. В эти ужасные штабеля ежедневно – каждое утро и каждый вечер – мёртвых относили и складывали сами пленные. Женя несколько раз относил туда тела умерших с напарником, земляком из Белой Калитвы, которого он тут встретил, Мишкой Нефёдовым. С ним он и решил бежать. В первый раз.
Тогда, вечером, оттащив очередных мёртвых к «колючке», они с Мишкой остались там, забравшись в узкий просвет между холодными, окоченевшими телами и другими, самыми страшными – размякшими и оплывшими. Остались там до темноты. Их не заметили. Они лежали, задыхаясь от смрада. Когда достаточно стемнело, выбрались из страшного своего убежища, проползли под «колючкой» и бросились бежать. Бежали изо всех сил, задыхаясь и жадно хватая воздух ртом. Но только, видимо, конвоиры их заметили. Быстрой оказалась погоня. Собаки настигли их. Немцы не торопились отогнать собак. На ногах у них потом остались глубокие шрамы от укусов.
Неудача эта их не остановила. К тому же все знали, что готовится отправка пленных в Германию. Откуда сбежать уже невозможно. Они с Мишкой решили ещё раз рискнуть.
Однако помог бежать случай. Тёмной осенней дождливой ночью пролетел над ними наш бомбардировщик. Неизвестно почему он отбомбился рядом с ними, и одна из бомб угодила в аккурат в полосу препятствий за лагерем, частично разметав ограждения. И Женя, постоянно готовый к побегу, сразу рванулся туда, в пролом. Бежал долго, под проливным дождём. Скорее, скорее – в лес. Так и спасся. Начал пробираться на восток. Шёл ночами. Иногда осторожно заходил в дома. Ему везло – всюду его подкармливали.
В расположение нашей советской части вышел неожиданно. Он и не знал, что давно уже пересёк линию фронта. Потом было долгое разбирательство с работниками особого отдела. Подробный разговор о концентрационном лагере. Но его спасло, что он не один вырвался тогда из этого лагеря, было ещё несколько групп, которые бежали оттуда и пробились к своим. Все их рассказы совпали, поэтому никто не был отправлен в штрафную роту. Так и попал Евгений в свою роту, а потом и в их разведгруппу.
Женя открыл глаза и понял, что ненадолго отключился. Вдалеке справа всё ещё раздавались выстрелы.
«Это Жорка стреляет», – понял он.
Мимо него, шагах в десяти, неслышно двигалась группа немецких автоматчиков. За ними на небольшом отдалении шла вторая группа немцев. Они не видели или не обращали внимания на него. Может, считали его убитым. Немцы, скорее всего, старались по большому кругу обойти Жорку и замкнуть его в полукольцо. На короткое мгновение у него промелькнула слабенькая мыслишка: «Меня не заметили… Я ранен… Могу ведь отлежаться… А как немцы пройдут, поползу к своим. Кровотечения сильного нет. Доползу поближе, а там и наши вернутся за мной. Они обязательно, как всегда, проверят. Не бросят… Потом в медсанбат. И жив буду…»
Но навстречу этим мыслям всколыхнулась другая, упорная: «А Жорка как? Пусть сам, без меня, отбивается?»
Нет. Он ясно понимал, что не станет отлёживаться.
Женя, стиснув зубы, приподнялся и что есть силы швырнул одну, потом вторую «лимонку» в ближнюю группу немцев. Среди немцев здорово громыхнуло. Он упал и, развернувшись в сторону второй группы, нажал на гашетку своего ППШ. Не мог Женя видеть, что в нескольких шагах от него, за его спиной, была третья группа немецких солдат. Сначала, когда он открыл огонь, они от неожиданности залегли. Но опомнившись и увидев, что огонь ведёт лишь один, по всей видимости, раненый солдат, забросали его гранатами.
Жорка матерился, но полз вперёд. По взрывам слева он понял, что теперь, несмотря на то что он так старался отвлечь внимание немцев на себя, он остался один в прикрытии отхода своей разведгруппы.
«Погиб Женька… Эх, Кирпичик ты мой… Братка… Упрямый…» – пронеслось у него в голове.
Когда понял, что их разведгруппа с двумя пленными уже отдалилась на безопасное расстояние, тоже решил уходить. Как только погасли ракеты, Жорка успел отбежать в сторону метров на двести. Понимая, что клубок пламени, вылетающий из ствола и отверстий кожуха его ППШ, является ночью для немцев отличной мишенью, он стрелял, ловко меняя места, держа автомат над головой.
Но вот опять вверх взвились ракеты – и его обнаружили. Открыли просто ураганный огонь. Пуля угодила в ногу. Удар был огромной силы. Жорка упал на лёд. Немцы снова, как назло, осветили весь берег ракетами. Пули шли на него огненной стеной, вздыбливая вокруг осколки льда. Он лежал, вжимаясь в лёд, а пулемётные очереди проходили над ним, не попадая, но вырывая клочья из его фуфайки, ватных брюк и даже из валенок.
«Похоже, и я отвоевался», – пронеслось у него в голове.
Георгий Васильев ушёл на фронт мальчишкой, когда ещё даже не окончил школу. Его зачислили в военно-воздушную бригаду. Родителей своих он не помнил. Вернее, совсем их не знал. Так, что-то туманное всплывало из далёкого детства, какие-то тёплые руки, запах мамы, обнимающей его. Потом ему вспоминался только арзамасский детдом.
Тяжелы были эти воспоминания. За свою жизнь и место в этой жизни надо было постоянно драться, иначе пропадёшь. Не было у него никогда друзей. Всюду в этом мире он был один – никаких близких.
В начале войны он участвовал в боевых действиях в составе Второго и Третьего Украинских фронтов, был командиром отделения. Жорка почему-то вспомнил первого убитого им фашиста. Они отдыхали в лесочке, когда он услышал немецкую речь. Потом ему объяснили, что это немец-радист передавал по рации информацию о себе, где находится. Его оставили как шпиона-разведчика, этого немца. Жорка выбежал к немцу и по усвоенной ещё в детдоме привычке – бить всегда только первым – с силой приложился тому прикладом по голове.
Потом было ранение под Вязьмой. Госпиталь. После переформирования он попал в эту – свою роту. Рота действительно сразу стала своей. Скорее, не рота, а их разведгруппа. Впервые он был не один. Здесь обрёл он настоящего друга.
В их самую первую вылазку он, всегда ловкий и юркий, неосторожно, а может, по глупости, слишком лихо перепрыгивая через валежник в лесу, подвернул ногу. Они уходили тогда с «языком». «На хвосте» у них сидели какие-то очень настырные немцы, которые их долго преследовали и всё никак не отставали. Всё гуще и гуще свистели вокруг них немецкие автоматные очереди. Упав и взвыв от неимоверной боли в подвёрнутой ноге, Жорка успел только подумать: «Всё… Хана мне…»
Но бежавший за ним и отстреливающийся от немцев Женька Ряхин вдруг легко подхватил его и, почти не сбавляя темпа, побежал с ним дальше. Ошеломило в тот момент Жорку не столько это, а то, что Женька не взвалил его себе на спину, а прижал к груди. И нёс его так какое-то время.
Они отстали от группы, а когда вышли к своим, он спросил Женьку:
– Ты чего меня так сначала понёс? Это же тяжелее и неудобно.
– Это я, чтобы в тебя пули не попали, – улыбаясь ему, ответил Женька.
– А в тебя-то пули, что? Не могли попасть?
– Мне-то чего? Я ж Кирпич, и спина у меня – кирпичная, – хохотнул Женька.
С того момента и началась их дружба…
Отчаянно матерясь, он приподнялся на колени и локти, пытаясь отползти от этого проклятого освещённого ракетами места, где он был виден как на ладони. Сильно ударило в плечо, потом в живот. Жорка упал. Немцы стрельбу прекратили.
К нему медленно, держа автоматы наизготовку, приближались несколько фрицев.
«Идут добивать, гады», – зло подумал он и достал гранату.
Жорка лежал не двигаясь. Он затаился и ждал момента. Вдруг враз погасли все немецкие ракеты и стало темно. Он перевернулся и лёг лицом к идущим немцам, и когда они были уже в двух шагах от него, выдернул чеку из гранаты…
Подумав о ребятах, Иван закрыл глаза, заскрипел зубами. Почти забытое, отложенное куда-то на глубину памяти чувство обожгло его. Ужасное чувство утраты и тяжёлое ощущение своей вины. Вины за то, что он жив, а они погибли.
Тогда ещё убило одного из взятых немцев и ранило Кошеню. Иван взвалил его себе на плечо, пытаясь одной рукой помогать тащить притихшего грузного, тяжёлого второго немца. Через какое-то время он сам чуть не свалился, вконец обессилев. Кошеню подхватил Дед, легко, как невесомого. Петляя заснеженными перелесками и одному ему понятными тропами, старшина вывел их к своим. Кошеня очень быстро, за месяц, поправился и вернулся к ним из госпиталя.
Дед умел чётко ориентироваться в сложных ситуациях и всегда угадывал, где надо действовать нахрапом и без промедления, а где подождать, столько, сколько потребуется – хоть сутки, хоть дольше.
В одну из таких весенних вылазок, уже в марте сорок второго, на окраине деревни, занятой фашистами, их группа провела больше трёх суток в ожидании во дворе разваленной авиабомбой хаты. Они, спрятавшись за скособоченной стеной, вели наблюдение за перемещением и количеством немецкой техники и живой силы. Как приказал Охримчук, они разбились на группы и сменяли друг друга. Пока одни отдыхали, другие дежурили. Иван был в паре с Николаем.
Они сидели друг напротив друга, облокотившись на брёвна и подставив лица начавшему по-весеннему пригревать мартовскому обманчивому солнышку. Весна в этом году выдалась холодной, зима была затяжной. Они с Дедом тихо разговаривали. У Ивана за плечами было почти четыре месяца в разведгруппе. Многое уже было пережито.
Иван говорил старшине о жизни в Сталинграде, об Ольге, о родителях. Потом попросил Николая рассказать о себе. Дед ничего не ответил. Он как-то удивлённо посмотрел прямо в глаза Ивану, потом привалился головой к брёвнам, закрыл глаза и надолго замолчал. Молчал и Иван. Так они просидели не меньше часа. Ивану показалось уже, что Охримчук заснул, как тот, не открывая глаз, начал рассказывать.
– В роду моём все мужики были кузнецами. Отец мой, Михаил Терентьевич, держал в Белагородке, селе нашем, кузницу, которая досталась ему ещё от его отца, моего деда, тоже кузнеца.
В мирное время были кузнецами, а в военное – воинами. Отец мой воевал с германцами в первую войну. Дед ходил на войну с турками. Оба с тех войн вернулись, и дома их дождались. А мне и возвращаться некуда…
Николай тяжело вздохнул и опять надолго замолчал. Иван молча ждал, когда он продолжит. Охримчук поднялся и, пригибаясь, неслышно, по-кошачьи, пошёл проверить ведущих на своих постах наблюдение Кошеню с Феликсом и Монаха с Флаконом. Вернувшись, пристроился на том же месте и продолжил:
– Я тоже стал кузнецом. Мальцом ещё постоянно помогал отцу. В 1927 году отца перевели работать кузнецом в нашем колхозе. Потом, с 1930 года, и я стал кузнечить в колхозе нашем.
К нам в Белагородку несколько семей переехало из окрестных сёл и деревень, чтобы жить и работать рядышком с колхозом. Белагородка – маленькое село, но были дома, которые пустыми стояли. Там все и разместились.
Тогда и познакомился я со своей Олесей.
Они к нам с отцом, матерью и бабкой приехали. Олеся дояркой к нам в колхоз устроилась, как и мать моя, Арина Андреевна.
Многих девок я до Олеси знавал. Иные сами мне на шею вешались. Парень я видный был, что уж говорить. Не то что теперь…
Дед хмыкнул и, немного помолчав, продолжил:
– Шевелюра с чубом у меня богатая была, девки за волосы постоянно меня тягали, да и сам я бойкий до девок был. А как Олесю на нашей улице увидел в первый раз, так и замер на месте. Ни сдвинуться, ни сказать ничего не могу.
Высокая, ладная вся, тёмные глаза под бровями вразлёт так и светятся. А глубокие они какие… Лучше в них и не заглядывать, утонешь и пропадёшь совсем. На губах её всегда озорная, иногда чуть насмешливая улыбка играет, а на щеках – ямочки. Что за чудо эти ямочки… Вспоминаю сейчас их, и так каждую расцеловать хочется, что сил нет…
Улыбнулась она мне и прошла мимо, а я пень пнём стою и взглядом только её провожаю. С того момента мне каждый день видеть её надо было. Просто не мог я без этого.
Подружились мы не сразу. Но и я ей в конце концов приглянулся. Встречались вечерами, после работы, провожал её до дома. Стал у них частым гостем.
Но недолго я покузнечил в колхозе. В 1931 году пошёл служить. Попал на Черноморский флот, где за три с половиной года сделали из меня настоящего военного человека. Но после службы в колхоз вернулся.
Олеся дождалась меня из армии. В тридцать пятом году сыграли свадьбу. Жить у нас стали. А тридцать шестой год, как вся жизнь наша, был и горестным, и радостным.
Олесе уже рожать, да захворала сердцем мама моя, Арина Андреевна. Всегда крепкая была, да чего-то расклеилась. Маму отвезли в районную больницу. Туда же, в родильное отделение при больнице, отвезли и Олесю.
Родилась дочка у меня. Мы заранее решили, что, если сын родится, Терентием назовём, а если дочь, то Оксаной.
Сыновей мне Бог так и не дал.
А Оксаночка родилась такая хорошенькая, ямочки на щёчках такие же, как у Олеси. И всё гугулит чего-то, а когда молочка из маминой груди напьётся, то улыбается и засыпает с улыбкой своей ангельской.
Когда из родильного отделения выписывались, зашли к маме в палату внучку показать. Как она рада была! Олесю и Оксаночку всё прижимала к себе, целовала обеих, плакала от радости и тут же смеяться начинала. Мы домой уехали потом, а мама к утру умерла – сердечко её больное не вынесло радости такой. Вот как бывает…
Горько это было… Но стали мы в избе нашей вчетвером жить: отец, я с Олесей да Оксаночка. А через год подарила мне Олеся ещё дочку. Ариной назвали, в честь мамы. Такая же, как Оксана, мамина дочка получилась – с ямочками. Ариша, как ходить начала, вечно хвостиком за Оксаной держалась. Куда Оксана, туда и она. Обе дочурки хохотушки страшные были. Всё их веселит, а если что не смешно им, то всегда они сами повод найдут, чтобы вдоволь нахохотаться.
Любил я их без памяти. А с дедом их, отцом моим, вообще что-то непонятное приключилось. Из сурового и строгого мужчины превратили его внучки в счастливого, обожающего их друга и заступника. Во всём он им потакал и все их шалости покрывал.
Работали мы с Олесей в те годы много. Хлопотали всё, суетились, о чём-то печалились. А не понимали, что это было самое счастливое время в нашей жизни. Не ценили мы этого. Не умели… Правда, жили душа в душу. Никогда толком не ругались и не ссорились. Так, если по мелочи какой да ненадолго.
А какие у нас места красивые! Ты бы знал! Гоголь свои «Диканьки» с нашей Белагородки писал, ей-богу. Летние дни такие же, как у него в книгах, – роскошные и чудные. Небо, морем бескрайним над землёй раскинутое, и дубы, и подсолнечники, и поля, и стога сена в них. И сады, и блестящая на солнце речка. А жаворонки в небе! И чайки, и перепела. Всё как будто про нас написано.
А ночи какие! Ароматные! Звёзды яркие, над самой головой нависают, протяни руку и сорви. А луна в ночной тишине, точно прожектор на военном корабле или маяк, заливает всё своим особым светом.
Село наше красиво на холмах раскинулось. Зимой снежно бывает. Детворе горки готовые – только и катайся с холмов. Над хатами дымок вьётся. Выйдешь вечером во двор, глотнёшь воздуха и пьян от этого только. На холмах окошки домов светятся нарядно, мерцают, как звёздочки, между собой перемигиваются. Так и кажется вечерней тёмной порой, что высунется из печной трубы гоголевский чёрт и потрусит, пригибаясь, по крышам – месяц красть. А я себе в такие зимние вечера кузнецом Вакулой казался. Смешно…
Благодатный наш край сказочно. А земля какая плодородная! Шутили у нас на селе: весной в землю можно палку воткнуть, а осенью на ней что-нибудь да вырастет. Я так у себя во дворе, ещё пацаном, иву плакучую посадил. Принёс как-то прутик ивовый, поиграл-поиграл с ним да и воткнул в землю на краю огорода. А он возьми да и приживись, корешки пустил. Тогда я ту иву поливать начал, да от кур наших оберегать, которые у нас по двору гуляли, да всё норовили её из земли выдернуть.
Окрепла моя ивушка и выросла такой красавицей, что я мог долго на неё любоваться. Обнимал её и всегда с ней разговаривал, как с живой. Это меня дед Терентий, пока жив был, научал:
– Всё, Миколка, вокруг нас живое. Всё дышит, даже если ты этого не видишь. Люби и попусту не обижай ни человека, ни зверя, ни растения, ни дома своего, ни речки, ни – Боже упаси – дерева. Со всеми здоровайся мысленно, разговаривай. И тебе все рады будут.
Чудной у меня дед был. Не всегда я его понимал. Но с ивушкой своей я всегда разговаривал. Олеся, когда к нам переехала, тоже её очень полюбила. Часто под ней сидела, задумавшись, и тихо улыбалась. Говорила:
– Спокойно мне всегда под ивою твоей. Ласковое дерево.
Мне иногда казалось, что похожи они с ивушкой чем-то были. А чем и как, я тебе и объяснить толком не смогу.
Дочки мои как чуть подросли, так всё залазили на неё. Будто пацанята какие. Подолгу могли так на дереве сидеть, прячась в листве, играя. Дед на них всё за это сердился. Боялся, что свалятся и ушибутся.
Вспоминаю эти благословенные годы и удивляюсь, как не умел я жить настоящим. Радоваться не умел. Всё о будущем тревожился, о жизни лучшей для себя и семьи своей. А настоящего-то и не видел. Только сейчас понимаю это как счастье. Глаза закрою и в то время возвращаюсь. Так бы там и остался, если бы мог.
А будущее, совсем не такое, как мы себе загадывали, на нас грозно обрушилось. Как неистовая буря.
Как война началась, меня сразу призвали. Да я и сам на фронт рвался – уж больно близко враг был от родного дома. Отец добровольцем просился, да не взяли его:
– Куда ты, старик, – сказали, – без тебя есть кому воевать.
Да уж… Я думал, меня во флот направят, но нет. Попал я в пехотный батальон. Воевать начал на Юго-Западном фронте.
Комбат наш мировой мужик был. Ещё старше меня. Невысокий, но крепкий, седой весь. Отчаянной смелости человек был. В атаку нас за собой поднимал – в полный рост на вражеский огонь шёл. А ведь людей в атаку поднять – это, брат, пострашнее будет, чем самому подняться. Ты уж мне поверь, по себе знаю.
Да… Многое мы о себе узнали в эти первые дни войны…
Николай, замолчав, подгрёб к себе валявшуюся рядом сучковатую палку. Резко, как спичку какую, переломил её сильными ручищами пополам и отшвырнул в сторону. Потом он надолго замолк.
– Убили комбата-то? – спросил наконец не выдержавший долгой паузы Иван.
Ещё немного помолчав, Охримчук, как будто и не услышав вопроса, продолжил:
– Понимаешь, он, несмотря на свою храбрость и жёсткость, бойцам своим как отец был. Заботился, выгораживал нас, а сам потом от начальства получал. Часто говорил нам:
– На войне погибнуть – это слишком просто. А ты вражескую гадину бей да сумей уцелеть, чтобы потом продолжать её истреблять. Сохранись для жизни, но смерти при этом никогда не бойся и будь к ней готов.
Дрались мы отчаянно, гибло наших много. Но ведь и силёнки неравные были. Фриц как раз на нашем направлении основной свой удар по стране нанёс. Давил нас численным превосходством, и техникой своей, и внезапным нападением, конечно. Но мы в эти первые дни тоже ему хорошо по зубам надавали. Думаю, что мало где они такое яростное сопротивление встретили, как у нас. Хотя и драпали в те дни мы от немцев тоже сильно.
Очень тяжело отступать было. Но невозможно было не отступать. Если бы не отступали, хоть и с контратаками постоянными, то бомбёжкой, артиллерийским непрерывным огнём, техникой, танками своими совсем бы раскатал и истребил бы нас фашист.
Очень тяжело было с отчаянием людей бороться. Многие бойцы безнадёгой были полнейшей охвачены. Как во сне всё делали, да и, конечно, усталость была смертная, на ходу засыпали. А главное было – побороть в себе и помочь другим справиться с этим страхом, отчаянием, неверием в силу свою и покорностью перед сильным врагом. Заменить всё это надо было в себе и в других злобой на врага и верой в победу нашу. Мы и старались.
А вера эта, в нашу победу, была. Точно была! Только ей и спасались мы в те дни.
Нам время надо было ещё своим сопротивлением выиграть – в тылу наши силы стягивались, формировались усиленно.
Только медленно что-то и не вовремя как-то. Заранее бы всё. Плохо нас готовили к войне. Вот мы и не готовы оказались. Все силы, люди, вся техника по стране оказались разбросаны. Сразу в один кулак и не соберёшь.
Ты и представить себе не можешь, как горько и тяжко мне было отступать. Ведь мы уже, считай, в моих родных краях воевали в те дни. Хотелось зубами за землю вцепиться – и ни шагу назад. Но полноводным морем, волнами накатывала на нас немецкая махина, и откатывались мы назад, сметаемые и разбиваемые на части. Словно куски земли и глины под напором воды.
Разметало и наш батальон. Разбил его фашист на части, с двух сторон, в районе между Миклошами и Денисовкой, небольшими сёлами вдоль речушки Сименовки. А оттуда до моей Белагородки километров двадцать всего будет.
Горестно вздохнул при этих словах Охримчук, делая долгое ударение на первое «о» в слове «километров», и продолжил:
– Да, километров двадцать. Всего-то… Небольшой группой начали мы выходить из окружения. Комбат наш слегка раненный был в плечо, так лишь, задело его. Да со мной ещё десять бойцов. К своим надо было пробираться.
Наш фронт, Юго-Западный, в первых днях июля был отброшен немцами на рубеж реки Стырь, к Староселью, Аннополю. А в основном – к Изославлю, что был от нас примерно в сорока километрах.
Туда, к Изославлю, наш комбат и установил нам прорываться. А мне, как знающему здешние края, приказал выводить нас окольными тропами, обходя стороной крупные населённые пункты и большие дороги. Так как всюду были немцы.
Шли мы только ночью. Пробрались, когда светать стало, на окраину села Акоп. Само село начисто разбомблено и сожжено. Жителей не видно было. С самого краю, в перелеске, нашли мы полуразвалившийся сарай, да и решили там разместиться, отдохнуть, да и день переждать.
Мы в стороне с комбатом сели. Разговорились. Видно, он мне на тот момент крепко доверял уже. Поэтому и поведал о себе многое.
О том, что задолго до войны, ещё в 1937 году, он командовал целой дивизией. А в тридцать восьмом году был арестован и осуждён как враг народа на десять лет лагерей. Но весной 1941 года неожиданно вернули ему свободу, реабилитировали и сразу назначили, уже, правда, всего лишь командиром батальона. Да он и этому был рад.
«После того, что я в НКВД да в лагере прошёл, это не понижение в должности и звании, а немыслимое повышение было…» – так он мне сказал тогда.
Досталось ему, видать, в органах-то наших. Рассказывал он мне, что с допросов иногда в камеру на носилках возвращался. Так его с пристрастием допрашивали. Потом ему дней пятнадцать-двадцать давали отдышаться и – по новой… Помнил он лишь, как следователь шипел на него, когда его, обессиленного и окровавленного, с допросов уносили: «Подпишешь. Всё равно всё подпишешь!» Сам не понимал он, как выдержал. Вынес всю эту муку адову и не подписал ничего, не оговорил себя.
А сколько было таких, кто подписал… Говорил он, что среди сокамерников его много таких оказалось, которые на допросах о себе под давлением и побоями этими такого насочиняли… А потом безропотно все протоколы допросов, состряпанные следователем, подписывали. И чего только там не было. Один, например, «сознался», что происходит из богатого и знатного княжеского рода, а после революции жил по паспорту убитого им крестьянина. И всё это время он только и делал, что вредил советской власти. Чушь несусветная. Да для скольких такие «признания» потом смертным приговором обернулись. И до лагеря такие не дотянули. Комбат же одной лишь мыслью утешался: «Скорей бы умереть…»
Потом лагерь был. Сильно он сокрушался о том, рассказывая мне о тяжёлой своей лагерной жизни, что там, в лагерях, до войны сидели, ещё много осталось и до сих пор сидят самые лучшие кадровые военные, которых бы сейчас на фронт! А ведь многие и не дожили до начала войны – расстреляны были. Или сами в лагерях этих сгинули.
В общем, тяжёлый и неожиданный у нас с ним разговор получился.
Мы тогда у сарайчика этого дозоры с четырёх сторон выставили, а остальные спать кто где завалились. Я в первую смену дежурил, за дорогой наблюдал. По дороге этой безостановочно пёр фашист, двигались немецкие автомобили и мотоциклы, громыхали танки и техника, шли лошади-тяжеловозы, запряжённые в повозки, гружённые оружием, двигались бесконечные колонны пехоты, артиллерии на конной и механической тяге, полевые орудия всех калибров, лёгкие и тяжёлые зенитки, броневые машины всех видов, грузовики снабжения. Все они рвались вперёд и обгоняли друг друга. Дорога была полностью забита. И все они направлялись на восток.
Лежал я, смотрел на дорогу и думал: «Сколько же их, людей да техники, на нашу землю, словно воронья, слетелось! Жаль, патроны у нас все кончились. А если бы были, ей-богу, не удержался бы – вдарил по фашистам. Кого-никого, да и убил бы, а там будь что будет…» Из всех нас у комбата только ТТ был, да у меня нож в сапоге был припрятан.
К полудню сморило меня. Растолкал я одного бойца спящего, Богданом, кажись, его звали, и наказал вместо себя наблюдать. Сам спать завалился. Но не в сарае, а отполз чуть в сторону от него, в кустарник. Сон меня сразу свалил.
А проснулся от грохота, разрывов да автоматного треска. Еле-еле удержался, чтобы не вскочить от испугу да спросонок. Лежу оглядываюсь. Сарай-то наш весь скособочило, да и дым из него идёт. Так и не понял я, гранатами ли, из пушки ли или из миномёта по сараю вдарили. А дозорные заснули, видимо. Со стороны дороги несколько немцев в серой форме цепью идут с автоматами. От сарая четверо наших бойцов в сторону метнулись, так те по ним очередями дали. Все попадали. Двое, похоже, сами залегли, их не задело. Одного сразу на бегу очередью срезало, я это увидел. А один упал, лежит, извивается и благим матом орёт, в колено вцепился. Пулей видать перебило ему колено-то.
Фашисты, громко, горласто перекрикиваясь, к ним двинули. Ну до чего ж собачий у них язык! Говорят точно гавкают.
Я к сараю скользнул, сунулся в развалины его. Всё дымом заволокло, сарай с одной стороны уже огнём занялся. Ничего не видно. Прополз чуть вперёд, увидел – комбат наш лежит. За живот схватился, побелел весь и зубами скрипит.
«Жив?» – спрашиваю.
Он прохрипел мне: «Да, жив. Живот осколком посекло».
Смотрю, а у него из-под пальцев кровь сочится. Плохо дело.
Ну, думаю, выбираться надо и комбата выносить. Подхватил его – и ходу к кустам, а там перелеском подальше от сарая и от дороги. Бегу, оглядываюсь, благо из-за дыма немцы нас не заметили. Они ещё и на бойцов упавших отвлеклись. Услышал я, как фашисты короткими очередями всех добили. И никто не кричал уже.
Прибавил я шагу, а комбат на каждый толчок вперёд глухо стонет. В небольшой овраг спустились мы. Остановился я, комбата аккуратно положил. Сам на пригорок поднялся осмотреться. Вроде оторвались. Да и никто, похоже, нас и не преследовал.
Изорвал я тельник свой, что под гимнастёркой был. Как смог комбата перевязал. Да лучше ему не становится.
Решили тут темноты дождаться и к своим пробираться. Да к вечеру умер комбат наш. Подозвал меня перед тем и сбивающимся в хрип голосом сказал к Изославлю мне одному выходить. По пути кого встречу из наших, с собой вести. Передал мне планшет свой командирский, что на ремне у него висел, да ТТ свой отдал, сказав: «Один патрон ещё там остался. С умом используй».
Потом за руку меня схватил, к себе притянул и прохрипел мне, задыхаясь: «Дойди до наших, браток… Сумей… К нашим когда выйдешь, расскажи всё про нас. И про меня… Документы мои передай обязательно… Нельзя мне пропасть без вести… Слышишь? Понимаешь – нельзя! Умереть, погибнуть можно… А без вести – нельзя. Расскажи там, у наших когда будешь, как я погиб…»
Я ему: «Не переживайте, товарищ комбат. Я всё сделаю. Но мы сейчас отдохнём. Вы поспите, а там и силы будут. Вместе с вами к своим и выйдем».
Улыбнулся он мне устало так и говорит: «Ты прав. Я, пожалуй, посплю».
И заснул вроде. А через час я его проверил, да он и не дышит уже.
Решил я через Белагородку свою на Изославль выходить. Там, думаю, и днём, может, у своих смогу отсидеться. На рассвете только до родного села своего добрался.
Никогда этого дня, пятое июля сорок первого года, я не забуду…
Туман в то утро стоял сильный. Мягкий запах тумана смешивался с запахом гари и дыма. Осторожно подходил я к селу. Но не страх засады или западни меня сковал тогда, а сильно я испугался давящей какой-то тишины. Всегда село полно самого разного шума. А тут как выключили все звуки. Ни птиц не слышно, ни собак, ни скотины.
Людей нигде не видно. Одни хаты дымятся сожжённые…
Сдавило мне сердце тревогой, предчувствием страшным. Не прячась и не скрываясь, помчался я опрометью к дому нашему. Подбегаю и вижу: цел. Цел дом наш! Но вбежал во двор, а дом наполовину обугленный стоит, и крышу его разворотило. Одна только стенка, на улицу выходящая, и уцелела. Непонятно, как и на чём держится ещё.
Обшарил я всё. Ничего, никаких следов не видно, и нет никого. Ивушка моя стоит только и грустно так ветками шевелит. Обнял я её, прижался к зелёному стволу.
«Как же так?» – спрашиваю её.
Да ничего она мне не ответила. Только тонкие ветви мне на плечи легли, словно обнимают…
От соседского дома только печь с трубой осталась. Всё остальное – пепелище. И тишина кругом. Уж не знаю как, а понесли меня ноги, точно сами по себе, на центральную нашу площадку, перед сельсоветом. Ну должен, думаю, хоть кто-то в селе остаться.
Куда все делись?
Иду я точно в бреду. Туман вокруг такой, что улица сельская наша расплывается. И непонятно мне: в глазах у меня всё плывёт или действительно такой туман сильный был. Смотрю, чуть в стороне, перед домом, где сельсовет был, накиданы не то доски какие, не то поленница покосившаяся какая-то. И гудит всё чего-то… Что за чёрт?
Подошёл поближе, да и всё оборвалось во мне, кровь как будто вскипела в жилах моих: это люди были мёртвые, оборванные все. В кучу свалены. А над кучей этой мухи роятся. Страшна была та груда тел, но ещё страшнее было то, что за ней было. В этой куче-то были взрослые брошены. А за ними, аккуратной стопкой такой, поменьше, как по линеечке, детки нашего села убитые были сложены. Поганая эта немецкая аккуратность всю душу тогда из меня вынула…
Николай осёкся, сгрёб с затылка свою шапку. Смял её и прижал к сухим, горевшим тихим пламенем глазам. Зарычал тихо, точно раненый зверь, плача совсем без слёз. На этот раз он замолчал надолго.
Иван, потрясённый услышанным, не мог пошевелиться, не то что спросить старшину о чём-то. Наконец Николай отнял шапку от глаз. Посмотрел на сидящего напротив него бледного, притихшего Ивана сухими, лишь немного покрасневшими глазами. Ободряюще и как бы успокаивающе улыбнулся Ивану печальной улыбкой, сказал:
– Все слёзы свои я в тот день раз и навсегда выплакал. Больше никогда не плакал. Не мог.
Все люди там были расстреляны. Многие в голову, да так, что и лица было не распознать. А только, скуля и подвывая, как волк раненый, разгрёб я всех…
Нашёл я там и Олесю свою…
Скорбное и строгое выражение застыло на лице её. А под левой грудью, на любимом сарафане, только красное пятнышко расплылось. Нашёл и дочек… Оксана и Ариша обе в грудь были застрелены. Ариша под Оксаной лежала. Наверное, младшую так, через старшую, и застрелили. Отца своего только нигде не нашёл.
Обезумел я тогда. Сгрёб их, обнял всех троих и долго так сидел с ними, плача, воя и крича в голос. Хотелось мне, чтобы фашисты на мои крики сбежались и застрелили меня. Вроде бы и услышал я короткую автоматную очередь. Кто, откуда стрелял, я и не понял. Почудилось, наверное, мне. Всё как в одном сплошном тумане было. Ревел я и думал: «Вот бы меня сейчас здесь просто застрелили. И всё кончилось бы…» Но никого не было в нашем мёртвом селе.
Вся жизнь моя, весь смысл этой жизни оборвался для меня в тот день. И не было никаких сил жить дальше.
Накричавшись вдоволь, достал я комбатов пистолет и в лоб себе упёр. «Застрелюсь тут, – подумал, – и всё кончится». Смотрю в чёрное дуло его и думаю: «Как раз последний патрон для меня остался». И застрелился бы, но вспомнил глаза комбата, когда наказал он мне с умом последний патрон использовать, вспомнил, что пообещал я ему документы его нашим доставить, и опомнился.
Подумалось: какой прок от моей смерти будет? Кто вместо меня всей этой сволочи отомстит?
Нет, понял я, умереть я всегда успею, но прежде как можно больше этой гадины фашистской на тот свет я отправить должен. За каждую здесь невинную душу убитую в десять раз больше я положить должен. Сменилось горе и отчаяние моё холодной яростью к врагу, который на нашу землю незваный пришёл и такие вещи немыслимые здесь вытворяет.
Перенёс я девочек своих к нам во двор и схоронил всех трёх рядышком, под ивою нашей. Ножом своим могилу им рыл, руками, до крови ободранными, с остервенением комья земли и глины разгребал.
Не смог я той ночью от них уйти. Всю ночь обнявши могилу пролежал. Под утро сон меня сморил. Не то сон, не то морок какой. Тогда они все три мне приснились.
Как будто иду я по полю пшеницы. Поле то бескрайнее, золотистое, колосья пшеницы ветром качает. И кажется мне, что не поле это, а море пшеничное волнами ходит. А я плыву по нему на своём корабле, на том, где я до войны служил. А девочки мои, все три, стоят в поле том и платочками мне машут, словно провожают куда. Ариша слёзы утирает, а Оксаночка ей: «Не плачь. Папа скоро вернётся к нам».
Олеся её одёрнула будто после этих слов: «Не говори так, дочка!»
Меня радость такая во сне охватила! Кричу им с корабля: «Как?! Вы живы! Родные мои, любимые, как же я рад!»
А они уже не в море пшеничном, а рядом со мной стоят, улыбаются мне. Олеся ласково по лицу мне рукой провела и говорит: «Не печалься так о нас. У нас всё хорошо. Мы ждать тебя будем, а ты не торопись к нам. Все дела свои закончи и возвращайся».
Я смотрю, а на ней сарафан тот самый… И под левой грудью пятнышко красное. Вдруг пятнышко это расти начало, расплываться. И всё красным вокруг стало. И сами девочки мои как будто красной дымкой подёрнулись и растворяться начали, точно прозрачными они были. Вспомнил я во сне всё, испугался, закричал – и проснулся.
Тихо было и прохладно. Поздние звёзды на небе ещё поблёскивали, да уже показывался, пробиваясь из-за холмов, свет от солнца. Да ива свои ветки на могилу к девочкам склонила.
С той поры они мне часто снятся. Разговариваю с девочками моими во сне. Этим и утешаюсь.
Выбирался я из Белагородки на рассвете. Хотел лесом уйти, а потом речушкой нашей Выдовой пройти до реки Гарыни, она в неё впадает. Вдоль неё перелесками к Изославлю пробираться.
За селом нашим, идя заросшим оврагом под дорогой, увидел на перекрёстке человека. Одет вроде не в форму, но на голове фуражка. На руке выше локтя повязка, а через плечо винтовка перекинута. Знакомой мне его полная фигура показалась. Приблизился немного и узнал его – Юрко Чалый, из соседней Чажовки. Сын Потапа Чалого, что счетоводом в нашем колхозе был. Я их ещё до армии знал. Семейство не вредное в общем, но только куркули они были, всегда прижимистые.
Один Юрко в стороне от дороги прохаживался. Огляделся я – никого вокруг нет. Да и вышел, совсем не таясь, ему навстречу. Он, меня увидев, вскинулся было, испугался. За винтовку сначала ухватился. Я ему: «Не дури, Юрко».
Подошёл к нему вплотную, винтовку сам у него с плеча снял, себе забрал. Он и не пикнул. Глазами только хлопает на меня. Вижу, узнал.
«Откуда ты, Микола?» – спрашивает.
«Из Белагородки», – отвечаю.
Он побледнел весь, затрясся.
«Уходи, – говорит, – отсюда. Спасайся. Я тебе помогу. По этой дороге скоро из Сосновки немцы поедут».
А сам мне всё в глаза заглядывает да весь мелкой дрожью трясётся. Я молча на него смотрю. А он мне поспешно так, словно очень торопится куда, рассказывать начал: «Немцы сначала к нам в Чажовку нагрянули, заехали с двух сторон в село четыре бронетранспортёра и мотоциклисты. Всех согнали в центр, но никого не тронули. Председателя сельсовета нашего, Хвилько старого, только отвели в сторону и расстреляли. Бабы заголосили, а один немец вышел вперёд, руку поднял и на чистом таком русском языке ко всем обратился. Сказал, что никого больше не обидят, что все мужчины села могут вступить в победоносную германскую армию и послужить новому закону и порядку. Этот офицер потом ещё троих пацанов застрелил, Михася и братьев Поповых. Они служить отказались. Михася колченогого помнишь? Он мотористом в колхозе работал. Так он, дурак, сразу отказался. Вышел вперёд и выкрикнул, что не будет врагам прислуживать. Тот к нему подошёл, улыбнулся и в грудь ему выстрелил. Михась и упал замертво. А мальцы Поповы дёру дали. Так их словили, и он пострелял их обоих. Страшно было…
У нас все, кто из мужиков остался, пошли к ним в полицаи. И батька мой пошёл, и я за ним.
Вообще и в Закружцах, и в Сосновке никого не тронули, хаты не жгли, только нескольких стариков расстреляли. Я слышал, как этот офицер говорил, что в нашем районе только четыре села подлежат полному уничтожению. И Белагородку твою назвал среди них. План у них такой был, значит, кого не трогать, а кого сжечь. Село твоё сначала с воздуха бомбили. Потом в вашу Белагородку они позавчера и нагрянули.
Я видел, Микола, как твой батя этого офицера на перекрёстке застрелил. Прямо в лоб из ружья своего охотничьего. Терентьич твой боевой дед оказался. Он ещё одного немца, что за рулём мотоцикла сидел, ранил, прежде чем они опомнились и стрелять начали. Немец тот потом умер. Убили немцы тогда батю твоего. Автоматами посекли, потом долго ещё мёртвого прикладами и сапогами били. А потом жителей села вашего, что не успели разбежаться, к сельсовету приволокли и всех расстреляли».
«А ты чего?» – спрашиваю его.
Он испуганно: «Да я ничего… Не делал я ничего! Со стороны только видел всё».
Смотрю я на его морду толстую, на повязку на руке, на фуражку с изображением орла со свастикой. А сам как пьяный. Качает меня из стороны в сторону. Он, видимо, что-то в глазах моих прочитал. Вскрикнул и пятиться от меня начал, а сам всхлипывает по-бабьи и приговаривает: «Ну чего ты, Микола? Что я мог сделать?! Ведь убили бы они всех нас. Я ничего не делал! Не стрелял я! Только убитых помог сложить в кучу. Мне с другими полицаями из наших приказали, я и сделал. А так и нас расстреляли бы».
Двинул я его кулаком в лоб. Он, как куль с дерьмом, свалился. Лежит, не встаёт, только охает да причитает: «Уходи, Микола. Я тебя проведу. Беги отсюда. Я отпущу тебя. Не трогай только меня».
Зарычал я на него: «Так это ты, тварь с…чья, меня отпустишь?! Подстилка фашистская, пёс шелудивый!»
Прыгнул я на грудь ему, руками его бычью шею сдавил и задушил гадину. Он даже и не сопротивлялся. Глаза только пучил на меня да обмочился весь со страху перед смертью.
