Маленькие дилогии
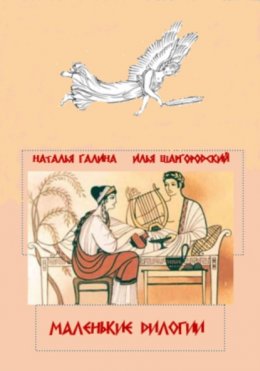
Посвящается Любови Александровне и Николаю Дмитриевичу Фирсовым, Галине Владимировне и Сергею Васильевичу Егорцевым, Миле Израилевне и Абраму Мееровичу Шаргородским с нежной неизбывной памятью, сердечной благодарностью за самоотверженную любовь и неустанную заботу.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Наталья Галина – это псевдоним двух авторов, пишущих в содружестве: филолога Галины Фирсовой и историка Натальи Змушко – авторов уже известного читателю историко-приключенческого романа «Времена были нескучные!..». В данной книге они обратились к малой литературной форме – рассказу.
К содружеству авторов рассказов данной книги присоединился поэт, лауреат и дипломант многих творческих конкурсов Илья Шаргородский. Стихи к рассказам этого сборника написаны им.
Втроём авторы создали новое жанровое направление – дилогия. Дилогия – сочетание рассказа и стихотворения, объединённых одной темой.
В данном сборнике рассказы и стихотворения объединены в разделах: «Родина моя», «Мужчины и женщины», «Странички юмора», «Движения души», «Детские странички». Патриотическая тематика, философские размышления, животрепещущая тема взаимоотношений мужчин и женщин, юмористические жизненные ситуации, наполненные добротой и любовью рассказы для детей – всё это найдёт читатель на страницах данной книги.
ЧАСТЬ 1. РОДИНА МОЯ!
Глава 1. В ЧЁМ ТВОЯ СИЛА, ЗЕМЛЯ РУССКАЯ?
Стихотворение в прозе
Стою среди колосящейся в поле ржи под васильковым небом, огляделась вокруг. Широки просторы, плодородны земли, а за ними полноводные реки! Как легко дышится! Красота веселит душу! Думы теснятся, сменяя друг друга.
Русская земля, не из-за своих ли широт и богатых недр многие века подвергалась ты набегам иноземцев? Что же помогло тебе выстоять? В чём твоя сила? И ответом звучат сквозь века над полем слова, произносимые русскими воинами перед началом сражений: «Да не оставит Бог в попечительстве Своем Землю Русскую». А в ответ на вопрос к недругам, почему они проиграли битву, имея большое численное превосходство, слышится неизменный ответ: «Как мы могли победить, когда другие на небе ездили со светлым и страшным оружием, помогая вам?» И уже несложно, глядя в небо, представить Архистратига Михаила – главного полководца небесных сил, предводителя ангельского воинства, защитника русских дружин. Именно их, Небесные Силы, побеждающие сатанинских приспешников в битве под Москвой, видел в небесах Даниил Андреев.
Но почему? Почему в кровопролитных сражениях с превосходящими силами противника Божественные Силы помогали именно русским воинам? В чём тут дело?
Не сидели русские люди, безвольно глядя на небеса, ожидая спасения от них и в страхе прячась от врага. Нет, недаром из века в век русский человек произносит: «На Бога надейся, а сам не плошай!» Вот и не плошали.
Полетим же сквозь белую дымку вперёд в прошлое, да-да, именно вперёд, потому что из будущего мы будем смотреть в прошлое, ведь ради будущего процветания земли русской не щадили живота своего наши отважные предки.
Что видим мы? 15 июля 1240 года. Невская битва. Русских ратников тысяча двести человек, шведов четыре тысячи пехоты и рыцарей. Александр Невский произносит слова, ставшие крылатыми и дошедшие до наших дней: "Братья! Не в силе Бог, а в правде! Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог". Видим – биты шведы и бегут!
Продолжим наш полёт. 29 июля 1572 года. Битва при Молодях. Более ста двадцати тысяч крымцев и янычар ведёт Девлет-Гирей для завоевания Московского царства. Двадцать пять тысяч стрельцов и донских казаков против них под командованием князей Михаила Воротынского, Ивана Шереметева и опричного воеводы Дмитрия Хворостинина. Четыре дня битвы. Нет аналогов ей в истории военного искусства. Русские с тыла навязали врагу сражение, втянули его в мясорубку, истощили силы и нанесли решающий удар. Сто десять тысяч татар и турецких пехотинцев из ста двадцати тысяч были уничтожены. Военная мощь врага была подорвана. Походов за рабами вглубь Руси больше не было.
Летим сквозь дымку времён дальше. 7 июня 1641 года. Азовское сидение. Двести пятьдесят тысяч кавалеристов, пехотинцев, моряков и иностранных наемников под командованием Гусейн-паши осадили Азов. Против них восемь тысяч донских и запорожских казаков. 26 сентября, потеряв около тридцати тысяч человек, турецкая армия отступила.
Не останавливаемся, летим дальше. Битва на реке Калалах. 3 апреля 1774 года два казачьих полка, общей численностью около тысячи человек, разбили приблизительно двадцатипятитысячную татарскую орду крымского хана Девлет-Гирея. Донские казаки, которыми командовал 23-летний Матвей Платов, закрепились на вершине холма и отбили несколько штурмов врага. Когда у казаков закончились патроны, в тыл татарскому войску ударил другой отряд русских войск – эскадрон ахтырских гусар и казачий полк полковника Уварова. "Десятки тысяч людей, несомненно, храбрых, вдруг… обратились в неудержимое бегство… Это был финал, после которого всё татарское скопище разбежалось в разные стороны", – так описал битву академик Потто.
Залетаем в девятнадцатый век. Битва при Шенграбене. 3 ноября 1805 года шеститысячный отряд под командованием Багратиона восемь часов отбивал атаки тридцатитысячной французской армии. Русские устояли, потеряв 2000 человек, и в полном порядке отступили к основным частям армии, приведя с собой пленных и одно французское знамя. Черниговский драгунский полк за этот бой получил георгиевский штандарт с надписью: "Пять против тридцати".
Неудержим наш полёт. Сражение под Клястицами. Первая победа русских войск в сражениях Отечественной войны 1812 года. 18-20 июля 1812 года. Русские войска под командованием генерал-лейтенанта Петра Витгенштейна одержали верх над французскими силами маршала Удино и остановили продвижение врага на Петербург. Из 28 тысяч человек маршал потерял 10 тысяч убитыми и ранеными, три тысячи французов попали в плен. Русские войска из 17 тысяч человек потеряли около 4 тысяч солдат и офицеров. А о Петре Витгенштейне народ сложил песню, заканчивавшуюся словами: "Хвала, хвала тебе, герой! Что град Петров спасен тобой!"
Задержимся немного в девятнадцатом веке. Сражение под Елисаветполем. 13 сентября 1826 года фельдмаршал Паскевич, располагая десятью тысячами пехоты и конницы, разгромил тридцатипятитысячную персидскую армию, которая превосходила русских в два раза и по количеству орудий. Персы потеряли тысячу сто человек пленными и более двух тысяч убитыми. Потери русских войск составили 46 человек убитыми и 249 человек ранеными.
Залетим перед возвращением в начало двадцатого века. Сражение при Сарыкамыше. 9 декабря 1914 года – 4 января 1915 года. Русские войска остановили наступление нескольких турецких армий под командованием Энвер-паши на Кавказ. После кровопролитных боёв из девяностотысячной турецкой группировки уцелело 10 тысяч человек, остальные были убиты или попали в плен. Потери русских войск генерала Николая Юденича составили тридцать тысяч убитыми и ранеными из шестидесяти трёх тысяч человек.
Ну, что же? Возвращаемся в настоящее. Торжественная тишина окружила меня. А душа рвётся сказать: Слава вам, воины России, на протяжении многих веков укрепляющие наше государство и охраняющее его рубежи! Спасибо вам за ваш героизм, вашу доблесть, ваши бесстрашные орлиные сердца! Вы не щадите живота своего, оберегая благополучие и мирную жизнь дорогих и любимых вами людей не ради личной будущей славы, а ради славного будущего великой российской державы! И пусть из века в век бросают женщины, покоренные вашими мужественными сердцами и вашей отчаянной смелостью, в воздух чепчики, отдавая вам свою любовь и нежность. И пусть из века в век слагаются легенды о вашей отваге, рождая в сердцах миллионов мальчишек желание быть такими же сильными и бесстрашными, как вы, и так же любить и защищать свою Родину. Низкий поклон вам!
Да, но где же ответ на вопрос: почему в кровопролитных сражениях с превосходящими силами противника Божественные Силы помогали именно русским воинам?
Я его нашла. А вы?
Не ведала покоя Русь
Ни ранее, ни ныне.
Я что-то упустить боюсь,
Что кануло в пучине.
Кто только ни ходил на нас,
Чтоб вдоволь поживиться:
Пожечь, ограбить, не таясь,
Да кровушки напиться.
Аж доходили до Москвы…
Вот только что в итоге?
Их всадники без головы
Едва сносили ноги.
Россия – женское лицо,
И нет его красивей –
Звала к ответу подлецов
Мужской, могучей силой.
Германец, турок, брит и швед,
И из краёв французских…
Для нас непобедимых нет.
Бог с нами, с ратью русской!
Глава 2. ПЛОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
Все имена, отчества и фамилии вымышлены, любые совпадения случайны.
СССР. 1988 год. Перестройка шагает по стране. 1 декабря 1988 года сессия Верховного Совета СССР приняла Закон СССР «О выборах народных депутатов СССР». Первые выборы на многопартийной основе вместо «выборов без выбора». Народ в предвкушении.
В один из дней ко мне в кабинет после шестого урока робко вошёл лохматый парнишка лет двенадцати явно не из моего класса со словами:
– Здрассте! Вас Ксения Владимировна зовёт.
Пробурчав себе под нос «и чего это директрисе понадобилось», я спустилась на первый этаж.
Директор, сидя за столом, расточала любезные улыбки мужчине располагающей наружности, занимавшему кресло.
– А вот и Вера Петровна, – радушно улыбаясь, сделала жест рукой в мою сторону наш руководитель.
– Здравствуйте, – произнёс мужчина располагающей наружности голосом приятного тембра, но сам не представился. Вместо этого он спросил:
– Скажите: Неля Овчаренко в Вашем классе учится?
– Да, – ответила я, не понимая, что происходит.
– Расскажите, пожалуйста, о её семье.
Я взглянула на директора, она разрешительно кивнула головой, и я начала говорить.
При всей видимости внешнего благополучия, это была очень неблагополучная семья. Одна из трёх дочерей, средняя, училась в моём восьмом классе. Старшая год назад с грехом пополам закончила восьмилетку, на чём её образование и завершилось, попала в неблаговидную компанию, баловалась наркотиками и была головной болью участкового. Младшая училась в третьем классе, заботилась о ней Неля, больше было некому из-за тотальной занятости родителей. Отец работал в филармонии, был солистом цыганского хора, который состоял из таких же цыган славянской национальности, как и он сам. По восемь-девять месяцев он колесил по стране, выезжая на гастроли. Семью, соответственно, видел урывками. Это вполне устраивало маму-прокурора Софью Леонидовну Овчаренко. Она была занята работой, дочери её интересовали постольку-поскольку. Домой часто возвращалась ночью с разными мужчинами, к чему девочки привыкли. Когда её вызывали в школу, вела себя дерзко, вызывающе, обвиняла всех в наговорах на её благополучную старшую дочь, зачастую угрожала, чувствуя неуязвимость своего положения. Что касается Нели, девочка явно находилась на грани и легко могла скатиться в любую сторону. Она была внешне привлекательна и очень талантлива: писала хорошие стихи, замечательно пела. Но обстановка в семье помогла сформироваться в характере явному цинизму, недоверию к окружающим и отторжению любых поползновений к сближению с ней. Прослеживался уже и интерес к мужчинам старшего возраста. Я, видя в ней музыкальные способности, отвела её в музыкальную школу, находившуюся недалеко. Её приняли в класс фортепиано, и она теперь не только пела и писала стихи, но и начала писать музыку и сочинять песни. Но, оставаясь с ней наедине, я за её всегдашней улыбкой, соседствующей на лице с холодными глазами, постоянно чувствовала неискренность, отторжение и горестное одиночество. Все усилия помочь разбивались о среду, в которую она ежедневно возвращалась. Жалко было и малышку. Дети были однозначно брошены родителями.
Мужчина располагающей наружности молча выслушал меня и сказал:
– Вы, конечно же, знаете, что скоро состоятся первые многопартийные выборы кандидатов в народные депутаты. Прокурор Овчаренко выдвинула свою кандидатуру при поддержке весьма влиятельных людей. Помимо того, о чём Вы рассказали, есть и много других негативных нюансов её деятельности. Но притормозить её выдвижение мешают ряд обстоятельств, хотя мы делаем всё возможное.
Кто это «мы» мужчина располагающей наружности не уточнил.
– Я просил бы Вас прийти на выборы, пропуск Вы получите, и сказать с трибуны всё то, о чём я сейчас услышал. Ни больше ни меньше. У Вас будет на это ровно три минуты, как и у всех выступающих. Проверьте по хронометру и сократите, если будет нужно, ровно через три минуты микрофон выступающему будут отключать. Вы, безусловно, можете и отказаться, но, я думаю, Вы и сами понимаете, как важно то, о чём я Вас прошу.
Я ненадолго задумалась и прислушалась к своему внутреннему «я». Ничто в просьбе, произнесённой голосом приятного тембра, не противоречило моим внутренним нравственным принципам, и я согласилась.
– И ещё, – проговорил мой визави, – я буду сидеть справа, как войдёте в зал, на крайнем месте у прохода в последнем ряду. Ваше место тоже справа крайнее чуть ниже. Если возникнет необходимость задать вопрос, посоветоваться, что-либо иное, сами понимаете, может возникнуть любая непредвиденная ситуация, Вы тихо встаёте и выходите мимо меня из зала в фойе, я выйду за вами, и мы переговорим. И последнее, вы можете обратить внимание на некое повторяющееся лицо, которое будет следовать недалеко от Вас, не волнуйтесь и не беспокойтесь: ваша безопасность в приоритете как в процессе выборов, так и некоторое время после них.
Я и не беспокоилась до тех пор, пока он не произнёс последнюю фразу. После неё перед моим мысленным взором сразу возникло лицо моего сына, а отряд мурашек дружно промаршировал по всему телу.
Мужчина располагающей наружности с приятным тембром голоса жестом фокусника достал откуда-то карточку-пропуск с уже написанными в ней моими именем, отчеством и фамилией, с проникновенной улыбкой вручил её мне, раскланялся с нами обеими и исчез.
Я не буду рассказывать о том, как я измеряла по хронометру время выступления. Сразу – к главному.
Настал день выборов. В фойе перед залом слонялись группами и по одиночке люди. Мой новый знакомый тоже был здесь, никак на меня не реагируя. Проходя мимо него, я аккуратно скосила глаза на некое повторяющееся позади меня лицо и бросила мимолётный вопрошающий взгляд. Руководитель операции чуть прикрыл веки, подтверждая мою догадку. Я увидела коллегу из соседней школы Нину Павловну Воронцову и радостно подбежала к ней. Оказалось, она тоже выдвинута кандидатом в депутаты. А я и не знала! Я обожала эту женщину и решила, что буду голосовать исключительно за неё.
Открыли двери в зал. Я вошла, и тут произошло непредвиденное: прямо передо мной в проходе возникла Софья Овчаренко. Наши взгляды пересеклись, она пробуравила меня своими тёмно-карими глазами, и я уже не сомневалась: эта пронырливая особа поняла всё. Она развернулась к сцене и пошла на своё место. Я присела в своё кресло. За мной пристроилось повторяющееся лицо. До начала ещё оставалось время. Я встала и медленно вышла из зала. За мной в фойе вышел мой патрон. Я поделилась ситуацией.
– Я всё видел, – сказал он, – спокойно ждём, что она предпримет.
И мы вернулись в зал.
Действо началось. Председательствующий объявил, что Софья Леонидовна Овчаренко снимает свою кандидатуру (я облегчённо выдохнула: ура! моё выступление отменяется!) и попросил выступающих подавать записки. Была организована комиссия из пяти представителей разных партий, в которую и следовало передавать записки, и члены которой должны были следить, чтобы не было нарушений: выступающие должны были выходить строго в порядке поступивших записок.
Я опять встала и тихо вышла в фойе. Патрон не заставил себя ждать.
– Выступление отменяется? – радостно спросила я. – Записку подавать не надо?
– Надо, – улыбаясь своей проникновенной улыбкой ответил он.
– Но она же отозвала свою кандидатуру, – удивилась я.
– Вы не поняли красоту игры, – продолжил улыбаться он, – она сняла её на словах, но письменного отказа нет.
– Но, если я напишу записку на выступление, и меня вызовут, что я буду говорить в этой ситуации?
– Не вызовут – отрезал он. – Вас вызовут только, если это потребуется.
И он вежливо указал мне на дверь в зал. С выражением несказанного удивления на лице я вернулась на место, послушно написала записку о выступлении, передала её в комиссию и с опасением стала думать, что же мне делать, если вызовут, не до конца поверив моему патрону.
А в зале уже начались выступления. Поднимавшиеся на трибуну кратко представляли кандидата, конечно же рассказывая о его сильных сторонах, представляя его успехи и раскрывая его замечательные личные качества и черты характера. Регламент соблюдался неукоснительно. Ровно через три минуты ослушнику выключали микрофон. Меня на трибуну не вызывали.
Прошло четыре часа от начала выступлений. Все присутствующие уже абсолютно точно знали, что скажет тот или иной выступающий о своём кандидате. Чередой шли учителя разных школ, рассказывая о достоинствах Нины Павловны Воронцовой. Как только на трибуне возникал очередной выступающий и произносил, что он учитель какой-то школы, в зале разве что стон не раздавался. Я с прискорбием понимала, какую медвежью услугу они оказывают моей дорогой Нине Павловне. Создавалось такое впечатление, что все выступления написаны под копирку.
Прошло ещё четыре часа. Никаких изменений не наблюдалось. Присутствующие начали потихоньку подрёмывать.
Было почти четыре часа ночи. Присутствующие уже не дремали, зал просто погрузился в нирвану. Спали все, даже операторы телевидения, снимавшие происходящее. Если в начале сидящие в зале аплодировали после каждого выступления, то теперь всё происходило в абсолютной тишине. Реакция зала отсутствовала.
Неожиданно председательствующий спросил у Софьи Овчаренко, будет ли она подавать заявление о снятии кандидатуры. Она ответила отказом. И через секунду после её ответа на трибуну вызвали меня.
Дорогие мои, эту загадку я не разрешила до сих пор! Как, несмотря на представителей пяти разных партий, которые должны были неукоснительно следить за появлением выступающих на трибуне в порядке поступления записок, мою фамилию назвали в эту минуту? Наверное, вспоминая об этом, я на лице должна изобразить скептическую улыбку. У меня же возникает чувство гордости и восхищения: а ну-ка, недруги, попробуйте сделать нам какую-нибудь гадость при таком профессионализме наших работников!
Я шла к трибуне, глядя на мёртвый зал. Надо было что-то сделать за три минуты, чтобы пробудить его. Что?! Я положила часы на полочку на трибуне и начала:
– Я учитель школы (с некоторых мест послышался знакомый стон), и вы, безусловно, ждёте, что я буду говорить о Нине Павловне Воронцовой. Но это не так. Я вышла сюда, чтобы рассказать о Софье Леонидовне Овчаренко.
По залу прошёл шум. Люди начали просыпаться. В тишине этим пробудившимся людям я сказала всё, что хотела. Посмотрела на часы: у меня ещё осталось полминуты, и я сделала контрольный в голову, то, о чём меня не просили, но что само логически просилось в завершение:
– На фоне этой печальной истории, как не сказать также о матери трёх дочерей, тоже чрезвычайно занятом человеке, учителе старшей школы, председателе кафедры русского языка и литературы, классном руководителе, которая, несмотря на это, находит время, чтобы заниматься развитием и воспитанием своих дочерей, победительниц многих олимпиад. Театры, музеи, спорт – всё это доступно им, благодаря маме. Мы знаем, кто способен стать центром своей семьи, сможет отстоять и интересы избирателей, и достойно исполнить обязанности депутата. И этот человек – Нина Павловна Воронцова, – закончила я на последней секунде.
На мгновение возникла звенящая тишина, после которой зал взорвался бешеной овацией.
Я на полусогнутых дошла до места и упала в кресло. Под продолжающуюся овацию надо мной склонилось лицо любимого ученика из десятого класса Васьки. «Ну, всё, – подумала я, – начались глюки от нервного перевозбуждения».
– Это было бесподобно, Вера Петровна! – сказало лицо.
И я поняла, что это не глюк. Это точно Васька, прекрасно знающий литературу, обожающий историю и знающий её лучше меня, попутно изучающий юриспруденцию и готовящийся поступить в юридический институт.– Как ты сюда попал? – изумилась я.
– Через чёрный ход, – радостно сообщил Васька, – разве я мог пропустить такое историческое событие?
– Ты маме сказал, где ты? Они с бабушкой, наверное, с ума сходят!
– Они думают, что я у Петьки остался. Не волнуйтесь!
– Марш в фойе звонить маме! – рявкнула я. – Там телефоны.
Васька послушно метнулся из зала, вернувшись через пять минут.
А на сцене шло бурное продолжение моего выступления: один за одним выходили мужчины в тёмных костюмах и сообщали о прокуроре, теперь уже не было сомнений, о бывшем, всё новые и новые неприглядные факты. Здесь были и взятки за прекращение дел, и подаренная сверхдорогая машина, и длинный список много ещё чего. Через некоторое время выступления закончились.
Когда я вышла из зала, сразу увидела теперь уже опять не патрона, а мужчину располагающей наружности. Его глаза радостно сияли. Мы молча сердечно попрощались друг с другом.
А потом было голосование. Я уверена, вы не ошибётесь – депутатом стала Нина Павловна Воронцова.
Начался новый день. Васька проводил меня до дома. Мы так и шли втроём по пустынной улице: я, Васька и повторяющееся лицо на некотором расстоянии.
На следующий день по телевидению показали репортаж об историческом событии. Телеведущая в общем рассказала о произошедшем, затем показали кусочки видео разных выступлений, и только одно выступление было показано целиком. Да-да, вы правы – именно моё.
А события шли своим чередом. Я учила детей, повторяющееся лицо через неделю после выборов перестало за мной ходить и осталось в воспоминаниях. Папа Овчаренко продолжал цыганить по городам и весям. Младшую из трёх сестер бабушка, мать отца, забрала к себе на Урал. Старшая дочь через некоторое время исчезла, и её так и не нашли. Неля через пару лет вышла замуж, родила сына и уехала с мужем. Васька, извините, Василий поступил в юридический институт. А Софья Леонидовна Овчаренко вдруг обнаружилась на одной из высокопоставленных должностей.
Перестройка продолжалась.
Смурные были времена.
Пора, подернутая тиной.
Вдруг проявилась грязь со дна
Под непристойною личиной.
Повержен был социализм,
И пали базис и надстройка.
Навязан был капитализм.
Проект разрухи – перестройка.
И криминал полез во власть,
Своей натуры не скрывая.
Всё, что могла, хватала пасть,
В себя кидала, не глотая.
Урвали у СССР
Кусок, что был вкусней и слаще.
Олигархат, как браконьер,
забрал все то, что было наше.
Забыть? Но память сохранит
Всё то, что было в девяностых.
И боль в моей душе саднит,
И с этим жить совсем не просто…
А будет завтра или нет?
Увы, вопрос для всех открытый.
Никто не сможет дать ответ,
Завесой тайною прикрытый.
Когда настанет этот час,
И будет встреча с небесами,
Когда там выслушают нас,
В рай или в ад пошлют с грехами?
И неизвестно никому,
Твой срок ещё с открытой датой
Доступен Богу одному,
Но с перспективой жутковатой…
Глава 3. ПО ВОЛНАМ МОЕЙ ПАМЯТИ 1. ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД
Очерк
I. Размышления
В юности на любую несправедливость реагируешь очень остро, гораздо острее, чем в солидные годы. А самое главное, хочется мгновенного исправления ситуации и торжества попранной справедливости. Любая невозможность данного желания вызывает яростное, почти агрессивное ответное действие. А уж о мыслях, витавших в юности в головах на эту тему, и говорить не приходится.
Во время учёбы в старших классах школы и после её окончания я почти каждый вечер гуляла с мамой по переулку рядом с домом, утопавшему в зелени деревьев. Мы много разговаривали о разном. С мамой было очень интересно. Она работала на ответственной должности в МИДе, во время войны занималась вопросами ленд-лиза в ставке, почти ежедневно общалась с И.В. Сталиным, которого очень уважала и ценила до последних дней своей жизни, и так и не согласилась с огульными обвинениями в его адрес во всех страшных грехах после ХХ съезда КПСС, близко дружила с Вольфом Мессингом. Её суждения были чёткими, обдуманными, полностью сформированными. Она всегда, не перебивая, слушала меня, прежде чем что-либо сказать.
Это была первая половина семидесятых годов, время, когда престарелый вождь с трудом произносил слова под панегирики в его честь, полки магазинов были пусты, макароны и водка выдавались по талонам, в переулке недалеко от нашего дома ежедневно стояли якобы туристические автобусы с людьми из подмосковных мест, а, порой, и из других городов, приехавшие на которых «туристы» мгновенно рассыпались во все стороны по продуктовым магазинам в надежде, хоть что-нибудь купить для пропитания их семей. К праздникам на работе разыгрывались единичные продуктовые наборы. Помню давки за появлявшимися в Смоленском универмаге сиреневыми колбасой, сосисками и пельменями со вкусом половой тряпки и трёхэтажные очереди за финскими зимними сапогами. Процветали ложь и лицемерие. Говорилось одно, делалось совершенно другое.
Я, убеждённая комсомолка, с полным разочарованием утверждала, что коммунизм не будет построен никогда, и вовсе не потому, что невозможно развить до нужных размеров материально-техническую базу коммунизма. Вовсе нет! Дело в людях. Когда я смотрела на немалые ряды алкоголиков, трутней, которые ничего не делали, полагаясь на тех, которые пахали, однако, получали такую же, как и у честно работающих зарплату, громче всех кричали, что платят мало и требовали повышения трудовых денег; когда я смотрела на членов партии, которые совершенно не вспоминали, какими усилиями и жертвами был усеян путь к победе наших дедов, и только пользовались привилегиями; когда дети функционеров транжирили родительские деньги, безобразно вели себя, пользуясь родительскими льготами и при любых замечаниях нагло утверждали, что их не накажут никогда, в жизни их сословия привилегии будут такими всегда, поведение своё они менять не собираются и пусть презренный плебс заткнётся. Не работает даже лозунг социализма: «От каждого по способностям, каждому по труду». Как же сможет работать утверждение коммунизма: «От каждого по способностям, каждому по потребностям», когда совесть человеческая явно буксует? Чтобы был построен коммунизм, измениться должен сначала человек, его отношение к другим людям, к труду, измениться должна его нравственная составляющая. Но подобное на тот момент представлялось полной утопией и вызывало внутренний протест и, одновременно, апатию от происходящего.
Всё это мама выслушивала молча, и её молчание говорило о многом. Мама, несмотря на занимаемую высокую должность, так и не вступила в партию, что само по себе уже было фантастикой. От неё требовали вступить в ряды КПСС постоянно, она отговаривалась, что ещё не готова, работает над собой, а мне откровенно сказала, что не вступит никогда, так как за свою жизнь нагляделась многого и с некоторыми членами партии рядом не сядет, не то, чтобы быть их однопартийцем. Удручавшие меня мысли тогда были практически у всех моих друзей, тем более что в те времена казалось, что никакие перемены в обозримом пространстве произойти не могут.
Это вступление не случайно, оно, я думаю, даст некоторое понимание того, что произошло в будущем.
II. Сложное время
19 августа 1991 года я с одиннадцатилетним сыном вернулась из Крыма после отдыха на море. Происходило что-то странное и совершенно мне не понятное: сначала по телевизору постоянно показывали балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро», потом электричество вообще отключили, соответственно, не работала электрическая плита, что делало невозможным приготовление пищи. Я одела сына, приоделась сама, и мы отправились в Парк культуры им. М. Горького.
Странная атмосфера царила в метро, что вызвало моё недоумение. Люди сидели, замерев, с серыми лицами, смотрели в пол, чувствовалось общее напряжение.
Вышли мы на «Октябрьской» и сразу увидели танки. «Странно, – подумала я. – Так рано к параду готовятся?» Войдя в парк, наблюдала удивительную картину: справа и слева от входа сидели солдаты вперемежку с продавцами киосков с явной скукой на лицах. Я подошла к одному из ребят-военных:
– Так рано репетиция к параду? – спросила я.
– Ты что? С дуба рухнула? – ответил он. – Горбачёва скинули. Он под арестом в Форосе.
Подхватив сына, я двинулась по территории парка и всё-таки нашла киоск с шашлыками. Мы поели, и я прямиком из парка поехала с Максимом к подруге-учительнице, с которой работала в одной школе. Понять, что происходит, было совершенно невозможно. Она была в таком же недоумении.
На следующий день, 20 августа, мы оставили детей, моего сына и её младшую дочь, с её старшей дочерью Юлей и поехали в центр на метро – узнать хоть что-нибудь. Приехали на «Смоленскую». Везде, где было возможно, висели листки с разными текстами, которые противоречили один другому. Так ни в чём и не разобравшись, мы двинулись за куда-то идущими группами людей на улицу. В результате, оказались у Белого Дома.
Всё пространство вокруг Белого дома было заполнено тысячами людей. Потом будет сказано, что на митинге находилось по разным оценкам более 400 000 человек. Происходящее длилось более пяти часов. Вместе с Б. Ельциным с балкона Белого дома выступали И. Силаев, Р. Хасбулатов, А. Руцкой, Г. Попов, А. Яковлев, Э. Шеварднадзе, ребята из «Взгляда» и многие другие.
Происходящее трудно описать словами. Всех присутствовавших объединял неимоверный дух согласия, какая-то уникальная забота друг о друге, доверие друг к другу, желание помочь, если кому-то вдруг занедужилось (тут же находился врач или медик), делились едой, если кто-то хотел есть, находился какой-нибудь предмет вроде табуретки, если кто-либо устал и хотел присесть. Абсолютное единение и любовь царствовали в этом огромном сплочённом море людей. Все присутствующие активно строили баррикады, строили изо всего, что могло подвернуться под руку: из перевёрнутых автобусов, троллейбусов, машин, арматуры, одним словом, из всего. К вечеру строительство баррикад было закончено.
Как ни странно, всё это время метро работало без перебоев. Глубоким вечером мы вернулись к подруге домой, проверили, как там наши дети. Утром приготовили бутерброды, налили в термосы чай, попрощались с детьми и уехали опять к Белому дому. Было ли страшно оставлять детей? Да, аж сердце замирало, но остановиться мы уже не могли.
Это потом от перешедших на сторону Белого дома командира 106-й Тульской воздушно-десантной дивизии Александра Лебедя и руководителей «Альфы» и «Вымпела», присутствовавших на заседании штаба сторонников ГКЧП, стало известно, что должно было произойти ночью 21 августа, когда мы спали перед тем, как вернуться к митингующим.
В 3 часа ночи должны были захватить Белый дом. В дальнейшем этот план был признан безукоризненным с военной точки зрения. Начать должны были танки. Как планировалось, они произведут выстрелы в сторону Белого дома с близкой дистанции и проделают проходы в баррикадах. Затем бойцы отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского вклинятся в ряды защитников, раздвинут их, расчистят путь к подъездам Белого дома и будут удерживать «коридоры». В «коридоры» пойдут тульские десантники, которые с помощью техники взломают двери и застеклённые проёмы в стенах, после чего завяжут бой на этажах здания. В этот момент бойцы «Альфы», действующие по самостоятельному плану, будут осуществлять внутри Белого дома поиск и нейтрализацию руководителей сопротивления следующим образом: военные должны были обстрелять из гранатометов каждое окно со 2-го по 5-й этаж, после чего альфовцы, ворвавшись в здание, провели бы «зачистку»: открывали бы дверь помещения, бросали гранату и давали очередь из автомата.
На весь штурм отводилось от 40 минут до часа. Количество жертв среди гражданского населения должно было составить 500-600 человек. При наихудшем повороте событий – до 1000 человек. После завершения боевых действий планировалось силами МВД и КГБ провести «фильтрацию» лиц, задержанных возле здания и внутри него, а организаторов и самых активных участников сопротивления – интернировать. Понятно, что если бы мы находились во время штурма у Белого дома, то вполне легко могли стать запланированными жертвами.
Но нас ночью там не было, и что-то, как говорят в таких случаях, пошло не так. Один из командиров «Альфы», нарушив приказ, собрал бойцов и сказал: «Нас снова хотят замарать в крови, каждый волен действовать, как подсказывает совесть. Лично я штурмовать Белый дом не буду». Говоря о кровавых событиях, он имел в виду штурм телецентра в Вильнюсе в январе, где погибли безоружные люди, а основную роль в штурме играли альфовцы. Хорошо помню, какой шок и потрясение испытала я тогда, увидев по телевизору репортаж об этих событиях, и прорыдала всю ночь, не понимая, как можно было допустить такое, и как М.С. Горбачёв это допустил. Ко всему прочему в нынешнем противостоянии участвовали десятки тысяч людей. Этого задумавшие штурм никак не ожидали. При подобном раскладе сил, а люди у Белого дома были как невооружённые, так и те, кто был вооружён, при подобном раскладе сил погиб бы без сомнения каждый второй альфовец. Чтобы сокрушить защитников Белого дома, предстояло устроить невиданную кровавую бойню, а ведь среди защитников были очень известные личности, готовые стоять насмерть. Одно имя Мстислава Ростроповича о многом говорит. В результате «Альфа» идти на штурм отказалась, как и «Вымпел». Об Александре Лебеде, перешедшем на сторону Белого дома, я уже сказала.
А мы с подругой идём к Дому Советов РСФСР, он же Белый дом, опять со стороны метро «Смоленская». На Садовом кольце никакого движения машин, в тоннеле на пересечении Садового кольца с Новым Арбатом много крови, горящие свечи, цветы и стоящий на коленях плачущий мужчина со словами: «Как же так? Ведь мы с тобой Афган прошли и остались живы! Почему?». Попутно узнаём у стоящих у тоннеля, что погибли трое защитников Белого дома. Они попытались остановить передвижение колонны боевой техники, которая двигалась на Смоленскую площадь. В результате хаотичного маневрирования техники и применения солдатами стрелкового оружия погибли трое: Владимир Усов, Илья Кричевский, Дмитрий Ко́марь.
Не могу не сделать отступления. Как всегда, в первых рядах погибают самые лучшие. Эти ребята стоят того, чтобы о них сказать. Это сейчас те, кто, как правило, не разбираются даже в своей собственной жизни, ни для кого ничем не готовы жертвовать, даже для собственной семьи, для кого желание честной, справедливой жизни пустой звук, кичливо говорят: «Что вы там делали? Кого защищали? Ельцина? Развал СССР?» Мелко и глупо. Таким невозможно объяснить, они просто не поймут, за что отдали свои жизни эти замечательные ребята, для которых быть равнодушными к тому, что происходит в стране, по определению невозможно.
Владимир Усов – сын контр-адмирала Военно-морского флота Александра Усова, служил в частях ВМФ, экономист, работал по специальности.
Илья Кричевский – родился в семье преподавателя словесности Инессы Наумовны и архитектора Марата Ефимовича Кричевских. По национальности – еврей. В 1991 году посетил одно из занятий по изучению Торы в бейт-мидраше на улице Чайковского и собирался ещё раз прийти в бейт-мидраш для изучения еврейской религии. Архитектор, работал в Государственном проектном институте. Служил в рядах Советской Армии. Посещал семинар молодых поэтов при журнале «Юность», которым руководил Кирилл Ковальджи. После его гибели была опубликована в 1992 году его единственная книга стихотворений и поэм «Красные бесы». Стихи Ильи Кричевского включены Евгением Евтушенко в антологию «Строфы века»:
БЕЖЕНЦЫ (фрагменты)
Мы идем и идем по степи,
По лесам, по болотам и травам.
Еще долго и много идти,
Еще многим лежать по канавам.
…………………………………………………………………
Рок суров: кто дойдет, а кто нет,
И расскажешь ты внукам об этом,
Ты умрешь, как забрезжит рассвет,
Ослепленный огнем пистолета.
…………………………………………………………………………..
Но идем мы, идем, раздирая мозоли,
Нам не есть, нам не спать, нам не пить,
Смерть везде, смерть в лесу, за холмом,
в чистом поле…
Как смертельно нам хочется, хочется жить!
Дмитрий Ко́марь – родился в семье военнослужащего, самый молодой из погибших ребят. С мая 1987 года воевал в Афганистане, гвардии сержант ВДВ, награждён 3 медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги», на Афганской войне был дважды контужен, в мае 1990 получил благодарность от МВД за спасение незнакомой девушки от насильников, за месяц до августовского путча, находясь на отдыхе в районе Сочи, принял участие в спасении людей, пострадавших при сходе оползня, услышал, как вице-президент РоссииАлександр Руцкой призывает «афганцев» на защиту Белого дома, пошёл.
А мы вдвоём приближаемся к Белому дому. Дождь льёт как из ведра. Проваливаюсь ногой в лодочке в какую-то яму с водой по щиколотку. Но мне не до этого. Добрались. Чтобы пройти к Белому дому пришлось долго объяснять, кто мы и зачем пришли.
С балкона постоянно дают информацию об обстановке. Слышны автоматные очереди со стороны Киевского вокзала, выстрелы в районе Смоленской площади. На Садовом кольце произошло столкновение моторизованного армейского патруля с демонстрантами, солдаты стреляли поверх голов. За Калининским мостом, напротив фасада Белого дома, сосредоточилась группа танков и боевых машин десанта, а рядом в грузовиках укрыты боеприпасы, включая снаряды для танков. Объявляют тревогу и готовность номер один. Ждут штурма. На это выделены танки и БТР, в операции должны принять участие около тысячи человек. Организаторы обороны «Белого дома» призывают собравшихся около него граждан взяться за руки, встать цепью и действовать только методом уговоров. Одновременно, не зная ещё, что «Альфа» отказалась участвовать в штурме, ждут и её, предупреждая, чтобы пропустили и не сопротивлялись, они раненых не оставляют.
Со стороны реки неожиданно подходит колонна танков. К ней направляется часть защитников, впереди женщины с плакатом: «Солдаты, не стреляйте в ваших матерей и сестёр!» Из люка первого танка вылезает молоденький солдат. Какой-то мужчина начинает кричать о том, как они могут убивать безоружных людей. Танкист снял шлем и заплакал. Вперёд кинулись женщины, отодвигая мужчин, с криком: «Перестаньте, это же наши дети!» Через мгновение выясняется, что танкисты вообще не в курсе, что происходит и зачем их сюда направили. К тому же, они больше суток не ели и не пили. Начинается суматоха. Кто-то их кормит, кто-то поит, кто-то вручает «Евангелие». Неожиданно появляется Александр Лебедь, забирается в первый танк и уводит всю колонну.
Люди возвращаются на свои места. Мы стоим, взявшись за руки, образуя пять цепей. Все разбиты на сотни, в каждой – старший, приказы которого беспрекословно выполняются. Внутри здание охраняют курсанты Рязанского училища воздушно-десантных войск. На стороне российского правительства ряд офицеров советской армии, несколько подразделений КГБ, отряды милиции. Все вооружены автоматами. Оружие периодически подвозят.
Сообщают об ожидаемом сверху десанте и газовой атаке. Говорят, при каком газе надо промывать глаза водой, а при каком нет. Люди готовят мокрые повязки и противогазы на случай применения химического оружия. На крышах замечены снайперы. Дождь продолжает идти потоком беспрерывно, но никто не уходит. Началось движение штурмующей техники, преодолевшей первую линию баррикад. Слышатся пулемётные очереди. Танки подходят почти к самому зданию. Мы стоим, крепко держась за руки. Из здания выходят депутаты и идут к военным разговаривать с ними, после чего ряд воинских частей уходит от парламента. Отводит танки Кантемировская дивизия. Всё время раздаются выстрелы. Командир колонны боевых машин сказал, что он не будет стрелять по своему народу и увёл колонну. Продолжают сообщать о передвижении войск. В Москву, согласно указанию МВД РСФСР, на защиту Белого дома прибывают вооружённые курсанты разных школ милиции. К полудню последние бронетранспортёры Таманской дивизии покидают Москву.
Сообщают об открытии сессии Верховного Совета РСФСР под председательством Р. Хасбулатова, которая принимает заявление, осуждающее ГКЧП. Все решения ГКЧП подлежат отмене. М. Горбачёв должен приступить к своим конституционным обязанностям.
Передают, что в 16:52 А. Руцкой, И. Силаев, Е. Примаков и другие с группой из тридцати шести офицеров с автоматами вылетели в Форос к М. Горбачёву. В 19:16 они приземляются, преодолев сопротивление военных, в Бельбеке. В 18:30 Б. Ельцин, наконец, сумел дозвониться до М. Горбачёва, который благодарит его, защитников Белого дома и готов вылететь в Москву.
Начинается грандиозный митинг. С балкона Белого Дома выступает Б. Ельцин, Р. Хасбулатов и, вообще, все желающие. Оборону пока решено не снимать до полной победы.
22:00 Генеральный прокурор РСФСР В. Степанков выносит постановление об аресте бывших членов ГКЧП.
Всем сообщают, что мы победили и можем расходиться. Ощущение странное: как будто остановили на взлёте.
О произошедшем только два особых воспоминания: первое – Мстислав Ростропович, сидящий на стуле и держащий в руках автомат, прикладом вниз и опирающийся на него, и рядом с ним молоденький солдатик, приставленный к нему охранять и крепко спящий, положив голову на плечо великого музыканта; второе – невероятное единение людей, у которых все лучшие качества проявились в труднейшей ситуации, и к этому присовокупляю вопрос: «Ведь есть все эти качества без исключения в каждом, так почему же они проявляются только в исключительных ситуациях и куда же они деваются в обычной повседневной жизни?» Вот ведь вопрос вопросов.
23 августа состоялись похороны Владимира Усова, Ильи Кричевского и Дмитрия Ко́маря. Море народа. Общее горе. Очень тяжело. Мы были только на прощании и митинге. На Ваганьковское кладбище не пошли, побоялись, что ненароком задавят. Ощущение, что я ещё там, среди защитников парламента, не отпускало. Долго я была под впечатлением событий у Белого дома. Незабываемый опыт.
III. Заключение
А потом был 1993 год. Разногласия между бывшими единомышленниками: Б. Ельциным, Р. Хасбулатовым, А. Руцким. Моё потрясение от чёрной дыры в центре фасада Белого дома, пробитого снарядом. Снайперы на крышах домов. Убитые люди. Погибшие медики и шофёр машины скорой помощи, приехавшие к Белому дому забрать раненых. Моё жуткое беспокойство, потому что на одной из машин скорой помощи в тот день работал мой бывший ученик, вечером позвонивший мне сказать, что с ним всё в порядке, так как была расстреляна машина, следующая за ними. Им повезло. И мои метания в эти дни, потому что мой сын, играя с одноклассниками столкнулся с одним из них лбом и сломал нос. Он лежал в Филатовской больнице, где ему сделали пластическую операцию, а я с трудом смогла проехать к нему, чтобы забрать домой, так как улицы были перекрыты. А ещё вспоминаются постоянные задержки зарплаты и взаимная продуктовая выручка, связанная с этим: кто-то тебе из коллег приносит макароны из запасов, кому-то ты приносишь подсолнечное масло, и так по кругу. У всех дети, которых нужно кормить, да и других членов семьи, включая себя, тоже.
Сложное время. Кто был прав? Кто неправ? Трудно судить. Большое видится на расстоянии. Будущее покажет, рассудит и всё расставит на места.
ЦЕПНОЙ ПЁС
Убежать? Убежать не могу никуда.
Да и надо ли мне, и зачем?
О побеге забыл, только вот иногда
Доказать что-то хочется всем.
То, что вольность мою не закрыть на засов
И заборами не оградить.
То, что я за неё насмерть драться готов
С намерением всех победить.
И тогда я покину постылый мне двор,
Конуру, ненавистную мне,
Чтоб почувствовать невероятный простор,
А не выть по ночам при Луне.
Оттого-то и лаю до хрипа на всех –
От бессилия и от тоски,
Потому что никак не добраться до тех…
Ну, хотя бы всему вопреки.
Я бы всем показал свой собачий оскал,
И боялись бы все, как огня…
И никто б не посмел, даже не убежал…
Только цепь не пускает меня.
Глава 4. ПО ВОЛНАМ МОЕЙ ПАМЯТИ 2. ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК!
Очерк
Привыкла после лекций на философском и историческом факультетах МГУ ходить в моё любимое место силы – лесопарк на Воробьёвых горах. Не так давно, проживая с мужем (светлая ему память!) на Ленинском проспекте, я в течение пяти лет часто бывала здесь, вспоминая, как в юности мне показывал интересные исторические места и рассказывал о них Анатолий Аркадьевич Харлампиев, один из основоположников борьбы самбо (самообороны без оружия), супруг моего педагога по вокалу Надежды Самойловны. Тогда они вместе дружно пытались вывести меня, двадцатитрёхлетнюю, из шокового состояния после безвременной кончины в течение двух месяцев моих родителей, а затем через полгода и почти всех родственников. Я вижу себя с раскладушкой, шествующей по центру Москвы к их дому через Зубовский бульвар в час ночи (мы жили по соседству) под ошарашенным взглядом милиционера на перекрёстке.
У Анатолия Аркадьевича был ежедневный спортивный маршрут по Воробьёвым горам. А показать на Воробьёвых горах (тогда они назывались Ленинскими) было что! Многое изменилось в лесопарке сейчас: облагородили лесной массив, красиво оформили экологические тропы. Можно ли среди этих новшеств найти те исторические поляны и овраги, показанные мне когда-то Анатолием Аркадьевичем? Не скрыло ли время их в порослях новых кустов и деревьев? Оказалось – можно! Память безошибочно выхватывает среди обильной поросли памятные места: вот поляна, где была смонтирована сцена, на которой Всеволод Мейерхольд поставил спектакль "Лес" с молодым Игорем Ильинским в главной роли; на этой же сцене танцевала Айседора Дункан, покоряя российскую публику; а на этой полузаросшей поляне в двадцатые годы соорудили спортивную площадку с корзинами и осваивали диковинную игру баскетбол; а здесь в овраге была натянута проволока, к которой на цепи пристегнули живого волка для забавы публики, а он сорвался и набросился на ребёнка, которого спас Анатолий Аркадьевич, уложив зверя приёмом самбо, о чём писали многие газеты того времени, в фильме «Непобедимый» о родоначальнике самбо это происшествие перенесли в Среднюю Азию. А вот на этих склонах Воробьёвых гор кавалеристы конницы С.М. Буденного показывали членам правительства сабельную атаку. Вот и заветные тропинки с деревьями по обе стороны, где Анатолий Аркадьевич учил меня метать ножи, сам безупречно владея холодным оружием. Жаль, что сейчас о таком интересном историческом прошлом Воробьёвых гор не рассказывают, не проводят экскурсий.
Я же погрузилась в воспоминания о замечательной семье Харлампиевых.
Анатолий Харлампиев является одним из основоположников самбо, но говорить об этом, не упомянув его деда и отца совершенно невозможно.
Дед Анатолия Аркадьевича Георгий Яковлевич Харлампиев – известный гимнаст и победитель кулачных боёв в царской России. Это именно он стоит у истоков формирования самбо. Он много лет собирал, изучал и классифицировал различные приёмы рукопашного боя, борьбы и самозащиты. Собранное передал своему сыну Аркадию, который продолжил начинание отца.
Об Аркадии Георгиевиче, отце Анатолия Аркадьевича, – особо. В Смоленской гимназии он проявил склонность к рисованию, с отличием окончил Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств, за государственный счёт был отправлен в Парижскую академию изящных искусств. Написал выдающиеся картины, многие из которых сейчас находятся в разных музеях. Я имела уникальную возможность видеть и наслаждаться полотнами мастера, бережно хранимыми в квартире моей любимой семьи Харлампиевых. Но Аркадий Георгиевич не был бы самим собой, если бы не продолжил спортивную линию семьи. Параллельно с художественным творчеством он во Франции серьёзно занимается боксом, выигрывает французское национальное первенство и первенство Европы среди профессионалов и упорно собирает и изучает приёмы рукопашного боя, продолжая дело отца. Вернувшись, он в 1913 году становится чемпионом России по боксу. Начинается первая мировая война. Аркадий Георгиевич заканчивает школу прапорщиков, возглавляет команду разведчиков, командует ротой. В одном из боёв в бессознательном состоянии попадает в плен, но бежит из немецкого лагеря для военнопленных во Францию, откуда перебирается в Эстонию. В советской России становится основоположником советской школы бокса, основателем Высшей школы тренеров по боксу. Умер в 1936 году в возрасте сорока восьми лет, но сколько успел! Ещё и книги написал: «Атлетические игры», «Гимнастические игры», «Коллективный отдых в рабочем клубе: Забавы. Игры. Танцы. Хор». Э.А. Хруцкой посвятил ему документально-художественную повесть «Этот неистовый русский».
И было у Аркадия Харлампиева два сыны: Георгий, известный в СССР альпинист и музыкант, и Анатолий. Вот об Анатолии Аркадьевиче я и продолжу, потому что судьба уготовила мне редкую возможность: близко знать этого человека, восхищаться его личностью, а затем и быть знакомой с его мемуарами.
Анатолий Харлампиев с раннего детства обучался боевым искусствам под руководством деда и отца, позднее изучал Дзюдо Кодокан. Продолжил начатое большое дело деда и отца – собирал приёмы различных видов борьбы, изучал и систематизировал национальные виды единоборств народов СССР.
И здесь в памяти моей всплывает дивная Надежда Самойловна – супруга Анатолия Аркадьевича. Где же пересеклись их пути? Не поверите – в консерватории! Удивительное семейство Харлампиевых, занимавшихся не только физическим, но и духовным развитием личности! Как Аркадий Харлампиев занимался художественным творчеством, так Анатолий Харлампиев занимался музыкой, игрой на духовых инструментах. Там и воссоединились эти два человека, сыгравшие такую значительную роль в моей жизни. Надежда Самойловна была солисткой Большого театра, обладала чудесным лирико-драматическим сопрано и руководила оперной студией, в которой я имела честь петь в течение семи лет. А Анатолий Аркадьевич опекал нас, птенцов гнезда Надежды Самойловны, принимал самое непосредственное участие в нашей деятельности. Мы его обожали за удивительную сердечность, деликатность, интерес с нам, совсем молодым певцам. А когда после смерти родителей я узнала Анатолия Аркадьевича ещё ближе, мне открылись удивительные факты его жизни. Немного о них.
Итак, Анатолий Аркадьевич соединил воедино наиболее эффективные приёмы различных видов единоборств, что стало основой для создания нового вида борьбы – самбо (самообороны без оружия). Как говорил сам Анатолий Аркадьевич: «…чтобы слабый и безоружный всегда мог защититься». Не реже одного раза в год он отправлялся в исследовательские экспедиции по советским республикам, где изучал новые стили боевых искусств и совершенствовал боевую систему самбо. Мне запомнился его рассказ, как в двадцатые годы он оказался в Крыму среди контрабандистов, так как узнал, что среди них есть человек, владеющий неизвестными приёмами борьбы, и о том, как он потом оттуда выбирался. Итогом многолетних исследований стало разделение самбо на два направления: спортивное, которое стало основой стиля, и боевое, предназначенное для сотрудников силовых структур.
В тридцатые годы Анатолий Харлампиев представил боевую систему самбо К.Е. Ворошилову, С.М. Будённому и другим военачальникам. На него выходили семь человек крепких, вооружённых ножами мужчин, и он доказал эффективность борьбы на собственном примере. Официальной датой признания самбо самостоятельным видом спорта считается 1938 год, а Анатолий Харлампиев был назначен старшим тренером. Кроме того, он до последних дней был внештатным инструктором силовых структур по боевому самбо и холодному оружию, мастером владения которого был.
За участие в боях Великой Отечественной войны «непобедимый» награждён орденом «Красной Звезды», медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга». После 9 мая перевёлся на Дальний Восток, где громил с нашими войсками Квантунскую японскую армию. И там задержался, так как у него вызвали большой интерес японские боевые искусства. Устраивал спортивные поединки с пленными японцами, чем умудрился расположить их к себе и вызвать уважение даже в таких тяжёлых обстоятельствах.
Помимо занятий боевыми искусствами Анатолий Харлампиев занимался фехтованием и альпинизмом, что позволило ему поддерживать прекрасную физическую форму до последних дней. Надежда Самойловна рассказала мне, как гуляя у Академии имени М. Фрунзе недалеко от их дома, они встретили человек пять парней, которые потребовали от мужа снять часы. Анатолий Аркадьевич отдал ей пиджак, а далее, я думаю, вы уже понимаете, что произошло. След их простыл быстро! А ведь Анатолию Аркадьевичу было семьдесят лет.
Этот выдающийся человек был убеждён и всегда говорил о том, что самбо – это философия жизни, развивающая аналитические способности и внимательность, мобилизующая внутренние резервы организма и направляющая их на достижение цели. Хорошо, что сейчас много секций для детей, в которых их обучают самбо, прекрасно, что проводятся ежегодные международные соревнования по самбо имени Анатолия Аркадьевича Харлампиева.
Семьдесят четыре года прожил этот дорогой мне человек. Нет уже давно в живых и
Надежды Самойловны, и их сына Саши, с которым мы после смерти его отца разбирали рукописи мемуаров. Все трое покоятся на Новодевичьем кладбище. А мне кажется, что только вчера я с Анатолием Аркадьевичем разбирала снятые с антресолей папки с письмами Ф. Шаляпина, Н. Неждановой, Л. Собинова под рассказы Надежды Самойловны, разглядывала диковинную коллекцию холодного оружия разных времён и народов, собираемую Анатолием Аркадьевичем всю жизнь. Будто только вчера мы отмечали в их квартире семидесятилетие великого мастера, пили приготовленный им квас с хреном, лучше которого я никогда не пила, и радовались сердечной атмосфере в их квартире и ласковому обращению друг к другу, их любви, пронесённой и сохранённой сквозь годы и испытания , вижу его улыбку и слышу его задорный голос: «Хочешь – научу тебя, как поставить любого мужчину на колени?»
Я благодарна судьбе, что она подарила мне близкое знакомство с Анатолием Аркадьевичем Харлампиевым – легендарной личностью нашей истории. Могу с таким же трепетом рассказывать и о моём незабвенном выдающемся педагоге по вокалу Надежде Самойловне Харлампиевой, но это уже другая история.
Продолжаю прогулку по Воробьёвым горам. Любуюсь на курсирующие по Москве-реке разнообразные суда. Каких только посудин нет! От канатной дороги захватывает дух! Красота! Одно удовольствие прогуляться по лесному массиву, полюбоваться рекой, совершая променад по набережной, напитаться сильнейшей энергетикой этих мест, погрузиться в дорогие сердцу воспоминания. Приходите сюда! Предавайтесь, подобно мне, своим воспоминаниям! Радуйте своё сердце! Воробьёвы горы ждут вас!
Истории минувших дней
Мне снова будоражат память.
Они живут в душе моей,
От них себя мне не избавить.
Всё было будто бы вчера:
Москва и Ленинские горы,
Прогулки с раннего утра
И радость встреч, разлука, горе…
И вот опять передо мной
Знакомые до боли лица…
Я вспоминаю со слезой…
Всё в прошлом и не возвратится.
Все те, кто так меня любил,
С кем я делилась всем когда-то,
Чей взгляд и дорог мне и мил,
В душе моей с печальной датой.
Ах, как же поменялось всё!
Вновь стали горы Воробьёвы.
Мне память в унисон поёт
С беспечной девушкой весёлой…
Глава 5. ПО ВОЛНАМ МОЕЙ ПАМЯТИ 3. МОСКВА МОЕЙ ЮНОСТИ
Нестерпимый зной этого июля заставлял сидеть в квартире, периодически забегать в душ, затем вольготно вытягиваться на кровати и лежать в тяжёлом забытьи, мечтая об обещанном синоптиками близком похолодании. Но намеченные неотложные дела прерывали созданную иллюзию прохлады и заставляли, несмотря на маячившие впереди тяготы, одеваться, прихорашиваться, водружать на голову шляпку из итальянской соломки и выгонять себя из относительной прохлады на улицу.
Вот так я и очутилась жарким июльским днём в районе Зубовского бульвара, где прошло моё детство, отрочество, юность и молодость. Всё, что было необходимо, сделано, пора уходить, а душа не отпускает из этого благословенного места.
Наша семья жила совсем недалеко на Пречистенке, тогда Кропоткинской, в доме тридцать четыре. Мама работала тоже рядом на Смоленской площади в здании МИДа. Когда я была маленькой, каждый январь она водила меня на новогодние представления для детей в это казавшееся мне огромным высотное здание, и я с замиранием сердца и восхищением смотрела волшебное действо с участием Снегурочки и Деда Мороза. А папа, прошедший всю Великую Отечественную войну, офицер военно-морского флота, награждённый многими орденами и медалями, работал в министерстве обороны. В нашем доме бывали многие известные люди того времени.
Мимо академии имени Фрунзе пошла на Девичье поле, которое все называли Девичкой. Сюда я ходила на прогулки в детстве и юности. Прошла к улице Еланского. Здесь в Центре матери и ребёнка за Девичкой меня когда-то родила моя мама. И надо же такому случиться, что именно здесь тоже появился на свет мой сын. А вот и любимый памятник, на меня смотрит Лев Толстой.
Вернулась на Зубовскую площадь и нырнула на дорогую мне Пречистенку. Все мои подруги и друзья детства жили здесь. Вместе учились в школе № 50, вместе бродили всю ночь после последнего звонка по парку имени Горького с любимым классным руководителем Львом Семёновичем. Встретились через десятилетие и расстались навсегда. Несколько лет назад приходила по приглашению на встречу выпускников нашей школы, но не увидела ни одного знакомого лица. Было грустно…
А вот и моя детская музыкальная школа в доме 32, в которой я занималась по классу фортепиано и по классу гитары, теперь музыкальная школа имени Мурадели. Как порой мне надоедали гаммы и сольфеджио, но как же я потом всегда благодарила родителей за то, что они подарили мне умение понимать и наслаждаться музыкальным искусством. Всегда с замиранием переступала порог особняка Охотниковых, в котором находится школа. Какие несравненные росписи потолков, какая красота внутри, какая дивная энергетика возвышенной старины! А рядом была детская художественная школа. Кто-то хранит такие же тёплые воспоминания о годах, проведённых в её стенах. Во дворе особняка по-прежнему находятся здания екатерининских конюшен. Теперь в некоторых из них художественные студии. А когда-то в этих дворах за фасадами заливали зимой катки, и я до сих пор помню несравненное удовольствие от вечеров после катания на конках в любимом дворе.
Возвращаюсь к моему бывшему дому 34. Сколько всего связано с ним: и свидания по улочкам вокруг него, и первые поцелуи, и объяснения под эркером на третьем этаже, где мы жили. Как-то я постояла на этом эркере и поняла, что всё сказанное внизу, отчётливо слышно наверху. Значит, ожидающая меня вечерами мама прекрасно слышала и объяснения, и поцелуи, всё, что происходило внизу, но, мудрая, никогда мне об этом не говорила.
Далее помещение Академии художеств. Оно изменилось. Не было тогда рядом Галереи искусств Зураба Церетели. Но мне галерея нравится.
Всё на месте: и дом, где познакомились и жили Сергей Есенин и Айседора Дункан, и музей Льва Толстого, и музей Александра Пушкина. Вот только школы для совместного обучения под названием «Игра Для Желающих Выйти Замуж», появившейся здесь, в мою бытность проживания точно не было. А вот и Дом учёных, куда мама каждую субботу водила меня на концерты классической музыки по абонементу.
Всё знакомо и всё мило на этой улице. И всё же она и та, и не та. Много новых учреждений, где раньше жили люди, новые памятные доски, отреставрированные по-новому дома. А самое главное – нет здесь уже тех людей, с которыми связаны сердечные воспоминания об этом месте, и время уже совсем другое. Та Кропоткинская улица в прошлой памяти. Она никуда не уйдёт оттуда. Там, в этой памяти, будут любящие и любимые родители, встречи со смешливыми и озорными подружками и хорошими друзьями, с любимыми учителями, со взрослыми людьми, которые мудро оберегали и по-доброму наставляли, там останется первая влюблённость и девичьи мечты о будущем. Ведь мы знаем: пока жива память, живо и то, что она хранит. А потому в памяти моей эти любимые уголки Москвы всегда будут источником силы и вдохновения!
ПАМЯТЬ
Дождь не смывает все следы,
Ни слёзы и ни волны.
Есть память даже у воды
Безгрешным и виновным.
В песок она уйти не даст,
А высушит до соли.
По полной до краёв воздаст –
От счастья и до боли.
Воспоминания не сжечь,
Ни сгладить, ни исправить.
Их навсегда взялась сберечь
Придирчивая память.
В ней всё, до тайны роковой,
С рождения до тризны:
Мечты, унёсшие покой
В терзаниях капризных.
