Саквояж и всё-всё-всё. Книга. IV. Пестрый налим
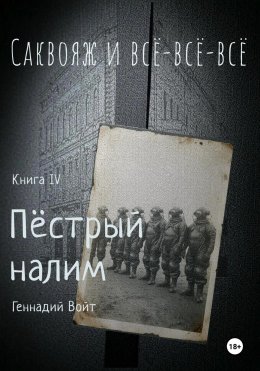
Дисклаймер
Все персонажи и события, описанные в этой книге, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми (живыми или умершими), событиями или организациями является непреднамеренным и случайным. Мнения и взгляды, высказанные персонажами, принадлежат только им и не отражают точку зрения автора.
©2025
Моим самым главным людям —
жене Ольге, сыновьям Герману и Глебу.
С бесконечной любовью и благодарностью.
Пёстрый налим
Отжимания от пола сродни уплате налогов. Занятие, по общему мнению, полезное, но положительных эмоций не вызывающее. Я, например, с детства подозревал, что спорт придумали очень злые люди. Возможно, те же, кто изобрёл будильник, рыбий жир и понедельники.
– Десять! – объявил я, осилив два повторения, и распластался на полу.
Немного полежал, глядя в потолок. В углу притаилась паутина, в центре которой бодро копошился её полноправный владелец. Я мысленно перебрал все известные мне приметы, связанные с появлением пауков в доме, и предсказуемо остановился на самых приятных: к здоровью, семейному благополучию и скорому успеху во всех начинаниях.
В этот момент зазвонил телефон.
– Алло, – произнёс я с робкой надеждой, что на том конце провода окажется кто-то разумный и с хорошими новостями (хотя откуда бы им взяться? ).
– Бодрое утро, Виктор! – голос Гриши был таким оглушительно жизнерадостным, что его хотелось запретить на законодательном уровне. – Я по делу. Заскочу через полчасика!
– Какое ещё дело?
– Очень важное! Ну, не то чтобы очень. Но зато неожиданное. Короче, жди!
Он бросил трубку. Приметы не заставили себя ждать. Успех в начинаниях, очевидно, уже стоял за дверью.
Дверной звонок грянул ровно через тридцать минут, будто Гриша сверялся с палатой мер и весов. Это само по себе было подозрительно. Обычно он либо опаздывал на три дня, либо материализовывался без предупреждения в семь утра с куском торта и невинным вопросом: «Ты спал? »
На пороге стоял он – ходячий, дышащий, вопиюще жизнерадостный оптимизм. Белобрысые вихры торчком, взгляд ясный, улыбка на пол-лица. Бодр, свеж и даже причёсан. Одет, как всегда, неправдоподобно ярко. Я всегда подозревал, что где-то существует его двойник – суровый мужчина в сером костюме, – просто для сохранения вселенского равновесия.
Когда-то в школе мы прочили его в гении, но гениальность так и не манифестировалась, уступив место редкой способности находить нечто из ряда вон выходящее в самых заурядных вещах.
– Витя! Вот и я! – он ворвался в квартиру, сияя, как новогодняя гирлянда. – Как жизнь? Творческий процесс кипит?
– Пузырится… – пробормотал я. – Проходи. Кофе будешь?
– Конечно! Ты же знаешь, я за здоровый образ жизни.
Я знал. Для Гриши кофе был безусловно полезен, потому что бодрил. А кофе с коньяком – полезен вдвойне, ибо бодрил ещё сильнее.
Мы прошли на кухню. Я поставил турку на плиту, извлёк банки с кофе и сахаром. Гриша уселся за стол, смахнул невидимые крошки и, сцепив руки в замок, торжественно объявил:
– Я тут залип на фотографии шестидесятых!
– В смысле?
– Ну, старые снимки. Люди, машины, улицы… Это как портал в прошлое! Такие экземпляры попадаются – дух захватывает! Кстати, у тебя нет случайно чего-нибудь эдакого?
Я задумался.
– Вроде бы была одна… Купил как-то вместе с саквояжем.
– Ого! – оживился Гриша. – Покажь!
Я отправился в комнату и извлёк из-за дивана потёртый кожаный саквояж – трофей из одной антикварной лавки.
Вернувшись на кухню, я водрузил его на стол и принялся потрошить недра. Там по-прежнему обитал целый ворох будущих загадок: одинокая перчатка из тонкой кожи с вытисненными на ней алхимическими символами, старый театральный билет, блокнот с непонятным шифром, какая-то шкатулка… Наконец, под всем этим археологическим слоем, нашлась и она. Фотография.
– Вот, держи. Любуйся эпохой.
Гриша вцепился в снимок и прищурился.
–Ты, где это раздобыл?
– Да в антикварном. За копейки отдали. Фотография шла в комплекте с тем мандариновым галстуком, помнишь? Ты ещё помог мне найти редакцию журнала «Ленинград», где работал его владелец.
Гриша оторвал взгляд от карточки и всмотрелся в меня.
– Это ж надо… – пробормотал он. – Слушай, а ты вообще соображаешь, что на ней?
Я взял фотографию из его рук. Действительно, зрелище престранное: группа людей в каких-то фантастических костюмах, словно пришельцы из будущего, по ошибке угодившие в прошлое. Или рыцари, ушедшие в запой где-нибудь в XIII веке и очнувшиеся посреди века двадцатого. Я пожал плечами.
– Какие-то чудики в странных нарядах. Может, театральный кружок? Или клуб любителей исторической реконструкции?
– Витя, ты что, не понимаешь? – Гриша посмотрел на меня так, будто я не Виктор Левицкий, а Юрий Лоза, только что заявивший о плоскости Земли. – Это же… Операция «Пёстрый налим»! Кажется!
– Какой ещё «Пёстрый налим»? Звучит как название съезда рыболовов-любителей.
– Съезда, – передразнил меня Гриша. – Это секретная экспедиция на Байкал в начале шестидесятых. Я слышал о ней от отца, но всё было под грифом «совершенно секретно», ходили одни слухи…
Он выхватил у меня фотографию, перевернул её и прочитал надпись на обороте:
– «Байкал. 1962 г.» Вот! Я же говорил! А это что? Список фамилий?
Я кивнул, всё ещё не видя причин для подобного ажиотажа.
– Последняя фамилия обведена красным, – заметил я. – Зор-Зенин А. Н. Знакомая?
Гриша покачал головой.
– Нет, но… Витя, ты не понимаешь! Такую экспедицию не организуют просто так… Если всё засекречено, значит, искали кое-что очень важное!
– Кое-что важное? На дне Байкала? – я не мог сдержать скепсиса. – Гриш, ты опять насмотрелся низкопробных передач по РЕН ТВ?
– Нет, Витюша, нет, ты послушай! – Гриша был в своей стихии. – Отец рассказывал, что детали миссии были скрыты самым тщательным образом. А эти костюмы, – он ткнул пальцем в фотографию, – это глубоководные скафандры. Их разрабатывали специально для этой операции.
Я смотрел то на снимок, то на Гришу, силясь понять, не разыгрывает ли он меня. Но его глаза горели таким неподдельным энтузиазмом, что сомнений не оставалось – он верил в каждое своё слово.
– И что теперь? – спросил я, всё ещё не догадываясь, к чему он клонит.
Гриша медленно, предвкушающе улыбнулся. Той самой улыбкой, от которой мой инстинкт самосохранения обычно начинал бить в набат.
– А теперь, мой друг, – произнёс он с расстановкой, – мы отыщем истину. И выясним, что же они там на самом деле искали. Лишняя разгаданная тайна тебе ведь не повредит?
Я вздохнул. Тайны – это, конечно, интересно. Но спокойную жизнь было отчаянно жаль.
***
Я поставил турку на стол и разлил дымящийся кофе по чашкам. Гриша задумчиво вертел фотографию, словно таролог – судьбоносную карту, и нетерпеливо постукивал по её краю ногтем. Я молча наблюдал, ожидая, когда в его беспокойной голове созреет очередная безумная идея.
– Ну что, – спросил я, подвигая ему чашку. – И каковы наши дальнейшие действия? Кроме как любоваться чудиками в скафандрах?
Гриша отвлёкся от снимка, взял чашку, отхлебнул и прикрыл глаза в экстазе.
– Эх, хорош! Спасибо, Витя! А делать… – он снова уставился на фотографию, – делать будем историю! Вернее, раскапывать её!
– Раскапывать? Это как? Лопаты, билет до Байкала, погружение в масках и ластах? Гриша, притормози. Это даже не авантюра, это диагноз.
– Авантюра! Витя, ну ты как маленький! Какое ещё приключение? Это – исследование! Поиск истины! У тебя же в этом деле опыт! Мы же интеллектуалы, в конце концов! Начнём с малого. С поиска информации. В интернете сейчас есть всё!
– В интернете? – усмехнулся я. – Секретная, как ты выразился, советская экспедиция шестидесятых. Прямо так и лежит в открытом доступе, ждёт нас. Берите, дети фортуны, пользуйтесь.
– Ну, не всё, конечно. Но зацепки-то могут быть! Статьи, упоминания… Надо копнуть! Понимаешь, Витя, такая история, такая фотография – это же клад! Информационный! Мы просто обязаны разобраться, что к чему.
Взглянув на Гришу, я понял, что спорить бесполезно. Когда он загорался идеей, его энтузиазм приобретал свойства доменной печи. Да и, по правде говоря, проклятое любопытство уже начало точить и меня. Что же на самом деле искали на дне Байкала эти люди в диковинных скафандрах?
– Ладно, – сдался я. – Давай попробуем. С чего начнём? Какие ключевые слова предложит гений сыска? – спросил я, открывая ноутбук.
– «Операция «Пёстрый налим“»! И ещё «Экспедиция Байкал 1962»! И фамилии из списка! Зор-Зенин… кто там ещё? Дай-ка… Вот! Синевский, Лунгинов, Шумилов, Светозар… Пробуем все комбинации!
Он придвинул к себе мой ноутбук и застучал по клавишам с остервенением пианиста-виртуоза. Я наблюдал за ним, попивая кофе.
Первые результаты поисков оказались, как и следовало ожидать, удручающе скудными. «Операция «Пёстрый налим“» в сети не упоминалась вовсе. Запросы по байкальской экспедиции 1962 года выдавали лишь сухие отчёты о научных изысканиях. Зоологи, биологи, ихтиологи – но ни единого намёка на тайную миссию в глубоководных скафандрах. Фамилии из списка рассыпались по сети тысячами тёзок, не давая никакой конкретики.
Гриша, однако, не унывал. Он тасовал поисковые фразы, менял слова, комбинировал имена с датами. Он напоминал старателя, терпеливо промывающего речной песок в лотке, – тонны пустой породы ради одной-единственной крупицы.
– Так, стоп! – вдруг выдохнул Гриша, застыв у экрана. – Вот! Смотри! Форум дайверов… Обсуждают старые экспедиции на Байкал… И вот, кто-то упоминает… «Слышал от деда про какого-то «Налима“ в шестидесятых… Говорил, что-то военное, очень секретное… связано с какими-то поисками на дне… но подробностей не знал».
– И это всё? – спросил я, не разделяя его восторга. – Слухи и домыслы.
– Нет, погоди! Читаю дальше! «…Дед говорил, что там чуть ли не людей искали. Пропавших каких-то… Или что-то такое… В общем, мутная история».
– Пропавших людей? – я нахмурился. – Это уже любопытно. Но при чём тут скафандры? И почему «Пёстрый налим»?
– Глубоководные поиски? – предположил Гриша. – Байкал же глубоченный. Для этого и скафандры. Чтобы на самое дно спускаться.
– Звучит логично, – признал я. – Но всё равно слишком туманно. Нужны факты, Гриша, факты. Слухи и байки нас далеко не заведут.
– Факты будут, Витя, будут! – заверил меня он. – Надо просто копать дальше. Может, в архивах что-то есть? Старые газеты? Библиотеки?
Идея с архивами и библиотеками звучала уже основательнее. Интернет – это, конечно, хорошо, но не все тайны прошлого оцифрованы.
– Ладно, – кивнул я. – Попробуем архивы. Начнём с архива Военно-морского флота, того, что на Миллионной. Если экспедиция секретная, да ещё и на Байкале…
– Отлично! – Гриша хлопнул в ладоши. – Точно! И в Национальную библиотеку запросы отправим! Работы непочатый край!
***
В следующие несколько дней мы с головой ушли в поиски. Гриша, как неутомимый паровоз, тащил состав нашего расследования вперёд, генерируя всё новые идеи. Я же, подобно старой библиотечной моли, осторожно просеивал каждую крупицу информации через сито здравого смысла. Задача была не просто найти, но и отделить золото фактов от шлака домыслов.
Мы, как два одержимых сыщика, обрывали телефоны архивов, бомбардировали библиотеки запросами и, словно цифровые археологи, вгрызались в онлайн-кладбища старых газет. Сведения сочились скупо, как вода сквозь камень, но постепенно эти капли начали собираться в небольшой, пока ещё мутный ручеёк.
В подшивках удалось найти несколько куцых заметок о том, что в начале шестидесятых на Байкале действительно проводились некие загадочные глубоководные работы под прикрытием научной программы. Упоминались «новые скафандры», но без деталей и уж точно без всякой связи с «Пёстрым налимом». Ни одной фамилии из нашего списка там, разумеется, не было.
– Смотри, Витя! – как-то раз взволнованно воскликнул Гриша, врываясь в комнату с распечаткой. – Я нарыл статью в научном журнале за шестьдесят второй год. Описывается уникальная глубоководная экспедиция на Байкале. И руководитель упоминается… некий профессор Зор-Зенин…
Я выхватил у него лист. Действительно, фамилия Зор-Зенин. И экспедиция описывалась как нечто из ряда вон, связанное с испытаниями новой техники.
– Зор-Зенин… – пробормотал я, вспоминая фотографию. – Последняя фамилия, обведённая красным… Профессор Зор-Зенин… Совпадение?
– Не думаю, – ответил Гриша серьёзно. – Слишком редкая фамилия. Время, место, тематика… Мне кажется, мы на верном пути. Зор-Зенин – это наша нить Ариадны!
– Возможно, – согласился я. – Но что нам это даёт? Профессор руководил экспедицией. И что? Он уже наверняка давно на том свете.
– Не факт, – возразил Гриша. – Надо проверить его биографию. Родился, женился, умер… Может, у него есть родственники? Дети, внуки?
Идея показалась мне разумной. Если экспедиция была секретной, официальные архивы будут немы. Но семья… семья могла что-то знать. Хранить письма, дневники, фотографии…
– Хорошо, – сказал я. – Давай искать информацию о профессоре. И о его родне. Снова интернет?
– Ага! – Гриша уже сиял. – «Профессор Зор-Зенин». Биография. Семья. Поехали!
Мы снова уселись за ноутбук. Поиск выдал несколько научных статей и упоминаний в справочниках. Выяснилось, что Зор-Зенин Александр Николаевич (инициалы совпали! ) был видным советским океанологом, специалистом по глубоководным исследованиям. Руководил несколькими экспедициями, в том числе и той самой.
Но странное дело: информации о нём было до смешного мало. Ни статьи в Википедии, ни слова о семье, ни воспоминаний коллег. Как будто кто-то прошёлся по его биографии ластиком, оставив лишь сухие строчки в научных талмудах.
– Гриш, – сказал я, – не может же быть, чтобы у известного учёного не нашлось ни одного родственника, ни одного ученика, который бы о нём вспомнил? Что-то тут не так.
Гриша задумчиво почесал подбородок.
– Да, странно. Может, он был засекречен? Или… – он замолчал.
– Или что? – подтолкнул я его.
– Или с ним что-то случилось. Что-то, о чём все предпочли забыть, – закончил Гриша.
– Вполне возможно, – согласился я. – Слушай, а давай просто поищем по фамилии. Вконтакте… Мордокнига… Одноклассники… Фамилия-то редкая.
Гриша пожонглировал буквами на клавиатуре и через минуту торжествующе объявил:
– Есть! «София Зор-Зенина». В Мордокниге! Фото… хм, весьма. И город – Санкт-Петербург! Это она!
Я заглянул в экран. На странице действительно была симпатичная девушка с умным, чуть печальным взглядом. Фамилия – Зор-Зенина. Город – Санкт-Петербург. Вероятность совпадения стремилась к нулю.
– Вот это удача, – удивился я. – И что дальше? Пишем ей: «Здравствуйте, София, мы тут фотографию нашли, не ваш ли дедушка на ней, и не расскажете ли про секретную операцию на Байкале? »? Звучит как бред сумасшедшего.
– Ну, не так в лоб, конечно, – задумался Гриша. – Деликатнее. Напишем, что интересуемся историей советской океанологии. Профессор Зор-Зенин – величина. Хотим узнать о нём больше.
– Звучит цивилизованно, – кивнул я. – Давай. Только без «Пёстрого налима». Начнём издалека.
Мы принялись сочинять. Гриша фонтанировал идеями, я придавал им строгую и уважительную форму. В итоге получилось следующее:
«Здравствуйте, София!
Мы пишем Вам как исследователи-любители, интересующиеся историей советской науки и, в частности, вкладом профессора Александра Николаевича Зор-Зенина в развитие океанологии.
Нам известно о его уникальных работах в области глубоководных исследований, включая экспедиции на озеро Байкал в 60-е годы. Мы были бы очень благодарны, если бы Вы смогли поделиться какими-либо воспоминаниями о нём или, возможно, у Вас сохранились материалы из его личного архива.
Будем рады любой информации.
С уважением,
Виктор и Григорий».
Гриша предложил не указывать фамилии, чтобы не спугнуть. Я согласился. Отправили и стали ждать.
День прошёл, второй… Ответа не было. Гриша начал нервничать.
– Может, она не каждый день в сеть заходит? – пытался я его успокоить.
– Да нет, – отмахивался он. – Видел, она вчера фото выкладывала. Игнорирует. Наверняка решила, что мы мошенники. Или сектанты.
На третий день утром, когда я уже почти смирился с провалом, телефон пиликнул уведомлением. «София Зор-Зенина ответила на ваше сообщение».
Сердце ёкнуло. Я открыл мессенджер:
«Здравствуйте, Виктор и Григорий!
Спасибо за интерес к работам моего деда. Мне очень приятно, что его наследие не забыто.
К сожалению, я вынуждена вас огорчить. Я практически ничего не знаю ни о его жизни, ни тем более о научной деятельности.
Дело в том, что мой дед исчез в 1962 году, вскоре после рождения моего отца. С тех пор в нашей семье не сохранилось почти никаких сведений о нём. Даже фотографий. Всё, что есть, – это отрывочные и довольно пугающие воспоминания моей бабушки, которая всегда боялась говорить на эту тему.
Поэтому, боюсь, мои знания о его работе крайне скудны.
Тем не менее, если вы расскажете, что именно вас интересует, возможно, я смогу вспомнить какие-то детали из её рассказов.
С уважением, София Зор-Зенина.
P. S. Мне очень жаль, если я вас разочаровала».
Мы переглянулись.
– Что скажешь? – спросил Гриша.
Я задумчиво перечитал сообщение. Внучка – и ничего не знает? Ни одной семейной истории? Странно.
– Напиши ей, что мы нашли старую фотографию, – сказал я. – И что на ней фамилия Зор-Зенин обведена. Может, это что-то прояснит.
Гриша быстро набрал ответ:
«София, спасибо, что ответили. Дело в том, что у нас есть старая фотография, на обороте которой имя Вашего деда обведено красным. Чем больше мы ищем, тем больше странностей находим. Если Вам любопытно, можем рассказать подробнее».
На этот раз ответ пришёл почти мгновенно.
«Здравствуйте!
Ваше письмо меня невероятно заинтриговало. Я никогда в жизни не видела своего деда. В нашей семье нет ни единой его фотографии.
Вы пишете, что нашли снимок, где его фамилия обведена? Это поразительно! Мне было бы очень интересно его увидеть. Возможно, это хоть какая-то ниточка.
Я хотела бы показать фотографию бабушке. Может быть, она что-то вспомнит.
Пожалуйста, если возможно, покажите мне её. И да, мне очень любопытно узнать все подробности.
Давайте созвонимся?
С уважением,
София».
– Созвониться? – Гриша вскинул брови. – А вот это уже интересно.
– Конечно! – я почувствовал, как азарт погони пробежал по венам. – Надо договариваться.
Мы быстро набрали:
«София, спасибо за откровенность. С радостью расскажем всё. Когда Вам удобно? »
Ответ пришёл тут же.
«Сегодня вечером, если вам удобно. Видеозвонок в Мордокниге подойдёт? »
Я взглянул на Гришу. Он пожал плечами, но в глазах у него уже плясали черти.
– Подойдёт. Главное – выяснить, что она знает, а что скрывает.
– А ещё произвести благоприятное впечатление, – добавил я, взлохматив его белобрысые вихры. – Причешись, Гриша. С такой шевелюрой ты похож на йети, которого только что вычесали против шерсти.
***
Гриша не просто убирался – он метался по комнате, словно пытался одним махом усмирить хаос из распечаток, скомканных черновиков, пустых банок из-под энергетиков и прочего творческого сора. Я же, напротив, демонстративно сохранял олимпийское спокойствие, хотя внутри, правду сказать, тоже назревала суета. События неслись вскачь. Только вчера мы ломали головы над выцветшей фотографией и загадочной фамилией Зор-Зенин, а сегодня уже готовились к видеозвонку с его внучкой.
Настенные часы показывали 18: 55. Всего ничего до прыжка в неизвестность. Хотелось, чтобы всё прошло без сучка без задоринки: интернет-соединение я проверил трижды, камеру настроил, а главное – отсканировал ту самую фотографию.
– Готов, абоминабль? – спросил я Гришу, застывшего перед зеркалом в позе античного героя. – Красавчик.
– Да ладно тебе, Витя, – отмахнулся он, в последний раз яростно проведя расчёской по волосам. – Главное – не экстерьер, а что мы скажем. Хотя… – он критически оглядел своё отражение и скорчил гримасу, – ты прав, лучше не пугать её с первого раза.
Ровно в семь на экране ноутбука замигало окошко входящего вызова в «Мордокниге». Гриша мешком плюхнулся на стул рядом, подтолкнул меня локтем, и я нажал кнопку «Ответить».
В жизни София оказалась даже симпатичнее, чем на фотографиях. Тёмные, небрежно собранные волосы, тёплые карие глаза, чуть припухшие, будто от хронического недосыпа, – но в них, несмотря на усталость, светился живой ум. За её спиной угадывались бесконечные книжные полки и этюдник с незаконченной акварелью.
– Здравствуйте, София! – начал я, изображая на лице радушие голливудской звезды на благотворительном вечере. – Я Виктор, а это Григорий.
– Привет, София! – Гриша помахал в камеру, вышло чуть неловко, но искренне.
– Здравствуйте, Виктор, Григорий, – ответила она с лёгкой улыбкой. Голос у неё был приятный, с характерным петербургским «растягиванием» гласных. – Рада вас видеть.
– Мы тоже очень рады, – подтвердил я. – Спасибо, что согласились поговорить. Для нас это действительно важно.
– И для меня тоже, – кивнула София. – Так что… рассказывайте.
Я сделал глубокий вдох. Рассказал всё как на духу: про Гришино увлечение фотографиями шестидесятых; про мою случайную покупку в антикварной лавке – старый саквояж; про находку внутри – снимок группы людей в странных, почти инопланетных скафандрах. Про список фамилий на обороте, где «Зор-Зенин» было обведено красным. Про статью 1962 года о глубоководной экспедиции на Байкале, где мельком упоминался профессор Зор-Зенин. И про глухую стену, в которую мы упёрлись, пытаясь найти о нём хоть что-то ещё в открытых источниках.
В нужный момент, словно заправский ассистент фокусника, Гриша поднёс к камере ту самую фотографию. Сначала лицевую сторону – люди на фоне громадных валунов и тёмной воды, – а затем оборот.
– Вот, смотрите, София, – продолжил я. – Это она. Надпись: «Экспедиция «Байкал“, 1962 год». И список фамилий. Видите?
София наклонилась к монитору так близко, что её лицо заполнило весь наш экран. Брови её медленно поползли вверх.
– Да… вижу, – тихо произнесла она. – Фамилии… и среди них… Зор-Зенин… Да. Обведена красным… Почерк незнакомый… Но фамилия… Это не может быть совпадением…
В её голосе смешались изумление и робкая, почти испуганная надежда.
– Именно! – подхватил Гриша, заметно оживившись. – Фамилия редчайшая, время и место совпадают… София, мы уверены: один из этих людей – ваш дед. Александр Николаевич Зор-Зенин.
Она молча кивнула, не отрывая взгляда от экрана.
– Я… я никогда его не видела, – наконец выдохнула София, и в голосе её зазвучала лёгкая дрожь. – Даже не знаю, как он выглядит. Бабушка… никогда не показывала фотографий. Говорила, что их нет… не сохранились…
– София, вы в порядке? – осторожно спросил я.
– Да… просто… это так неожиданно, – она глубоко вздохнула. – Видеть эту… старую карточку… Странно и… волнующе.
– Мы понимаем, – сказал я как можно мягче. – Мы не хотели вас расстраивать. Просто история этой экспедиции и роль вашего деда в ней кажутся нам… необычайно интересными.
– Да, да, я понимаю, – перебила София, словно очнувшись. – Бабушка как-то упоминала… что-то про экспедицию… но очень туманно… Она всегда боялась об этом говорить.
– И больше ничего? Никаких деталей? – с надеждой вклинился Гриша.
София нахмурилась, пытаясь зацепиться за обрывки детских воспоминаний.
– Кажется, она говорила про какие-то… испытания… Вроде бы… не уверена… И ещё помню её фразу: «Это опасно, лучше не знать».
– Опасно? – переспросил Гриша. – Опасно знать о научной экспедиции? Что за ерунда?
– Вот именно! – подхватил я. – София, чем глубже мы копаем, тем больше странностей. О вашем деде практически нет информации. Словно некто могущественный и методичный намеренно вымарывал его имя из истории. Ни биографии, ни научных статей, ни воспоминаний коллег… Для учёного такого уровня это более чем подозрительно.
Она молча смотрела на нас, и в её глазах тревога смешивалась с растущим любопытством.
– Вы думаете, с ним что-то случилось? – тихо спросила она. – Что-то… плохое?
– Мы не знаем, – ответил я честно. – Но похоже, в СССР предпочли похоронить любое упоминание о нём и его байкальской экспедиции в самых дальних архивах. София, мы хотим докопаться до правды. И нам кажется, что без вас не обойтись. Может быть… нам стоит встретиться? Хотя бы для того, чтобы передать вам и вашей бабушке оригинал фотографии… обсудить всё лично…
София на мгновение закусила губу.
– Хорошо. Я согласна. Мне и самой теперь необходимо узнать правду о деде. Я покажу фотографию бабушке. Попробую её разговорить. Но не обещаю, что это будет легко. Она очень… закрытый человек.
– Мы всё понимаем, – сказал я с явным облегчением.
– Приезжайте, – почти прошептала она. – В субботу. Часа в два. Я пришлю адрес. Бабушка живёт на даче под Зеленогорском. Там есть чердак… возможно, там что-то осталось. Она никогда меня туда не пускала. Только… мне нужно будет её подготовить. Не уверена, что она обрадуется, но… я попробую.
– Конечно, – кивнул я. – Дайте знать.
– Хорошо, – ответила София уже более твёрдо. – Я напишу в чат после разговора. И… спасибо вам. За фотографию.
– Мы с нетерпением ждём встречи, София.
– До связи!
Экран погас. Я медленно закрыл крышку ноутбука. Мы с Гришей помолчали.
– Ну что, Витя? – нарушил тишину Гриша.
– Едем, Гриша, – кивнул я. – Кажется, наш антикварный саквояж оказался ящиком Пандоры.
***
Ожидание субботы превратилось в отдельное, довольно мучительное занятие. Время тянулось с вязкостью патоки. Гриша, забегавший ко мне ежедневно, без конца перепроверял рюкзак, где в прочной картонной коробочке покоился оригинал фотографии, а рядом, в файле, лежала его копия. Я же трижды изучил расписание электричек с Финляндского вокзала, боясь упустить какую-нибудь деталь.
Наконец, субботнее утро явило себя миру – хмурое, петербургское, с редкими прорехами бледного солнца. Нас это, впрочем, ничуть не смущало: внутри всё клокотало от предвкушения.
С Гришей мы встретились у касс вокзала в 11: 30. Купили билеты до Зеленогорска и, прихватив по стаканчику обжигающего кофе, устроились у окна в полупустом вагоне. Электричка тронулась, и за стеклом под мерный стук колёс поплыли серые городские окраины, постепенно уступая место заснеженным лесам и дачным посёлкам.
– Представляешь, Витя, – заговорщически понизил голос Гриша, – а вдруг на том чердаке не просто хлам, а целый сундук с бумагами Зор-Зенина? Дневники, чертежи, записи об экспедиции! Или даже… – он мечтательно закатил глаза, – какие-нибудь артефакты! Камни с Байкала!
– Камни с Байкала? – усмехнулся я, отхлёбывая кофе. – Гриша, твоя фантазия работает на ином топливе, нежели моя. Хотя… если там действительно что-то найдётся, обещаю, я первый полезу разбираться. Но меня больше волнует бабушка. Вдруг она нас и на порог не пустит? Или, чего доброго, выгонит с криком: «Шпиёны проклятые! »?
– Да брось, – отмахнулся Гриша. – София же сказала, что подготовит её. А София – девчонка с характером, я по глазам вижу. Если понадобится, она нас в дом контрабандой протащит.
Я хмыкнул, живо вообразив, как хрупкая София затаскивает наши тушки через окно, пока грозная старушка потрясает скалкой. Настроение от этой картины сделалось ещё лучше.
– Главное, чтобы бабушка не оказалась из тех, кто при виде незнакомцев сразу набирает 02, – добавил я.
– Ну, на крайний случай представимся учёными, – подмигнул Гриша. – Археологи-любители. Звучит солидно.
– Где-то я это уже слышал, про археологов.
Электричка неслась вперёд, постукивая на стыках рельсов. За окном мелькали сосны и нахохлившиеся от холода станции с деревянными платформами. В Зеленогорске мы вышли на перрон в 13: 15. Морозный воздух ошпарил лицо. Сверяясь с присланным Софией адресом, мы двинулись вглубь посёлка.
Минут через двадцать, попетляв по узким улочкам с высокими заборами, мы вышли к аккуратному двухэтажному дому с резными наличниками. У калитки нас уже ждала София – в длинном тёмно-синем пальто и объёмном вязаном шарфе.
– Привет! – улыбнулась она. – Вы точно вовремя. Бабушка… ну, в общем, она согласилась. Но предупреждаю: она женщина строгая и… не жалует посторонних.
– Мы будем на высоте, – заверил её Гриша, похлопав по рюкзаку.
София кивнула и повела нас к крыльцу. Дверь отворилась, и на пороге возникла она – Анна Павловна. Высокая, сухопарая, с идеально прямой спиной, она словно сошла с экрана старого советского фильма об интеллигенции. Седые волосы аккуратно собраны в низкий пучок, а пронзительные серо-голубые глаза смотрели на нас не то чтобы враждебно, но с отчётливой настороженностью исследователя, разглядывающего под микроскопом пару незнакомых инфузорий. На ней был тёмный шерстяной костюм, а на плечи накинут тонкий шёлковый платок – деталь, подчёркивавшая её сдержанную, вневременную элегантность.
– Здравствуйте, – произнесла она низким, чуть скрипучим голосом. – Вы, значит, и есть те самые молодые люди, что интересуются Сашей?
– Здравствуйте, Анна Павловна, – я постарался улыбнуться как можно обаятельнее. – Я Виктор, это Григорий. Спасибо, что согласились нас принять.
– Да уж, София настояла, она кого хочешь уговорит… – Анна Павловна чуть прищурилась, продолжая нас изучать. – Проходите. Холодно стоять.
Мы переглянулись, стряхнули с ботинок снег и шагнули в дом, где пахло сухим деревом, старыми книгами и чем-то травяным. Анна Павловна жестом указала на вешалку и повела нас в гостиную, где на столе уже дымился чайник и стояла тарелка с плюшками. София семенила рядом, бросая на бабушку быстрые, оценивающие взгляды.
– Присаживайтесь, – велела Анна Павловна, усаживаясь в старое кресло напротив. – И рассказывайте, что вас привело. Только, пожалуйста, без лишней воды. Я этого не терплю.
***
– Чая без воды не бывает, – сказала София, улыбаясь. – Давайте сначала чаю попьём, с плюшками. А уж потом и расскажете.
Анна Павловна молча кивнула, одобряя манёвр внучки. Нам с Гришей оставалось лишь послушно усесться за стол. София разлила по чашкам дымящийся напиток. Чай оказался на удивление хорош: крепкий, с терпким ароматом смородинового листа и едва уловимой ноткой мяты. А плюшки были ещё тёплыми, с соблазнительно хрустящей корочкой.
Пока мы пили чай, разговор сам собой переключился на Зеленогорск. Гриша с неподдельным восторгом хвалил свежий воздух и тишину, мол, в городе такого не сыскать. Я добавил, что погода сегодня, хоть и пасмурная, но для февраля вполне сносная. Анна Павловна, отхлебнув чаю, заметила, что зимы здесь раньше были куда суровее, но дом, вот этот, с верандой, слава богу, держит тепло даже в лютые морозы.
– Хорошо у вас тут, Анна Павловна, – сказал я, стараясь поддержать эту хрупкую атмосферу мира.
– Место и правда хорошее. Муж мой, Александр Николаевич, получил этот участок ещё в начале шестидесятых. За одно важное открытие… Тогда учёных ценили, – в голосе её прозвучала едва уловимая нотка горечи. – Он любил здесь работать. Жаль, что так недолго…
Голос её дрогнул. София тут же участливо накрыла её руку своей. Старушка на мгновение замерла, а затем, словно собравшись с силами, решительно поставила чашку на блюдце и в упор посмотрела на нас. Пауза затягивалась. Пора было переходить к делу.
Я вынул из рюкзака картонную коробочку и осторожно извлёк оттуда старую фотографию. Протянул её Анне Павловне.
– Анна Павловна, мы наткнулись на эту фотографию совершенно случайно. На обратной стороне был список фамилий, и «Зор-Зенин» обведено красным.
Она приняла фотографию дрожащими руками. Её лицо, до этого непроницаемое, как маска, дрогнуло. Уголки губ опустились, а в серо-голубых глазах блеснуло что-то похожее на давнюю, застывшую боль. Она долго всматривалась в пожелтевшую карточку, не отрывая глаз.
– Да… Саша… – наконец, тихо проговорила она. – Крайний справа… Это он… молодой ещё… Я его таким и помню… Давно это было…
– Весной шестьдесят второго года, – продолжила Анна Павловна после долгой паузы, – он уехал в экспедицию. На Байкал. Сказал, что будут испытывать новые скафандры… для глубоководного погружения… Про какие-то исследования говорил… Только и всего. Никаких подробностей. Всё, мол, очень секретно. «Вернусь – всё расскажу», – обещал. Но не вернулся… Через две недели просто пришло извещение: пропал без вести во время испытаний. И всё.
Она замолчала.
– Никаких документов, никаких фотографий не осталось. Почти ничего… Потому что… – её голос снова предательски дрогнул, – потому что почти сразу после известия о его исчезновении нашу дачу ограбили. И пытались поджечь. Еле отстояли.
– Единственное, что уцелело, – записка от него. Его товарищ в экспедиции сломал ногу. Его отправили обратно в Ленинград, я навещала его в больнице, и он передал мне эту записку. Сказал, чтобы прочла и немедленно уничтожила. А я не смогла. Это всё, что от Саши осталось.
Она медленно поднялась, подошла к старому книжному шкафу и выдвинула ящик комода. Через мгновение вернулась, держа в руках маленький, сложенный вчетверо и пожелтевший от времени листок.
– Вот, – тихо сказала она. – Читайте. Может, вам это что-нибудь скажет.
Я осторожно развернул хрупкую бумагу. На ней неровным, торопливым почерком было выведено синими чернилами:
Дорогая Анечка!
Я на Байкале. Мы отправились сюда, чтобы изучать геологию озера и его подводный рельеф, – такова официальная версия. Но ты же знаешь, как много загадок таят эти древние глубины, особенно связанных с событиями начала века.
И вот, представь себе: во время работы мы наткнулись на нечто невероятно ценное. Это не просто находка – это то, что считалось навсегда утерянным. То, что может осветить те страницы истории, о которых сейчас говорить не принято. Мы и сами не ожидали, что научная экспедиция обернётся таким открытием.
Не волнуйся, если от меня долго не будет вестей. Ты понимаешь – дело серьёзное, а связь здесь оставляет желать лучшего. Все подробности – только при встрече, обещаю.
P. S. Но знай: некоторые открытия опаснее, чем кажутся на первый взгляд. Если кто-то будет расспрашивать, говори просто: я в обычной экспедиции. Так спокойнее для всех.
Жди меня. Целую.
Твой всегда, Саша.
12 апреля 1962 года
Я дочитал и поднял глаза.
– После… после ограбления, – начала она глухим голосом, – ко мне приехали… какие-то люди. Не знаю, откуда. Форма на них была… военная, что ли… И с ними… – она замялась, – с ними был… высокий такой… в штатском. Видно было, что большой начальник. Сказал, что… курировал Сашину экспедицию.
Она сделала паузу, собираясь с мыслями.
– Он сказал, что мне лучше… забыть обо всём этом. Ничего не искать, ни о чём не спрашивать. Совсем. Сказал, что это для моей же безопасности. И для безопасности… семьи. Сказал, как только что-то станет известно, он сам со мной свяжется. Но… больше он не появлялся. Ни разу.
– Фамилию его вы не знаете? – осторожно спросил Гриша.
Анна Павловна отрицательно покачала головой.
– Нет. Он не представился. Только сказал… что из Москвы. Из ЦК КПСС… кажется, так.
– Угу, – Гриша, до этого молчавший, решительно кивнул, достал из рюкзака ноутбук и поставил его на стол.
– Анна Павловна, а если… в лицо вы его сможете узнать? Если мы покажем фотографию?
Она на секунду задумалась.
– Думаю, да. Времени, конечно, уйма прошла… Но лицо… лицо я помню. И взгляд… ледяной.
Гриша быстро застучал по клавиатуре и развернул экран к Анне Павловне. На мониторе замелькали лица. Старые чёрно-белые снимки. Члены Политбюро, министры, генералитет – вся советская верхушка. Гриша листал. Анна Павловна, чуть склонив голову, вглядывалась в экран. Тик-так, тик-так… – отсчитывали секунды ходики. Я уже решил, что затея провалилась, как вдруг…
– Вот! – её палец ткнул в экран. – Вот он! Этот!
Мы с Софией одновременно подались вперёд. На экране был мужчина с жёсткими, властными чертами лица и пронзительным взглядом холодных глаз. Подпись под фотографией гласила: «Павел Игнатьевич Стальский, член ЦК КПСС, 1957–1965 гг. ».
Мы покинули дачу Анны Павловны поздно вечером, когда зимние сумерки уже плотно окутали Зеленогорск. Всю дорогу до станции молчали, каждый переваривая услышанное. Лишь в валком тепле электрички София нарушила тишину:
– Нам нужно ещё раз встретиться и всё обсудить. У меня, в городе. Через несколько дней. В среду, например.
Мы с Гришей переглянулись и одновременно кивнули.
– Запишите адрес.
***
Дым из паровозной трубы – словно выдох неведомого чудища – расползался по лесу, цепляясь за косматые еловые лапы. Глушь, в которой и леший дорогу спросит. Верстах в двадцати от основной сибирской магистрали, под Иркутском, на прогалине, где, видать, лесорубы когда-то балаганы ставили, замер товарняк в три теплушки. Откуда взялся, куда путь держит – тайна. Лишь чугунные, скрипучие колёса с потемневшими от смазки ободами, да пар, да едва уловимый запах машинного масла выдавали в нём жизнь, а не призрачное видение.
Солнце, плоское, как медный пятак, катилось к горизонту, отбрасывая от сосен-великанов косые, вытянувшиеся тени. Воздух – густой, смолистый, пахнущий хвоей и прелой листвой. Тишина. Только дятел отбивал где-то свою дробь да ветер шептался в вершинах.
Из теплушек, точно жуки из рассохшихся щелей, стали выбираться люди – десяток бойцов. Одежда – кто во что горазд: гимнастёрки, рваные шинели, галифе, картузы да фуражки без знаков различия. Но во всём – в выправке, в цепком, изучающем взгляде – угадывался человек военный. Лица обветренные, суровые; улыбка, если и появлялась, походила скорее на волчий оскал.
Старший, Ерофей Петрович Белов, коренастый мужик с усами щёточкой, спрыгнул на землю, огляделся. Шинель на нём добротная, сапоги яловые, на кожаном ремне – кобура. Сразу видно: не из последних.
Достал кисет, скрутил цигарку. Табак – едкий самосад, другого не водилось. Дым сизой струйкой поплыл кверху, смешиваясь с паром от локомотива.
– Ну, полно лясы точить, – прервал он негромкий говор. – Васильев, командуй разгрузкой. Да смотри, чтоб целёхоньки были. Понятно?
– Так точно, Ерофей Петрович! – откликнулись вразнобой.
– Григорьев! – позвал Белов. – Пройдись-ка по округе. Чтоб ни одна душа… Ежели что – действуй ножом.
– Понял, товарищ Белов, – козырнул молодой красноармеец и тенью растворился в лесу.
Васильев, жилистый парень с веснушками на носу, и Петренко, детина с ручищами-кувалдами, подскочили к вагону. Загремели засовы, со скрипом отъехали тяжёлые двери. Изнутри пахнуло затхлостью.
– Ого-го! – присвистнул Васильев, заглядывая в полумрак. – Ящички-то! Цельный вагон!
– Не зевай, Васильев, – рявкнул Ерофей Петрович. – Не на ярмарке. Работайте!
Из вагона начали вытаскивать ящики. Деревянные, окованные железом, – мертвецкой, каменной тяжести. На каждом чёрной краской выведено: «Груз Особой Важности. Вскрытию не подлежит». Двое едва справлялись с одним. Кряхтели, пыхтели, пот катился градом.
– Эх, и тяжесть! – просипел Петренко, о́хая, ставя ящик на землю. Тот глухо стукнул, подтверждая вес содержимого.
– Осторожнее с добром-то! – прикрикнул Ерофей Петрович, не сводя с них глаз. – Не дрова везём! Беречь как зеницу ока!
Ящики один за другим вырастали на прогалине в угловатую, молчаливую гору. Белов огляделся: солнце почти скрылось, тени сосен вытянулись, точно когтистые лапы хищников. В лесу зашумел ветер, тревожный и настойчивый.
Паровоз с опустевшими вагонами дрогнул и, пыхнув на прощание, медленно тронулся с места, растворяясь среди деревьев. На поляне воцарилась тишина.
Ерофей Петрович оглядел проделанную работу. Вроде ладно. Только вот подвод всё нет. Задержались, что ли? И Григорьев куда-то запропастился.
– Послать бы гонца, Ерофей Петрович, – предложил боец по прозвищу Мохнач, подходя ближе. – Узнать, чего там.
– Послать-то можно, да кого? – Белов потёр подбородок, вглядываясь в темнеющий лес. – Все при деле. Да и ночь на носу. В лесу темнеет – как в погребе. Заплутает гонец.
– Я могу, – шагнул вперёд Васильев. – Я дорогу найду. Не впервой по лесам шастать.
Ерофей Петрович смерил его взглядом. Парень молодой, горячий, но смелый. Пожалуй, сдюжит.
– Ладно, Васильев, – решил командир. – Ступай. Да смотри, не заблудись. И живо назад. А мы тут обождём.
Васильев кивнул, подхватил винтовку, перекинул через плечо и шагнул в лесную чащу. Белов проводил его взглядом. Сердце неприятно ёкнуло. Не к добру эта задержка. Ох, не к добру…
Темнело стремительно. Лес ожил ночными звуками: ухнул филин, заскрипели сосны.
Люди разожгли костёр. Затрещал валежник, взметнулось пламя, озаряя поляну трепещущим красноватым светом. Уселись вокруг, достали немудрёную снедь: хлеб, сало, лук. Жевали молча, усталые и голодные.
– Долго ещё ждать-то? – спросил Петренко, широко зевая.
– Скоро будут, – ответил Ерофей Петрович, не отрывая взгляда от огня. – Не впервой. Революция – это тебе не сало жевать да кипятком запивать. Тут терпение надобно.
Вдруг неподалёку отчётливо хрустнула ветка. Все как по команде замерли. Белов выхватил наган, вглядываясь в темноту. Тишина звенела в ушах.
– Свои! – раздался шёпот, и из кустов, тяжело дыша, вывалился Григорьев.
– Напугал, чёрт! – Ерофей Петрович сунул наган обратно в кобуру. – Ну, чего там?
– Товарищ командир, вёрст за пять отсюда – разъезд. Там патруль, человек шесть. Но в нашу сторону не суются. Васильев сейчас подводы приведёт. Встретил их.
Вскоре из-за деревьев и впрямь вынырнула вереница подвод. Возницы – мужики в армяках, с лицами серыми, как земля, – остановились в десяти шагах, не решаясь подъехать ближе. Лошади фыркали, переступали с ноги на ногу, и пар от их ноздрей белыми клубами поднимался в стылом воздухе.
– Чего стали? – рявкнул Белов. – Аль языки проглотили?
– Товарищ начальник… – замялся седой мужик, сжимая вожжи. – Мы это… мы как велено. За солью приехали.
– Солью? – Белов усмехнулся, счищая сапогом ком грязи. – Ну да, соль. Да сахар напополам с порохом. Живо грузиться, пока белые не пронюхали!
Мужики переглянулись, но спорить не посмели. Щёлкнув вожжами, подкатили подводы. Заскрипели колёса, захрапели лошади, чуя предстоящую работу.
Споро раскидали сено, готовя место. По испуганным взглядам возниц было ясно – не по своей воле они здесь.
Красноармейцы принялись таскать ящики. Укладывали бережно, перестилая соломой. Петренко, красный от натуги, зычно командовал:
– Да не так, раззявы! Вот сюда, в угол! И верёвками крепче вяжите!
Ерофей Петрович наблюдал, нервно покусывая ус. Время поджимало.
– Шевелись, ребята! – прикрикнул он. – До рассвета на месте быть надо!
Васильев, пыхтя, волок очередной ящик. Поскользнулся на влажной траве, едва не выронив груз.
– Твою мать! – выдохнул он сквозь зубы.
– Аккуратнее! – прошипел Белов. – Хоть один повредите – с нас головы снимут!
Один из деревенских, бородатый старик в драной шапке, набрался смелости:
– Что-то тяжеловато для соли-то, начальник?
Белов смерил его тяжёлым взглядом.
– Меньше знаешь – крепче спишь, отец. Вози, что велено, и помалкивай.
Старик испуганно закивал и попятился. Погрузка продолжалась. Ящики громоздились на телегах, опасно кренясь. Бойцы обвязывали их верёвками, пробуя узлы на крепость. Наконец последний ящик, укрытый сеном, занял своё место.
– Готово, товарищ Белов! – доложил Петренко, утирая пот со лба.
Ерофей Петрович окинул взглядом караван и кивнул:
– Добро.
Он задумчиво пригладил усы, глядя в темнеющий лес. Достал из кармана шинели потрёпанную карту, развернул, вглядываясь при свете костра в карандашные пометки.
– Теперь в путь. Мохнач, бери троих, пойдёте головным дозором. Васильев с Петренко – в хвост колонны. Остальные – по подводам. И помните: груз должен дойти любой ценой. И чтоб ни звука! Кто болтнёт – пулю в лоб.
***
Обоз тронулся. Лошади, чуя тяжесть, шли медленно, с натугой. Колёса поскрипывали, увязая в мягком мху. Ветви то и дело хлестали по лицам. Тьма сгустилась, плотная как дёготь. Лес обступил со всех сторон – чёрный, тревожный, дышащий. Пахло прелью и грибами – запах сырой, древний.
Ерофей Петрович шагал рядом с последней подводой, вглядываясь в едва различимую тропу. Голову ломило от напряжения: не сбиться бы, не заплутать в этой чёртовой глухомани.
– Тише! – вдруг прошипел из темноты Мохнач, вскидывая руку.
Обоз замер. Люди затаили дыхание. Где-то впереди треснула ветка. Потом ещё одна. Ухнула и смолкла сова. Красноармейцы крепче сжали винтовки, кто-то осторожно взвёл курок. Мужики на подводах вжали головы в плечи.
Минута тянулась вечность. Наконец Мохнач махнул рукой:
– Зверь какой-то. Идём.
Возница на головной телеге чмокнул, прошептал: «Пошла, залётная! » – и дёрнул вожжи. Лошадь фыркнула, скрипнула упряжь, и обоз снова двинулся вперёд.
С веток капало – холодные капли то и дело затекали за шиворот. Ерофей Петрович поднял воротник шинели.
Григорьев бесшумно поравнялся с командиром.
– Разрешите обратиться, товарищ Белов, – прошептал он, едва шевеля губами.
– Ну? – буркнул Ерофей Петрович.
– А что в ящиках-то?
Белов покосился на парня, и тому показалось, что он видит его взгляд даже в полной темноте.
– Это не твоё дело, – процедил он. – Приказано доставить – доставим. Понял?
– Так ведь… – замялся Григорьев, кивнув в сторону подвод. – Говорят, на этой дороге банда шалит. Ежели нарвёмся…
– Страшно? – усмехнулся Белов. – Так вот и бойся втихомолку, а языком не мели. Пуля – дура, но разбирает, кто болтун, а кто молчун. Молчуны дольше живут.
Григорьев сглотнул.
– Да это я понимаю… Просто, если что случится, хоть знать бы, за что головы кладём.
Ерофей Петрович приостановился, так что молодой боец едва не налетел на него в темноте. Оглянулся на едва различимый в сумраке караван и совсем тихо, почти вкрадчиво, сказал:
– Слыхал про Бакинские промыслы? Там нефть качают. А здесь, в тайге, другая нефть. Живая. Кровь революции. Понял? Нет? И не надо. Иди на свой пост. Глаза держи открытыми. Ухо востро.
Григорьев молча козырнул и отступил в тень. А Белов достал кисет, но закуривать не решился – огонёк в ночи виден далеко. Сунул щепотку табака за губу и стал жевать горький лист.
Продвигались медленно. Лошади устали, выбивались из сил. Дорога становилась всё хуже – колеи, ухабы, вывороченные корни, торчащие из земли, как пальцы лешего. Мужики на подводах горбились серыми тенями, красноармейцы на взводе рыскали стволами по сторонам.
В тайге даже ночью не утихала жизнь. То филин заухает, то зверь пробежит, ломая валежник. Однажды над лесом прокатился волчий вой – близко, тоскливо. Лошади заржали, запрядали ушами. Пришлось останавливаться, успокаивать.
– Ерофей Петрович, – подошёл Петренко. – Люди устали. Может, привал?
– Какой привал? – прохрипел Белов. – До рассвета надо быть у Байкала. А это ещё полпути. Нет, идём.
Петренко вздохнул и вернулся к своей подводе. Обоз полз дальше. Тайга обступала, душила темнотой. Даже звёзд не видать – кроны сплелись над головой плотным пологом.
Вдруг головная подвода встала. За ней, как костяшки домино, замерли остальные. Ерофей Петрович, мысленно выругавшись, бросился вперёд.
– Что стряслось? – прошипел он, подбегая к Мохначу.
– Дорогу завалило, мать-перемать, – указал тот рукой.
И верно: поперёк тропы лежала огромная сосна. Ни проехать, ни объехать – по сторонам такой частый лес, что и пешему не продраться.
– Бурей повалило? – спросил Белов, осматривая преграду.
– Не похоже, – качнул головой Мохнач. – Спил свежий. Вон, смолой пахнет.
Ерофей Петрович наклонился – и точно, белёсая древесина светилась в темноте. Внутри всё похолодело.
– Засада?
Мохнач пожал плечами.
– Может. А может, мужики с деревни на дрова лесину свалили, да вывезти не сподобились. Или «зелёные» балуют.
Белов огляделся, вслушиваясь в ночь. Тихо. Только ветер в вершинах да капель. Медлить нельзя.
– Оттаскиваем, – скомандовал он. – Васильев, Петренко, Григорьев – все сюда! И мужиков с подвод снимите. Живо!
Собрались быстро, облепили сосну как муравьи. Ствол тяжёлый, смолистый, с острыми сучьями. Ерофей Петрович скинул шинель, закатал рукава.
–Насчёт «три»! – скомандовал он. – Раз, два… взяли!
Дружно крякнули, навалились. Жилы вздулись на шеях, лица побагровели. Сосна дрогнула, но не сдвинулась.
– Ещё раз! – прохрипел Белов. – Взяли!
Снова удар плечами, утробный стон, упирающиеся в скользкий мох сапоги. Пот заливал глаза, а проклятая сосна – хоть бы на вершок.
– Перерубить нужно, – предложил Петренко, тяжело дыша.
– Нельзя, – отрезал Белов. – Шум на весь лес. Если кто рядом – сразу себя обнаружим.
Люди тревожно переглядывались. Застряли.
– Топор есть у кого? – спросил вдруг Белов. – Сучья обрубим, легче станет.
Топор нашёлся у одного из возниц. Тихо, стараясь не греметь, обрубили самые крупные ветви. Снова взялись за ствол – всем миром, матерясь шёпотом.
И сосна поддалась. Медленно, неохотно поползла в сторону, царапая землю и оставляя глубокую борозду. Лица исказились от натуги, рубахи прилипли к взмокшим спинам. Ерофей Петрович, упираясь плечом в смолистую кору, думал лишь об одном: не привлечь бы внимания.
Наконец образовался просвет. Узкий, подвода едва протиснется, но проехать можно. Люди повалились на землю, обессиленные, хватая ртами воздух.
– Передышка пять минут, – прохрипел Ерофей Петрович, вытирая пот рукавом. – Перекурить – в рукав. И трогаем.
Он глянул вверх. В редком прогале между кронами уже бледнела ночная синь. Близился рассвет.
***
Григорьев, крякнув, отошёл к обочине – натёрла проклятая портянка. Присел на стылый валун, стянул сапог, с наслаждением пошевелил затёкшими пальцами.
Тенью вырос рядом Петренко. Примостился, достал кисет, принялся сноровисто, но с едва заметной дрожью в пальцах – и дрожь эта была не от ночного холода – сворачивать цигарку.
– Что тебе наш комиссар наплёл? – голос Петренко был сухим шелестом, едва слышным за стрёкотом кузнечиков. – Про нефть, кровь революции?
Григорьев молча кивнул, настороженно покосившись на Белова, который темнел недвижной глыбой в десяти шагах, отдавая тихие распоряжения.
– Брешет, – сплюнул Петренко табачную крошку. – Всё брешет. Мужикам – про соль. Тебе – про нефть. А там золото. Понимаешь? Золото.
Григорьев вздрогнул.
– Откуда знаешь?
– Я ж не слепой, – хмыкнул Петренко. – В Омске, помнишь, к погрузке и близко не подпустили? Тот хлыщ в кожанке, с Маузером на боку: «Не подходить! Стоять в стороне! »
Петренко придвинулся, заговорщицки понизив голос:
– И вес. Ты сам подумай: разве соль столько тянет? А нефть и вовсе вода водой. Я же, когда ящик волок, углом его приложил. Звякнуло, брат. Так только оно звякает. Золото. Я этот звук знаю.
В темноте глаза Петренко по-волчьи блеснули зелёным огнём. Григорьев поёжился.
– Ну и что с того? Нам велено доставить – мы доставим.
– Эх ты… верный пёс, – с горькой усмешкой покачал головой Петренко. – А что она тебе дала, революция-матушка? Пайку, портянки да вшивую шинель? Мы за неё сколько крови пролили?
Он оглянулся и наклонился к самому уху Григорьева:
– Слыхал про Харбин? Город такой есть, в Маньчжурии. Наши там живут – и никакой тебе коммуны. Домик. Садик. Яблони цветут, пчёлы гудят… А вечером сидишь на веранде, чай пьёшь. По-человечески. Как господа жили, так и мы зажить можем.
Григорьев нервно облизал вмиг пересохшие губы.
– Ты к чему клонишь?
– К тому, что свою долю мы заслужили, – в голосе Петренко зазвучала сталь. – Отдали ей лучшие годы. Пора и для себя пожить.
– С ума сошёл! – побледнев, выдохнул Григорьев. – Это ж стенка…
– Тише ты! – зашипел Петренко, цепко хватая его за рукав. – Кто узнает? Всего-то по слиточку. Революция от этого не обеднеет.
– Да как его взять? – Григорьев дёрнул подбородком в сторону обоза. – Там ящики-то… печать, охрана…
Петренко хитро сощурился.
– А вот это, друг, моя забота. На третьей подводе, крайний справа ящик, видишь? – он едва заметно кивнул в темень. – Доска у него слабая, я ещё при погрузке заприметил. Чуть поддеть ломиком – и наш.
Григорьев прерывисто вздохнул.
– А если заметят?
– Не заметят, – отрезал Петренко. – При разгрузке такая суматоха поднимется… Я своё дело сделаю, ты только на стрёме постой, прикрой, если что.
Он наконец прикурил, и пляшущий огонёк на миг выхватил из мрака его обветренное, изрезанное морщинами лицо.
– Ну как? – спросил он, выпуская в стылый воздух колечко дыма. – Со мной?
Григорьев молчал, бездумно теребя медную пуговицу на шинели. Посмотрел на бездонное, усыпанное колкой звёздной пылью небо, на чёрные силуэты сосен. И, сам от себя не ожидая, коротко кивнул.
– С тобой.
– Вот и славно, – Петренко с неожиданной силой хлопнул его по плечу. – Два слитка – и мы с тобой снова люди. Новую жизнь начнём.
– А вдруг там не золото? – уцепился Григорьев за последнюю соломинку сомнения. – Вдруг…
– Золото, – твёрдо перебил Петренко. – Я этот звон ни с чем не спутаю. Ящик тот я нарочно с краю поставил, чтоб сподручнее было. Ты главное по сторонам гляди, когда я знак подам. И не дрейфь. Прорвёмся.
Он затушил цигарку о каблук, растёр окурок в пыль. И кривая усмешка тронула его губы.
– А знаешь, что самое занимательное? – прошептал он. – В Омске, когда грузили, я ухватил обрывок разговора. Тот самый, в кожанке, своему помощнику: «Один такой слиток, – говорит, – и полк можно год кормить». Представляешь масштаб?
У Григорьева от волнения пересохло во рту. Он почти физически ощутил в ладонях холодную, невыносимую тяжесть слитка, и сердце гулко ударило в рёбра.
– По местам! – донёсся строгий шёпот Белова, и оба вздрогнули. – Двинули! Скоро рассвет!
Петренко поднялся, отряхнул с коленей пепел.
– Не забудь: третья подвода, ящик с краю. И молчи.
Он пошёл к своему месту, привычно сутулясь, растворяясь в полумраке. А Григорьев всё сидел на корточках, мертвенно вцепившись в сапог, и не мог подняться. Что-то внутри него хрустнуло и надломилось, как пересохшая ветка под ногой. «Харбин… домик с садом…» – стучало в висках. И мысль эта уже не казалась предательством. Нет. Она казалась… справедливостью.
***
Скрип колёс и похрапывание лошадей нарушали сонную тишину тайги. Обоз медленно вползал в лесную теснину, когда справа, из густого ельника, ударил хлёсткий, как щелчок бича, звук – выстрел. Красноармеец, шедший впереди Белова, коротко ахнул и мешком повалился набок, глухо стукнувшись головой о колесо подводы.
– К бою! – выкрикнул Белов, и его голос утонул в грохоте.
Тайга огрызнулась десятком злых огоньков. Между деревьями замелькали неясные тени, кто-то закричал долго, по-звериному. Лошади испуганно заржали, вздымаясь на дыбы. Ерофей Петрович, упав на колено за телегой, уже выцеливал.
– Слева обходят! – надсадно крикнул Мохнач, с лязгом передёргивая затвор.
Пуля с визгом впилась в дощатый борт в вершке от руки Белова, выбив ворох щепок. Он грязно выругался и перекатился под днище. Отсюда, из-под колёс, были видны лишь сапоги и лапти, мельтешившие в подлеске. Выстрелил наугад – вскрик.
– Васильев, правый фланг! – прохрипел Белов.
Тишина в ответ. Выглянув на мгновение, он увидел перекошенное, уже чужое лицо Васильева – тот зажимал ладонью шею, из-под пальцев била тёмная, густая кровь. Рухнул навзничь, неловко, как сломанная кукла.
На одной из подвод заголосил мужик-возница:
– Пропали, братцы! Пропа-а-али!
– Заткнись! – рыкнул Белов, торопливо перезаряжая барабан нагана. – Григорьев, где тебя носит? !
– Здесь я! – донеслось откуда-то сзади, и тут же невдалеке гулко ухнуло – граната. Земля содрогнулась, в лицо пахнуло гарью и горячим воздухом. Лошадь в головной упряжке обезумела, рванулась вперёд, тараня кустарник и выворачивая телегу набок. Обитые железом ящики с глухим стуком посыпались в грязь.
Из мрака вынырнула широкая фигура с обрезом наперевес, с лицом, замотанным тряпкой. Белов выстрелил почти в упор. Бандит отшатнулся, схватился за живот, но устоял на ногах. Второй выстрел – и тот тяжело завалился набок.
– Товарищ командир, отходим! – заорал Петренко, отстреливаясь от теней, наседавших справа. – В клещи берут!
Белов огляделся – западня. Впереди и справа – огонь, слева – непролазная чаща. Только назад. Он высадил последние две пули в сторону мелькающих у деревьев фигур.
– Отходим к третьей подводе! – скомандовал он. – Григорьев, прикрывай!
Сзади страшно захрипела лошадь, потом раздался мокрый, тяжёлый стук. Мужик-возница с первой подводы, тот, что голосил, заорал дурным голосом и бросился в кусты. Не пробежал и трёх шагов – заряд картечи из обреза распорол ему спину.
– Прорываемся! – рявкнул Белов, выхватывая из-за голенища финку. В темноте, в сполохе выстрела, мелькнуло лицо бандита – совсем молодого, с тонкими усиками и испуганно-злыми глазами. Белов, не раздумывая, ударил снизу, коротко и зло, под самые рёбра. Лезвие вошло по гарду. Бандит выдохнул, схватил его за предплечье, вглядываясь в лицо Ерофея Петровича с непонятным удивлением, дёрнулся и обмяк, заливая кровью его шинель.
Вокруг третьей подводы кипел короткий, яростный бой. Мохнач, взревев, орудовал винтовкой как дубиной, размашисто и страшно. Когда один из нападавших вцепился ему в горло, Петренко, подскочив, молча всадил штык между лопаток.
– Лошадь! Хватайте под уздцы! – крикнул Белов, запрыгивая на облучок и перехватывая вожжи. – Григорьев, сюда!
Бледный, с трясущимися губами Григорьев швырнул в темноту последнюю гранату и одним прыжком, почти неправдоподобно лёгким, взлетел на телегу.
– Гони! – заорал Мохнач, хватаясь окровавленными руками за борт.
Белов хлестнул лошадь, заорав дико, по-разбойничьи. Животное рванулось с места с такой силой, что телегу едва не опрокинуло. Они неслись сквозь кустарник, ломая ветки, ныряя в спасительную темноту. Сзади гремели выстрелы, кто-то визжал тонко и страшно. Петренко, вцепившись в боковой ящик, шипел сквозь зубы:
– Давай, родная, давай! Уходим!
Деревья мелькали, ветки хлестали по лицу. Григорьев свалился на дно телеги и лежал там, скрючившись. Белов гнал и гнал, пока выстрелы не заглохли вдали.
– В чащу, – прохрипел Мохнач, зажимая плечо. – Туда сунутся – чёрта с два найдут.
Белов рванул вожжи влево. Ветви сомкнулись над головой, царапая лица. Продирались сквозь бурелом, пока измученная лошадь не встала как вкопанная, тяжело дыша и закатывая белки глаз.
– Стой, – выдохнул Белов. – Приехали.
Глухая, мёртвая тишина. Лишь капель с веток да тяжёлое, рваное дыхание четырёх человек. Спешились. Вокруг – сплошная стена деревьев, ни клочка неба, ни лунного света.
Петренко сплюнул кровью.
– Гады… Почти всех положили…
– А ты как хотел? – процедил Белов, оттирая с лица липкую, быстро остывающую кровь. Ладонь саднила – рассечена чем-то острым. – Классическая засада. Деревце поперёк дороги, а пока мы ковыряемся, они берут в кольцо.
Григорьев сидел на сырой земле, обхватив голову руками. Его била крупная дрожь.
– Эй, боец, – Белов тронул его за плечо. – Ранен?
Тот лишь мотнул головой. Белов протянул ему флягу.
– На, глотни. Спирт.
Григорьев вцепился в неё, отпил, закашлялся.
– Тише ты! – зашипел Мохнач, испуганно оглядываясь. – Услышат.
– Кто тут услышит, – буркнул Петренко, присаживаясь и начиная разматывать портянку. – Им сейчас добычу делить надо. До утра не сунутся.
Белов подошёл к телеге, провёл ладонью по мокрым ящикам.
– Десять. Десять уцелело. Остальные… – он не договорил.
Петренко странно хмыкнул.
– Потеряли, значит? Что ж… не всё потеряно.
– Ты чего там бормочешь? – Мохнач глянул на него с подозрением.
– Говорю, хоть что-то спасли, – пожал плечами Петренко, поморщившись от боли в ране. – Не с пустыми руками возвращаться.
Они замолчали. Лошадь фыркнула, переступила с ноги на ногу. Где-то высоко над головой шумел ветер, но здесь, внизу, было тихо, как в склепе.
– Надо решать, – Белов сел на поваленный ствол, положив наган на колени. – Нас четверо. У меня с Мохначом по паре обойм на брата. Харчей – кот наплакал. Назад нельзя, их там вдесятеро больше. Значит, надо к Байкалу пробиваться.
– Переждать надо, – сказал Мохнач, прислонившись к дереву. – До рассвета. По-светлому виднее будет.
Петренко покачал головой.
– С рассветом искать будут. Из-за этого, – он кивнул на ящики. – Золото ведь.
Белов резко повернулся.
– Кто сказал?
– Да полно, товарищ командир, – усмехнулся Петренко. – Не дети малые. Ящики оцинкованы, вес такой, что пуп развяжется. И охрана… Не соль же мы везём, в самом деле.
– Язык придержи, – стиснув зубы, сказал Белов.
– А кто услышит? – отвернулся Петренко. – Свидетелей нет. Все полегли.
Григорьев вдруг поднял голову, его голос сорвался:
– А если… если мы… один ящик…
Белов обернулся и посмотрел на него. Просто посмотрел. Григорьев осёкся и умолк.
– …до Маньчжурии отсюда не так далеко, – едва слышно закончил парень, опустив глаза. – Там наши живут… Домик с садом…
– Это тебе Петренко напел? – в голосе Белова зазвенел лёд.
Мохнач медленно выпрямился, его рука легла на винтовку.
– Так вот оно, значит, что… Уже и сговориться успели, крысы.
– Да вы что, товарищи! – побледнел Петренко. – Мы просто рассуждали… – его рука сама собой скользнула к ножу на поясе.
– Не думай, – Белов вскинул наган. – Руки.
Григорьев смотрел на них расширенными от ужаса глазами.
– Товарищ Белов, мы не то… Это просто…
– Молчать, – оборвал его командир. – Предатели. По законам военного времени…
Мохнач шагнул вперёд, уперев ствол винтовки Петренко в грудь.
– Я так и знал, что ты гнида. Змея подколодная.
Петренко вдруг как-то обмяк, расслабился, опустил руки.
– А ты, Белов, святой? Ни разу не подумал кусок пожирнее себе отхватить? Три года гниём на этой войне. И что имеем? Вшей да цингу. А у комиссаров в тылах – икра да бабы голые.
– Сука, – выдохнул Белов, поднимая наган на уровень глаз. – Мы за идею. За будущее. А ты…
– Да плевал я на твою идею! – вдруг взвился Петренко. – Сегодня одна идея, завтра другая! А жизнь одна! Она, твою мать, одна!
Григорьев вскочил, заслоняя собой Петренко.
– Не надо, товарищ командир! Пощадите! Он не со зла… он просто… мечтал вслух…
Белов перевёл взгляд на перепуганное, заплаканное мальчишечье лицо. Таких, как Григорьев, он видел сотни – юных, неоперившихся, верящих первому встречному. Медленно опустил наган.
– Сядь. И чтоб я тебя не слышал.
Мохнач не опускал винтовки.
– Командир, что с ними делать? Пришить, пока не поздно?
Белов покачал головой.
– Нет. Пока нет. Нам груз доставить надо. Это золото… чёртово золото… это кровь революции. Без него всё к чертям рухнет.
– Допустим, – сощурился Петренко. – Доставим. А потом что? К стенке за разговоры?
– Потом будет потом, – отрезал Белов. – А пока – ты под конвоем. Мохнач, глаз с него не спускай. Свяжи его. И этого тоже. – Он кивнул на Григорьева. – Поспим пару часов. С рассветом выдвигаемся.
Он отвернулся, достал из кармана кисет. Скрутил цигарку, чиркнул спичкой. Огонёк на мгновение выхватил из тьмы его лицо – не командирское, а простое, смертельно усталое лицо мужика.
***
Рассвело косо, неохотно. Первые лучи, пробиваясь сквозь густую хвою, лишь делали ночной таёжный мрак более серым и бесприютным. Белов медленно поднялся, размял затёкшие члены, морщась от боли в спине. Ночь на холодной земле не принесла отдыха.
– Подъём, – тихо скомандовал он, толкая носком сапога спящего Григорьева. – Двинули.
Тот вздрогнул, и глаза его распахнулись мгновенно, будто он и не спал вовсе. Взгляд метнулся к груде ящиков и тут же потух. Он неловко поднялся, разминая ноги. Мохнач уже был на ногах, хмурый, как грозовая туча, и стерёг связанных. Петренко сидел, прислонившись к сосне, и смотрел исподлобья – со смесью лютой злобы и затаённой надежды.
– Развяжи, командир, – процедил он. – Обузой буду. Налетят – и что я, связанный?
Белов молча отхлебнул из фляги ледяной воды и покачал головой.
– Обойдёшься. Не доверяю.
– Боишься? – Петренко растянул губы в кривой усмешке. – Правильно боишься.
Мохнач шагнул было к нему, но Белов остановил его взглядом.
– Спокойно. Не шуми.
Потрёпанная подвода тронулась в путь. Впереди Белов вёл под уздцы измученную лошадь. Позади понуро брели связанные, а замыкал шествие Мохнач с винтовкой наготове.
Двигались медленно. Знойная духота сменила утреннюю прохладу, назойливо загудели оводы. Пот едкой солью разъедал глаза. Белов то и дело оглядывался на своих пленников. Петренко шёл с прикрытыми глазами, но Белов знал – он не дремлет, он выжидает, как паук в центре паутины. Рядом с ним плёлся Григорьев, сгорбившись, втянув голову в плечи. Его пальцы без конца теребили верёвку на запястьях – то ли от нервов, то ли исподтишка проверяя узел на прочность. Заметив взгляд командира, парень тут же замер.
К полудню вышли на небольшую поляну.
– Привал, – бросил Белов.
– Командир, – Петренко подался вперёд, заговорил вкрадчивым, змеиным шёпотом, – давай по-людски. Ты, я, Мохнач, даже этот сопляк, – он кивнул на Григорьева. – Всем хватит. По два ящика на нос. Остальные доставим. Никто и не узнает. До Маньчжурии отсюда рукой подать…
Белов молча отвернулся, высекая огонь для цигарки.
– Ты подумай, – не унимался Петренко. – У тебя мать в Тамбове. Старенькая. А с золотом ты её до смерти обеспечишь. По-царски жить будет…
– Заткнись, – глухо произнёс Белов, не оборачиваясь.
– Не слушай его, командир, – сплюнул Мохнач. – Он тебе наплетёт с три короба, а сам думает, как бы нас обоих пришить да с золотишком смыться.
– Я хоть честен! – испепелил его взглядом Петренко. – Не прячусь за красивые слова. А тебя, Мохнач, что ждёт? Медаль? Выжмут, как тряпку, и выбросят. А то и поставят к стенке за то, что не уберёг груз. Скажут: «Где остальные ящики, товарищ Мохнач? “ И всё.
– Ещё слово, – Мохнач вскинул винтовку, – и я тебе глотку заткну. Навсегда.
– Хватит собачиться, – устало махнул рукой Белов. – Выступаем.
К вечеру впереди засинела вода.
– Байкал, – с надеждой выдохнул Григорьев.
– Он самый, – кивнул Белов. – Дотянем до берега, там и заночуем.
Спустились к воде уже в сумерках. Озеро, безбрежное и суровое, как холодное море, дышало стылым ветром. Волны с тихим шорохом лизали гальку.
– Здесь становимся, – сказал Белов. – Мохнач, проверь верёвки у этих. Да покрепче затяни.
– Будет сделано, – хмыкнул Мохнач.
Он грубо дёрнул руки Петренко, затягивая узел до хруста. Потом подошёл к Григорьеву. Тот не сопротивлялся, покорно протянул запястья. Мохнач, затягивая узел, присел ниже, чем следовало. Из-за голенища его сапога выскользнула финка и беззвучно канула в густую траву у самых ног Григорьева. Мохнач этого не заметил. Выпрямился, хрустнул спиной и пошёл распрягать лошадь.
Глаза Григорьева на миг метнулись вниз и тут же вернулись к лицу Мохнача. Он не шелохнулся.
Развели маленький костерок. Белов разделил остатки сухарей.
– Пей, – протянул он кружку с кипятком Григорьеву. Тот вцепился в неё, отхлебнул, обжигаясь, и закашлялся.
– Всю жизнь осторожничаю, – вдруг буркнул Григорьев, глядя в огонь. – А толку-то?
Белов пристально посмотрел на него, но тот снова сжался, ушёл в себя.
– Я в первую смену, – сказал Мохнач, зевая. – Заодно винтовку почищу.
Он устроился у костра, разложил на тряпице принадлежности для чистки.
– Эх, скорей бы конец этому всему. Я б на Украину подался. Там, говорят, земли бесхозной – бери не хочу…
Вскоре лагерь затих. Лишь потрескивал костёр да шуршали волны. Мохнача, сидевшего у сосны, постепенно сморила усталость. Движения его замедлились, руки, собиравшие затвор винтовки, опустились. Голова поникла на грудь, дыхание стало ровным и глубоким.
Тень отделилась от соседней сосны. Беззвучно скользнула по хвое, на миг замерла над травой, где тускло блеснуло лезвие, и двинулась дальше. Осторожно, шаг за шагом, она приблизилась к спящему Мохначу. Одна рука молниеносным движением зажала ему рот, а вторая… ледяное лезвие вошло под левую лопатку, точно в щель между рёбрами. Тело конвульсивно выгнулось и тут же обмякло. Убийца аккуратно опустил его на землю и, не переводя дыхания, повернулся к другому спящему – Петренко.
Тот спал, приоткрыв рот. Убийца, не колеблясь, вонзил нож ему в грудь. Короткий сдавленный хрип вырвался из горла умирающего.
Белов вздрогнул и открыл глаза. Секунду он непонимающе смотрел на тёмную фигуру, потом его взгляд упал на распростёртое тело Петренко, на тёмное пятно, расползавшееся по гимнастёрке.
– Григорьев? – прошептал он, вглядываясь в знакомые черты.
– Я не сопляк, товарищ командир, – хрипло ответил тот. – Хватит.
Белов рванулся за наганом, но не успел. Григорьев шагнул вперёд, и лезвие финки легко и почти безболезненно вошло в сердце. Глаза Белова расширились от смертного удивления, ещё мгновение смотрели в звёздное небо, а потом подёрнулись мутной пеленой.
Григорьев медленно выпрямился. Вытер нож о гимнастёрку убитого. В неверном свете догорающего костра его лицо было спокойным и даже каким-то ясным. Исчезла затравленность, расправились плечи. Он отряхнул с коленей хвою и, не оглядываясь, пошёл к подводе с ящиками, негромко насвистывая мотив «Красная Армия всех сильней».
***
Он подошёл к подводе – уже не затравленный боец, а новый хозяин. Не таясь, не прислушиваясь к ночи, потому что ночь теперь принадлежала ему. Взгляд хищно выхватил из нагромождения ящиков тот самый, помеченный Петренко, – крайний, с едва заметной трещиной в доске.
Лезвие финки вошло в щель легко, как ключ в замок. Он надавил. Доска с тихим, протестующим скрипом поддалась. Лунный свет упал в открывшуюся черноту и утонул в ней, но из глубины ему навстречу поднялось иное сияние – густое, маслянистое, тяжёлое. Золото. На каждом слитке, тускло отсвечивая, проступал двуглавый орёл. Царское.
Воздух застыл в гортани. Григорьев осторожно, словно боясь обжечься, провёл пальцами по гладкой, неправдоподобно холодной поверхности металла, ощущая рельеф герба.
– Вот ты какое… – прошептал он и вынул один слиток.
Неожиданная тяжесть властно потянула руку вниз. Это была не просто тяжесть металла – это была тяжесть новой жизни. Дом. Земля. Безопасность. Власть.
– Всё будет по-другому, – пробормотал он, заворожённо глядя, как играет свет на полированных гранях. – Совсем по-другому.
Словно очнувшись, он аккуратно вернул слиток на место, задвинул доску. А затем, уже без суеты, методично и споро, начал заметать следы. Проверил стягивающие ящики верёвки, подтянул узлы. Подобрал винтовку Мохнача, сунул её под мешковину в телеге. Подошёл к лежащему навзничь Белову. Не глядя в его открытые, смотрящие в небо глаза, вытащил из-под тела ещё тёплый наган и засунул себе за пояс.
Лошадь всхрапнула, когда он принялся её запрягать.
– Потерпи, милая, – сказал Григорьев, властно похлопывая её по шее. – Нам с тобой теперь далеко ехать.
Взобравшись на облучок, он тронул поводья. Подвода скрипнула и медленно двинулась с места. Григорьев направил её вдоль берега, держась кромки леса, – так он был невидим с воды, но сам не терял из виду тёмное зеркало Байкала.
Тайга молчала, проглатывая скрип колёс.
– Никто не узнает, – шептал он, лихорадочно оглядываясь на свой драгоценный груз. – Отряд разбит. Они там… – он кивнул в сторону покинутого лагеря, – просто сгинули в тайге. Пропали без вести. А я… меня никогда и не было. Я начну всё с чистого листа.
Он глубоко вздохнул, и плечи его расправились. На лице застыла странная, напряжённая улыбка.
– «Борьба меняет жизнь», – передразнил он мёртвого Белова. – Нет, товарищ командир. Золото меняет жизнь. И теперь я сам себе командир.
Лошадь осторожно ступала по каменистой тропе. Путь становился всё опаснее: справа – обрыв и сосущая чёрная пустота воды, слева – нависающие скалы. Дорога сузилась до узкого карниза, и колесо подводы пару раз опасно чиркнуло по самому краю.
– Тише ты, кляча, – процедил Григорьев, натягивая поводья. – Ухнешь – и всё прахом.
Сверху донёсся шорох, будто кто-то огромный и невидимый поворочался во сне. Григорьев замер, вцепившись в вожжи. Мелкий камешек сорвался со скалы, цокнул по колесу и с лёгким плеском исчез в воде. Он резко выхватил винтовку.
– Кто там? ! – хрипло крикнул он в темноту. – Выходи!
Тишина. Лишь утробный гул воды внизу да испуганное дыхание лошади.
И тут сверху донёсся грохот. Уже не камешек – целый валун покатился вниз, увлекая за собой другие. Лошадь дико заржала, вздыбилась. Григорьев, выронив винтовку, отчаянно вцепился в поводья.
– Вперёд! Н-но, тварь!
Сверху нарастал тяжёлый, перемалывающий гул. Камнепад. Лошадь, обезумев от страха, рванулась, теряя опору. Колесо соскользнуло с карниза. Подвода накренилась. Отчаянный, тонкий крик Григорьева потонул в грохоте падающих камней и предсмертном ржании.
Огромная глыба ударила в центр подводы, и треск ломающегося дерева слился со звуком последнего конвульсивного выдоха. Телега, ящики, лошадь и человек – всё это единой, корёжащейся массой рухнуло в чёрную воду.
Тяжёлый всплеск на мгновение нарушил покой озера. Волны всколыхнулись, разбежались кругами, подёрнулись рябью и снова разгладились.
Озеро вновь стало безмятежным, и в его чёрном зеркале, как и прежде, равнодушно отражались вечные звёзды.
***
Квартира Софии располагалась в старом доходном доме на Петроградской стороне – из тех, что каким-то чудом пронесли своё строгое величие сквозь все бури двадцатого века. Парадная, где с высокого потолка облетала позолота, а старый лифт с панелями из тёмного дерева нехотя полз вверх, пахла пылью и прошлым.
София открыла нам сама. В крошечной прихожей, на стене, висела старая карта Петербурга, испещрённая цветными линиями – маршрутами прогулок, как я догадался. Рядом – несколько лёгких, почти прозрачных акварельных этюдов: мокрые ступени Исаакия; горбатый мостик над тусклой водой канала Грибоедова; колоннада Казанского собора, тающая в утренней дымке.
– Проходите, – улыбнулась София. – Не стесняйтесь, чай уже на столе.
Большие окна гостиной выходили в тихий двор-колодец. На широких подоконниках теснились горшки с цветами и колючими, похожими на стражей, кактусами. Вдоль одной стены, от пола до самого потолка, – стеллажи с книгами. У противоположной – мольберт с незаконченной акварелью: судя по узнаваемым очертаниям, набросок Байкала.
– Рисую по фотографии, – пояснила София, перехватив мой взгляд. – Мечтаю там побывать.
В углу был накрыт небольшой круглый стол. Льняная скатерть, пузатый фарфоровый чайник, чашки и вазочка с домашним печеньем.
– Угощайтесь, – с гордостью сказала София. – Овсяное, с кардамоном. Бабушкин рецепт.
Мы расселись. Гриша, по своему обыкновению, водрузил перед собой ноутбук.
– Итак, – начала София, разливая по чашкам дымящийся чай, – что мы имеем? Записку деда. Намёк на некую находку, которая «считалась навсегда утерянной». И туманную фразу о «событиях начала века».
– И Байкал, – добавил я.
– И этот Стальский, – подхватил Гриша, открывая крышку ноутбука. – Я кое-что на него нарыл. Негусто, но пища для размышлений имеется.
Он развернул к нам экран.
– Павел Игнатьевич Стальский, – начал читать Гриша, – член ЦК КПСС с пятьдесят седьмого по шестьдесят пятый год. Курировал научные исследования и экспедиции, с особым интересом к археологии и геологии. В шестьдесят пятом внезапно ушёл на повышение. Без публичных объяснений. Умер в девяносто пятом.
– Коротко для такой шишки, – заметил я.
– Иногда самые важные фигуры оставляют самый незаметный след, – усмехнулся Гриша. – Особенно если кто-то этот след потом старательно затирал.
София задумчиво помешивала ложечкой чай.
– Знаете, – тихо сказала она, – начало века, утерянная находка, Байкал…
– Золото Колчака! – выпалил я, и тут же смутился под насмешливым взглядом Гриши. – А что? Логично. Белая армия отступала через Сибирь, часть золотого запаса вполне могли спрятать или утопить.
– Или утащить в пещеру снежные люди, – невозмутимо добавил Гриша. Мы рассмеялись.
– На самом деле, – сказала София, отсмеявшись, – идея не так уж и безумна. Легенда о золотом эшелоне до сих пор жива. Говорят, около ста тонн золота Российской империи просто исчезло.
– Сто тонн не могут «просто исчезнуть», – скептически возразил Гриша. – Это не иголка в стоге сена.
– Вот именно, – София наклонилась к нам, и глаза её блеснули. – Их не испарили. Их спрятали. Или затопили. И дед… дед мог наткнуться на след.
Повисла тишина, густая, как свежезаваренный чай.
– Ты сам подумай, – вдруг обратилась София к Грише. – Экспедиция внезапно свёрнута. Руководитель, мой дед, пропадает без вести. Дача ограблена и едва не сожжена. А потом высокопоставленный чиновник из ЦК лично приезжает запугивать вдову. Не многовато ли драмы для рядовой геологической разведки?
Гриша смотрел на неё с неподдельным уважением.
– Что ж, – произнёс он наконец. – Допустим. Допустим, твой дед действительно нашёл золото. Или, по крайней мере, место, где оно может быть. И кто-то очень влиятельный решил это знание… приватизировать.
– И избавился от деда, – тихо закончила София.
– Это всё догадки, – сказал я после паузы.
– Значит, нам нужны доказательства, – решительно ответила София. – Надо узнать всё об этой экспедиции. Что стало с остальными участниками?
– Попробую, – кивнул Гриша. – Есть у меня один человечек в архивах. Ничего не обещаю, но…
– Попробуй, – попросила София. – А я снова поговорю с бабушкой. Может, она вспомнит ещё что-нибудь. Фамилию, деталь…
– А я, – подвёл итог я, протягивая руку к вазочке, – помогу вам съесть это восхитительное печенье.
София улыбнулась – впервые за вечер по-настоящему тепло и открыто.
***
Через неделю за окнами петербургская хлябь сменилась ледяным дождём. Капли барабанили по металлическому карнизу, но в комнате Софии от этого становилось только уютнее.
Гриша явился последним – мокрый, взъерошенный, но с лихорадочным блеском в глазах.
– Есть! – воскликнул он с порога, стряхивая капли с волос. – Нашёл!
Он прошёл в комнату, на ходу извлекая из рюкзака пухлую папку.
– Мой архивариус рисковал головой, – сообщил он, выкладывая на стол бумаги. – Документы формально открыты, но на деле лежат под таким сукном, что пришлось применять весь арсенал: коньяк, шоколад и лесть.
София, улыбаясь, налила ему чаю.
– Итак, – начал Гриша, сделав большой глоток. – Экспедиция действительно была. И называлась… – он кашлянул, чтобы скрыть усмешку, – «Пёстрый налим». Официальная цель: геологические исследования дна Байкала и испытание новой глубоководной аппаратуры.
Он подвинул к нам отсканированный лист с казённой шапкой.
– Приказ о формировании. Февраль шестьдесят второго. Руководитель – Зор-Зенин Александр Николаевич. В составе ещё шестеро:
геологи Синевский и Лунгинов;
гидролог Шумилов;
инженер по оборудованию Светозар;
водолаз Богданович;
врач Зиминский.
– Кто-нибудь из них жив? – спросила София.
– Неизвестно. Пока не пробивал, – пожал плечами Гриша. – Он перевернул страницу. – Экспедиция стартовала первого апреля шестьдесят второго. База – посёлок Листвянка. Что примечательно, во времена Колчака он назывался селом Лиственичное. Это на западном берегу, у самого истока Ангары. А дальше… дальше всё обрывается. Четырнадцатого апреля руководитель экспедиции, Зор-Зенин, пропал без вести во время погружения. Поиски ничего не дали. Экспедицию свернули.
– И всё? – разочарованно протянул я.
– Не всё, – Гриша хитро прищурился. – Есть вишенка на торте. На полях последнего отчёта, карандашом, нацарапаны координаты. Кто-то пытался их стереть, но писавший давил на карандаш так сильно, что на бумаге остались вдавленные следы. Я смог их восстановить.
Он показал нам лист. В углу виднелись едва различимые цифры: 51. 850473, 104. 922621.
– Я проверил. Это точка в пяти километрах от Листвянки, в открытом Байкале. Глубина там… приличная. Предположительно, место последнего погружения.
София задумчиво теребила прядь волос.
– Что-то ещё?
– Самое главное, – Гриша подался вперёд. – Приказ о немедленном засекречивании всех материалов экспедиции подписан лично… – он сделал эффектную паузу, – Павлом Игнатьевичем Стальским.
Мы переглянулись. Круг замкнулся.
София встала и подошла к окну. Несколько секунд молча смотрела на струи дождя. Потом резко обернулась.
– Я еду на Байкал.
– Это безумие, – покачал головой Гриша. – Соня, прошло шестьдесят лет. Что ты там найдёшь?
– Не знаю. Может, и ничего, – она пожала плечами. – Но я должна. Я хочу знать, что случилось с моим дедом.
Она посмотрела на нас.
– Я не прошу вас ехать. Это моё дело, и…
– Перестань, – перебил я её. – Конечно, мы едем.
– Мы? – Гриша вскинул на меня брови. – Когда это «мы» успели договориться?
– А тебя кто-то спрашивает? – усмехнулся я. – Не бросишь же ты двух дилетантов наедине с потенциальным золотым запасом империи? Свою долю не получишь.
– Мы ещё не знаем, что искал дед, – мягко поправила София.
– Но согласись, звучит куда заманчивее, чем «геологические исследования», – подмигнул я ей.
Гриша посмотрел на нас с видом мученика, осознавшего тщетность сопротивления.
– Сумасшедшие, – выдохнул он. – Но… – он тяжело вздохнул. – Раз уж вы твёрдо решили совершить научный подвиг, я прослежу, чтобы вы сделали это с соблюдением всех методик. У меня как раз отпуск через две недели.
София рассмеялась и крепко, по-сестрински, обняла нас обоих.
– Я знала! Я знала, что вы не откажетесь! Я тоже возьму отпуск. Скажу, что еду на пленэр.
– А я, – потянулся я, – просто возьму с собой ноутбук. Моему редактору, в сущности, всё равно, из какой точки земного шара я присылаю ему статьи.
***
Москва. 1962 год. Здание на Старой площади, похожее на гигантский, вросший в землю несгораемый шкаф, давило на мостовую длинными серыми тенями и казалось сумрачным даже в самые ясные дни. В кабинете на шестом этаже, за массивным дубовым столом, сидел Павел Игнатьевич Стальский – человек, чьё имя не мелькало в газетах, но вызывало нервный тик даже у самых закалённых партаппаратчиков.
Стальский неторопливо перебирал бумаги. Его крупные, будто отлитые из чугуна для ведомственного бюста черты лица оставались неподвижными, лишь в уголках губ притаилась кривая усмешка. В дверь постучали.
– Входите, – произнёс Стальский. Голос, не громче шороха переворачиваемой страницы в пустом архиве, нарушил тишину кабинета.
Вошёл помощник – мужчина лет сорока, с внимательным взглядом и аккуратно зачёсанными назад волосами.
– Александр Николаевич Зор-Зенин ждёт в приёмной, Павел Игнатьевич.
– Пусть подождёт ещё пять минут, – Стальский взглянул на часы. – И принесите мне чай. Без сахара.
Помощник кивнул и бесшумно исчез за дверью. Стальский откинулся в кресле. Ему нравилось заставлять людей ждать – даже таких известных учёных, как Зор-Зенин. Особенно таких. Каждая минута, проведённая ими в приёмной, недвусмысленно напоминала, кто в этом доме – и в этой стране – хозяин.
Стальский подошёл к окну. С шестого этажа открывался вид на часть Кремлёвской стены и купола храмов. Он усмехнулся. Храмы – не более чем реликты ушедшей эпохи, бессильные истуканы, не имеющие власти. Теперь здесь царила другая религия – власть. И он, Павел Игнатьевич, был одним из её высших жрецов.
В свои пятьдесят четыре года Стальский достиг многого. Член Политбюро, куратор нескольких закрытых проектов, человек, чьё слово могло решить судьбу любого научного института. Высокий, с идеальной осанкой, с аккуратно зачёсанными назад седеющими волосами, он выглядел как классический партийный функционер. Но за безупречным фасадом скрывался ум, холодный и острый, как скальпель хирурга, и алчность, бездонная, как байкальская впадина.
Идеология? Стальский внутренне усмехался каждый раз, когда приходилось произносить пламенные речи о коммунистическом будущем. Для него марксизм-ленинизм был лишь удобным инструментом, набором фраз, которые открывали нужные двери и позволяли управлять людьми. Идеалы – пыль на его ботинках, а единственная настоящая религия – неограниченная власть.
Помощник вернулся с чаем. Стальский сделал глоток, поморщился – обжигающе горячий – и распорядился:
– Теперь пригласите Зор-Зенина.
***
Александр Николаевич Зор-Зенин нервно поправил галстук, прежде чем войти в кабинет. Он не понимал, почему его вызвал сам Стальский. Обычно вопросы финансирования экспедиций решались на уровне министерства.
– Разрешите? – Зор-Зенин приоткрыл дверь.
– Входите, Александр Николаевич, входите, – Стальский поднялся из-за стола, с преувеличенным радушием протягивая руку. – Рад видеть гордость советской геологии!
Зор-Зенин смутился. Он не привык к такой лести от высокопоставленных чиновников.
– Садитесь, – Стальский указал на кресло. – Чай, кофе… коньячку?
– Спасибо, ничего не нужно, – Зор-Зенин осторожно опустился в кресло.
Стальский изучал его взглядом коллекционера, приценивающегося к экспонату. Перед ним сидел человек, известный своими исследованиями глубинных структур земной коры, автор десятков научных работ, уважаемый в академических кругах. Сухощавый, с живыми умными глазами и мягкой улыбкой. Не авантюрист, а учёный до мозга костей. И это было хорошо – именно такой человек и нужен для проекта. Тот, кому поверят. Тот, чьи мотивы не будут подвергаться сомнению.
– Я читал вашу работу о структуре байкальского дна, – начал Стальский, хотя, разумеется, и не думал тратить на это время – хватило и краткой справки, подготовленной помощниками. – Очень интересно. Очень перспективно, скажу я вам.
– Благодарю, – Зор-Зенин слегка наклонил голову. – Но это лишь предварительное исследование. Для серьёзных выводов нужна полноценная экспедиция. Я как раз подал заявку в министерство…
– Я знаю, – перебил его Стальский. – Именно поэтому вы здесь.
Он выдержал паузу, давая учёному осознать значимость момента.
– Ваша работа заинтересовала… определённые круги в руководстве страны. Мы считаем, что исследование Байкала имеет стратегическое значение. И готовы предоставить вам не просто финансирование, а особый статус. Экспедиция под кодовым названием «Пёстрый налим».
Зор-Зенин недоумённо моргнул.
– «Пёстрый налим»? Почему такое название?
Стальский усмехнулся:
– А почему нет? Налим – рыба донная, уважаемый Александр Николаевич, а вы, насколько я понимаю, как раз дно и собираетесь изучать. А «пёстрый»… – он помедлил, – назовём это данью уважения разнообразию ваших научных интересов. И наших.
– Что конкретно вам нужно от меня? – осторожно спросил Зор-Зенин.
Стальский поднялся и прошёлся по кабинету.
– Официально – всё то, что вы уже планировали: геологические исследования, картографирование дна, изучение глубинных процессов. Плюс тестирование новых образцов глубоководного оборудования, разработанного нашими инженерами. – Он остановился у окна, повернулся к учёному. – Вам будут предоставлены все необходимые ресурсы. Лучшие специалисты, самая современная техника. Вы сможете сделать прорыв в науке. Да.
Предложение было заманчивым. Всю жизнь он мечтал о такой возможности – неограниченное финансирование, полная поддержка государства…
– А что неофициально? – осторожно спросил он.
Стальский многозначительно посмотрел ему в глаза.
– Скажем так, – он вернулся к столу, – помимо научных изысканий, нас интересуют и некоторые… исторические аспекты.
– Исторические? – удивился Зор-Зенин. – Я геолог, а не историк.
– Речь идёт об истории, запечатлённой в земле, – Стальский заговорил тише, хотя в кабинете они были одни. – Вы слышали о золоте Колчака?
Зор-Зенин напрягся. Конечно, он слышал эти легенды. Якобы часть золотого запаса Российской империи, захваченного адмиралом Колчаком во время Гражданской войны, была спрятана где-то в районе Байкала перед тем, как белогвардейцы отступили. Десятки экспедиций, официальных и неофициальных, безуспешно искали это золото.
– Это мифы, – пожал плечами учёный. – Нет никаких достоверных источников…
– У нас есть, – прервал его Стальский. Он открыл сейф, достал тонкую папку и положил перед Зор-Зениным. – Прочтите.
В папке было несколько пожелтевших листов – выдержки из дневника некоего поручика Савина, адъютанта одного из офицеров колчаковской армии. Записи, датированные октябрём 1919 года, содержали сведения о столкновении их отряда с группой красноармейцев, перевозивших обоз с ценностями.
«24 октября 1919 года. Отбили у красных обоз с золотом в 30 верстах от Иркутска. Подразделение поручика Ларионова, устроив засаду, атаковало внезапно, с тыла. Однако в ходе боя части красноармейцев удалось скрыться на одной из подвод с 10 ящиками золота. Поручик Деверин с казаками пытался преследовать, но след потерялся возле села Лиственичное…»
Ниже следовала запись от 30 декабря:
«По расспросам местных жителей выяснилось, что вечером 25-го они видели подводу с несколькими вооружёнными людьми, ехавшую в сторону озера по тропе, что идёт мимо большой скалы, напоминающей форму медвежьей головы. Эта тропа достаточно широка для телеги и подходит вплотную к воде в нескольких местах. Примерно в трёх верстах от Лиственичного есть такое место – небольшая бухта под скалой…»
И последняя запись, от 9 ноября:
«Поручик Деверин докладывает, что никаких следов золота не обнаружено. Видимо, красные доставили ящики к самой воде. Есть предположение, что они либо намеренно утопили золото, чтобы оно не досталось нам, либо, что более вероятно, при попытке погрузить ящики на лодку произошёл несчастный случай, и груз оказался на дне. Глубина там значительная. Без специального оборудования достать невозможно…»
Зор-Зенин поднял глаза на Стальского.
– В феврале 1920-го Колчак был уже мёртв, а его армия разбита, – сказал Стальский. – Золото так и осталось на дне. Я думаю, координаты этого места можно установить довольно точно по описаниям поручика Савина. Скала в форме медвежьей головы, бухта… Это место всё ещё должно существовать.
Зор-Зенин с сомнением покачал головой:
– Это может быть подделка. И потом, столько лет прошло…
– Именно это нам и предстоит выяснить, – Стальский забрал папку. – Я не прошу вас верить легендам, Александр Николаевич. Я прошу вас провести научное исследование, а заодно… проверить один исторический факт.
Зор-Зенин молчал, обдумывая предложение. Стальский терпеливо ждал. Он знал, что учёный согласится. Ради возможности провести полноценную экспедицию, ради научного прорыва.
– Хорошо, – наконец сказал Зор-Зенин. – Я согласен возглавить экспедицию. Но мне нужна полная академическая свобода в выборе методов исследования.
– Разумеется, – кивнул Стальский. – Подбирайте команду. Только учтите – все участники должны пройти специальную проверку. Проект «Пёстрый налим» имеет гриф секретности.
Когда учёный ушёл, Стальский долго стоял у окна, глядя на Кремль. Он не верил в коммунизм, он верил в золото. Верил в его холодную, абсолютную власть, в его способность открывать любые двери и затыкать любые рты. Если экспедиция действительно найдёт сокровища Колчака, он, Павел Игнатьевич, станет по-настоящему независимым. Сможет обеспечить себе и будущее за пределами этой системы, и власть внутри неё.
Стальский никому не рассказывал о своём настоящем плане. Даже Зор-Зенину он показал лишь малую часть имеющихся документов. Всю партитуру этого грандиозного обмана знал только он сам. И намеревался сохранить эту тайну.
***
Институт геологических исследований напоминал растревоженный улей. Весть о том, что многострадальная экспедиция Зор-Зенина получила «добро» на самом высоком уровне, разнеслась по гулким коридорам с быстротой сквозняка. Теперь все, от лаборантов до седовласых академиков, вдруг прониклись жгучим интересом к глубинным структурам байкальского дна и хотели попасть в команду.
Но Александр Николаевич имел на сей счёт своё, весьма твёрдое мнение. Он сидел в заваленном бумагами кабинете и, отгородившись от институтской суеты, просматривал личные дела кандидатов, отсеивая зёрна от плевел.
В дверь постучали.
– Войдите!
На пороге, словно сошедший с плаката «Советский инженер – гордость страны! », появился молодой человек в очках. Борис Светозар, гений и фанатик глубоководной аппаратуры.
– Извините за беспокойство, Александр Николаевич, – начал он, нервно поправляя съехавшую на нос оправу. – Я слышал об экспедиции на Байкал и…
– И хотите в ней участвовать, – закончил за него Зор-Зенин, отрываясь от бумаг. – Садитесь, Борис. Я как раз о вас думал.
Лицо Светозара расплылось в такой счастливой улыбке, что стёкла очков на мгновение запотели. Он осторожно опустился на краешек стула.
– Ваше новое устройство для подводной съёмки, – Зор-Зенин взял со стола чертёж. – Оно и правда может работать на глубине до двухсот метров?
– Теоретически, даже до трёхсот! – выпалил инженер, его голос дрожал от энтузиазма. – Мы провели испытания в барокамере. Но нужны полевые тесты, Александр Николаевич… в реальных условиях.
– Которые мы и проведём на Байкале, – Зор-Зенин тепло улыбнулся. – Добро пожаловать в команду, Борис. Только учтите – экспедиция имеет гриф секретности. Никаких разговоров с посторонними.
– Конечно! – Светозар вскочил, едва не опрокинув стул. – Спасибо, Александр Николаевич! Вы не пожалеете!
Когда восторженный инженер, пятясь, покинул кабинет, Зор-Зенин вернулся к документам. Итак, Светозар – третий. Ранее он уже отобрал двух геологов: Синевского, молчаливого специалиста по тектоническим разломам, и Лунгинова, дотошного эксперта по донным отложениям. Теперь оставалось найти гидролога, опытного водолаза и врача.
На роль гидролога у него уже был кандидат – Владимир Шумилов, старый коллега, с которым они вместе съели не один пуд соли на Каспии. А вот с остальными…
Зор-Зенин откинулся в кресле и устало потёр глаза. Всё происходило слишком быстро. Ещё вчера его проект экспедиции, казалось, навсегда увяз в министерских согласованиях, а сегодня – неограниченное финансирование, карт-бланш на исследования, лучшие специалисты. И всё из-за этой полумифической истории о золоте Колчака.
Он не верил в неё. Или, по крайней мере, убеждал себя в этом. Зор-Зенин был учёным, а не кладоискателем. Его интересовала геология древнейшего озера планеты, а не легенды о призрачных сокровищах. Но где-то в самой глубине души, там, где логика уступала место почти детскому любопытству, шевелилась крамольная мысль: «А что, если?»
Резкий телефонный звонок вырвал его из раздумий.
– Зор-Зенин слушает.
– Александр Николаевич, – раздался в трубке знакомый голос институтского секретаря, – к вам посетитель. Говорит, что от товарища Стальского.
Зор-Зенин напрягся.
– Пусть войдёт.
Через минуту в кабинет вошёл крепкий, коренастый мужчина в штатском. Костюм сидел на нём ладно, но было в его фигуре что-то такое, что выдавало человека не кабинетного. Лицо квадратное, волевое, глаза – холодные, оценивающие.
– Майор Игнатов, – представился он, коротко блеснув удостоверением. – Комитет государственной безопасности. Прикомандирован к вашей экспедиции.
– В качестве кого? – Зор-Зенин нахмурился, чувствуя, как его научная вотчина сужается под этим стальным взглядом.
– В качестве контролёра за соблюдением режима секретности, – без тени улыбки ответил майор. – Официально же… можете представить меня как завхоза экспедиции.
– И как я объясню остальным участникам ваше присутствие? – спросил Зор-Зенин. – Они все – научные сотрудники, не привыкшие к…
– К надзору? – усмехнулся Игнатов. – Поверьте, они не заметят. Я умею быть… незаметным.
Он сел, не дожидаясь приглашения, положив на колени потёртый портфель.
– Кстати, о составе. Мне сообщили, что вы всё ещё ищете водолаза и врача.
– Да, – кивнул Зор-Зенин. – Пока не нашёл подходящих кандидатов.
– Позвольте помочь, – майор извлёк из портфеля две тонкие папки. – Водолаз Богданович Михаил Степанович. Служил на флоте, затем в аварийно-спасательной службе. Опыт глубоководных погружений в экстремальных условиях. Владеет несколькими типами водолазного снаряжения.
Он протянул первую папку. Зор-Зенин открыл её. С фотографии смотрел мужчина лет тридцати с внимательным, уверенным взглядом. Послужной список впечатлял.
– А второй? – спросил учёный, принимая вторую папку.
– Врач Зиминский Павел Георгиевич. Хирург. Специализируется на последствиях декомпрессионной болезни и других специфических водолазных травмах. Работал в НИИ морской медицины. Имеет допуск к секретным проектам.
Зор-Зенин просмотрел документы. Всё было безупречно – идеальные кандидаты. Слишком идеальные.
– Стальский их уже утвердил? – догадался он.
– Скажем так, настоятельно рекомендовал, – майор едва заметно улыбнулся. – Но формально решение за вами, как за руководителем экспедиции.
Зор-Зенин понимал, что выбора у него нет. Стальский не просто контролировал, он формировал экспедицию под свои, до конца не ясные цели, расставляя на ключевые позиции своих людей. Что ж, пусть будет так. Главное, чтобы они не мешали научной работе.
– Хорошо, – кивнул он. – Включаю их в состав. Надеюсь, они оправдают рекомендации.
– Не сомневайтесь, – заверил Игнатов. – И ещё один момент, Александр Николаевич. Ни Богданович, ни Зиминский, ни остальные участники не должны знать о… настоящей цели. Для них это исключительно научный проект и испытание нового оборудования. Только вы и я посвящены в детали.
– Понятно, – Зор-Зенин криво усмехнулся. – Значит, будем играть в двойную игру.
– Это не игра, Александр Николаевич, – серьёзно сказал майор. – Это государственная тайна. И от того, насколько хорошо мы её сохраним, зависит успех всей операции.
Когда Игнатов ушёл, Зор-Зенин долго сидел, глядя на папки с личными делами «рекомендованных» специалистов. Он понимал, что только что ступил на минное поле. И дороги назад уже нет.
***
Прошло две недели. Команда была сформирована, оборудование – подготовлено к отправке. Особое внимание уделялось новым глубоководным скафандрам – массивным конструкциям, созданным специально для работы в ледяных водах Байкала на глубинах до четырёхсот метров.
Зор-Зенин стоял в лаборатории, наблюдая, как Борис Светозар, с горящими глазами фанатика, вносит последние корректировки.
– Наш новый скафандр – настоящий прорыв, Александр Николаевич! – говорил он, понизив голос, словно делился государственной тайной. – Вес – почти центнер, но благодаря инновационной гидравлической системе компенсации под водой водолаз будет чувствовать лишь треть этого веса. Шлем оснащён передовой системой регенерации воздуха, на спине – уникальный акваланг с замкнутым циклом, обеспечивающий автономность до восьми часов. А корпус! Корпус из нового титанового сплава, что позволяет погружаться на глубину до четырёхсот метров – это вдвое глубже, чем у существующих моделей!
– А связь? – спросил подошедший Богданович.
Михаил Степанович Богданович оказался именно таким, как и на фотографии – крепкий, немногословный человек с цепким, уверенным взглядом. Он с первых дней проявил себя как опытный водолаз, скрупулёзно проверяя каждую деталь снаряжения.
– Встроенная гидроакустическая система связи использует сложное частотное кодирование, – продолжил Светозар. – Это засекреченная разработка. Плюс передача биометрических данных на поверхность. Мы будем знать всё о состоянии водолаза – пульс, давление, температуру тела, уровень кислорода в крови…
– Впечатляет, – кивнул Богданович. – А если возникнут проблемы со связью?
– Система дублирована. Основной канал – гидроакустический, но есть и резервный электромагнитный. В критической ситуации активируется система аварийного всплытия. Но вероятность такого развития событий крайне мала.
К ним подошёл Павел Георгиевич Зиминский – невысокий, полноватый мужчина с аккуратной бородкой и внимательным взглядом. Он оказался совсем не таким, каким его представлял Зор-Зенин. Вместо сурового военного врача – интеллигентный, разговорчивый человек с мягкими манерами. Впрочем, его профессионализм не вызывал сомнений.
– Добрый день, коллеги, – поздоровался он. – Обсуждаете наше глубоководное чудо техники?
– Да, Павел Георгиевич, – кивнул Зор-Зенин. – Светозар объясняет нам принцип его работы.
– Меня очень интересует система жизнеобеспечения, – сказал врач. – Особенно в условиях низких температур Байкала. Вода там даже летом около пяти-семи градусов, а на глубине ещё холоднее.
– Не беспокойтесь, – заверил его Светозар. – Система терморегуляции выдерживала испытания и при минусовых температурах в барокамере.
К группе присоединились остальные участники экспедиции – геологи Синевский и Лунгинов, а также гидролог Шумилов. Все они были опытными учёными, но никто из них не подозревал о настоящей цели операции «Пёстрый налим».
Зор-Зенин наблюдал за коллегами с двойственным чувством. С одной стороны, он был рад работать с такими профессионалами. С другой – его тяготила необходимость скрывать от них истинную причину экспедиции. Они верили, что едут исследовать геологическую структуру байкальского дна, а на самом деле… На самом деле они были лишь прикрытием для большой, грязной игры, затеянной где-то в московских кабинетах. И только он и Игнатов знали правду.
Кстати, где этот майор? Зор-Зенин огляделся. Игнатов, как всегда, появился незаметно, словно материализовавшись из воздуха, и так же незаметно исчезал. Настоящий человек-тень. Судя по всему, он серьёзно относился к своей роли негласного наблюдателя.
– Ну что, коллеги, – Зор-Зенин обратился к команде, – завтра вылетаем. Проверьте ещё раз личное снаряжение. И помните о режиме секретности – никаких разговоров о цели экспедиции с посторонними.
Команда разошлась по своим делам. Зор-Зенин остался один. Он подошёл к окну и некоторое время стоял, глядя на соседние крыши. Завтра они отправятся в путь. Байкал… Древнее озеро, хранящее множество тайн. И, возможно, одна из этих тайн – проклятое золото Колчака.
Зор-Зенин не верил в сказки о сокровищах. Но история с дневником поручика Савина не давала ему покоя. Что, если это правда? Что, если они действительно найдут золото на дне озера? И что тогда сделает Стальский?
***
В тот же вечер, в своём домашнем кабинете, напоминавшем скорее хранилище государственных тайн, нежели жилое помещение, Павел Игнатьевич Стальский принимал доклад майора Игнатова.
– Они готовы? – спросил он, и его рука, державшая тяжёлый хрустальный графин, не дрогнула, когда он наполнял бокалы янтарной жидкостью.
– Технически – да, – ответил Игнатов, принимая бокал с почтительным, но лишённым всякого подобострастия кивком. – Скафандры проверены, оборудование упаковано. Команда подобрана грамотно.
– А морально? – Стальский впился в майора взглядом, которым хирург смотрит на операционное поле перед первым надрезом.
– Зор-Зенин настроен на научную работу, – Игнатов едва заметно пожал плечами – жест, означавший не сомнение, а лишь сухую констатацию факта. – О золоте говорит неохотно. Считает это не только отвлекающим фактором, но и, цитирую, «забавной сказкой о сокровищах».
Стальский усмехнулся. Усмешка получилась тонкой, почти хищной.
– Пусть думает, что хочет. Главное, чтобы искал там, где нужно, – он сделал глоток коньяка. – Что остальные?
– Команда не знает о настоящей цели. Им сказано, что это геологическая экспедиция с элементами испытания нового оборудования. Все подписали бумаги о неразглашении.
Стальский кивнул. Всё шло по плану.
– Слушайте внимательно, майор, – Стальский подался вперёд, и его массивная фигура, пересекая свет настольной лампы, на мгновение сделалась бесформенной, как сгусток темноты, готовый поглотить всё вокруг. – Если они действительно что-то найдут, ваша задача – обеспечить, чтобы информация дошла только до меня. Никаких отчётов в институт, никаких записей в официальных журналах. Только ко мне. Лично.
– Понял, – коротко ответил Игнатов.
– И помните: экспедиция должна завершиться успехом. Не только научным. Вы меня понимаете?
Майор допил коньяк и поставил пустой бокал на полированную поверхность стола. Звук получился глухим, окончательным.
– Я не подведу, Павел Игнатьевич.
– Знаю, – кивнул Стальский. – Иначе бы я не доверил вам это дело.
Когда тяжёлая дубовая дверь за Игнатовым беззвучно закрылась, Стальский долго сидел в кресле, вертя в руках полупустой бокал. Всю жизнь он шёл к власти, и вот она в его руках. Но настоящая власть – это не только положение в партийной иерархии, не кремлёвские кабинеты и испуганные взгляды подчинённых. Это свобода. Абсолютная, ничем не ограниченная независимость. То, что может дать только золото. Очень много золота.
Он поднял бокал, словно произнося тост в пустоту:
– За успех операции «Пёстрый налим»!
***
Ранним морозным утром первого апреля 1962 года военно-транспортный самолёт, прорезав свинцовые облака, приземлился в аэропорту Иркутска. Экспедиция «Пёстрый налим» прибыла на место.
Зор-Зенин спускался по металлическому трапу, вдыхая колючий, стеклянный воздух Сибири, который после московской слякоти казался почти стерильным. Где-то там, в пятидесяти километрах отсюда, в чаше гор, лежал Байкал – самое глубокое озеро планеты, хранящее бесчисленные тайны. А может быть, и золото Колчака. Кто знает?
Игнатов, словно тень, материализовался у его локтя.
– Началось, Александр Николаевич, – тихо, почти беззвучно произнёс он. – Дороги назад уже нет.
***
Самолёт, провисев в воздухе шесть часов, наконец обрёл под собой твердь иркутской земли. Я вывалился из его душного чрева помятый, как прочитанная от корки до корки и брошенная в кресле газета. София, напротив, выглядела так, будто всё это время медитировала в бизнес-классе, – её глаза светились предвкушением. Гриша же был мрачен, как инспектор ОБХСС, обнаруживший недостачу на складе.
– Напомните мне, почему мы не полетели летом? – проворчал он, пытаясь размять затёкшую шею. – В апреле на Байкале всё ещё холодно.
– Именно поэтому, – ответила София. – Дед исчез в апреле. Хочу увидеть Байкал таким, каким видел его он.
Мы направились к багажной ленте. Я вытащил телефон, чтобы проверить сообщения, как вдруг услышал возмущённый возглас Гриши:
– Какого чёрта? Это что, шутка?
Я поднял глаза. По багажной ленте, как на параде, плыл его огромный, почти гротескный чемодан, перехваченный накрест ярко-жёлтой лентой. На ленте жирным маркером было выведено: «Осторожно! Научное оборудование».
– Это твой? – спросил я, с трудом сдерживая смех.
– Нет! – Гриша покраснел до корней своих рыжих волос. – То есть да, но я не писал этого. И не обматывал.
София не выдержала и рассмеялась – тихо, но так заразительно, что несколько человек обернулись.
– Прости, – выдавила она сквозь смех. – Это я. Подумала, что так ему точно ничего не будет угрожать.
– И ты была права, – проворчал Гриша. – Даже я теперь боюсь к нему прикасаться.
Он потянулся за чемоданом, но тот, будто обладая собственной злой волей, застрял на повороте ленты. Гриша дёрнул сильнее, чемодан поддался и по инерции врезался в стоящего рядом мужчину в форме, крепкого, как хорошо сколоченный ящик.
– Извините! – воскликнул Гриша. – Я не хотел…
– Научное оборудование? – строго, почти без вопросительной интонации, произнёс мужчина, отряхивая с кителя невидимую пыль. – Для перевозки такого груза нужно специальное разрешение. Документы имеются?
– Вообще-то… – начал было Гриша, но София, с её дипломатическим талантом, тут же вмешалась.
– Простите, это недоразумение, – она мило улыбнулась. – Никакого оборудования там нет. Просто шутка друзей. Мой приятель – аспирант, защищает диссертацию. Вот мы и решили его так… творчески поддержать.
Мужчина недоверчиво перевёл взгляд с её обворожительной улыбки на наши с Гришей физиономии, которые, надо полагать, не слишком походили на лица аспирантов.
– Можете проверить, – предложил я. – Там только одежда и книги.
– И уникальная коллекция носков, – с абсолютно серьёзным видом добавил Гриша. – Научно классифицированная.
Мужчина несколько секунд пристально смотрел на Гришу, а потом в уголках его губ что-то дрогнуло, и он неожиданно сдержанно, по-военному улыбнулся.
– Ладно, идите, учёные. Но в следующий раз будьте осторожнее со своим… научным оборудованием.
***
За пределами аэропорта нас поджидала новая проблема: как добраться до Листвянки.
– Можно взять такси, – предложила София, разглядывая карту в телефоне. – Но это дорого.
– А может, автобус? – предложил я.
– Автобус, наверное, будет трястись три часа, – скривился Гриша. – Со всеми остановками. У меня от одной мысли морская болезнь начинается.
В этот момент к нам подошёл коренастый мужчина лет пятидесяти. Обветренное, будто выдубленное байкальскими ветрами лицо, хитрый прищур глаз, в которых, казалось, отражалось само озеро – то спокойное, то с чертовщинкой, – и руки, привыкшие, видно, и к штурвалу, и к стопке водки.
– До Листвянки, говорите? – спросил он. – Могу подбросить. Недорого.
– Вы подслушивали? – подозрительно спросил Гриша.
Мужчина усмехнулся.
– В аэропорту Иркутска только два типа туристов: те, кто едет в Листвянку, и те, кто ошибся аэропортом. Но вы на таких не похожи.
Мы переглянулись. Логика была железной.
– Меня зовут Михалыч, – представился мужчина. – Езжу туда-сюда каждый день. Живу в Листвянке, а сюда по делам мотаюсь.
– И сколько? – спросила София.
Михалыч назвал цену. Она была вполне разумной, и мы согласились.
***
Старенькая, но крепкая «Тойота Ленд Крузер Прадо» Михалыча бодро катилась по трассе вдоль берега Ангары. За окнами мелькали леса, перемежающиеся деревушками и приземистыми дачными участками.
– Первый раз на Байкале? – спросил Михалыч, поглядывая на нас в зеркало заднего вида.
– Да, – кивнула София. – Хотим посмотреть озеро.
– В апреле? – усмехнулся Михалыч. – Странное время для туризма. Лёд сходит, погода непредсказуемая. Да и смотреть особо нечего. Вот летом – другое дело.
– У нас… исследовательский интерес, – уклончиво ответил Гриша.
– А-а-а, – протянул Михалыч с пониманием. – Учёные, значит. Что изучаете?
– Геологию, – быстро сказал я. – Изучаем… породы.
– Породы? – Михалыч хмыкнул. – Это которые из земли или которые мохнатые и на четырёх лапах?
София рассмеялась.
– Из земли. Мы хотим изучить… – она запнулась.
– Глубоководные отложения, – подсказал Гриша. – В районе истока Ангары.
– Ну-ну, – покивал Михалыч, и я готов был поспорить, что в зеркале заднего вида он скептически ухмыльнулся. – И как же вы собираетесь изучать глубоководные отложения? Нырять будете?
– Нет, – пожал плечами Гриша. – Мы… э-э… возьмём прибрежные пробы.
– В апреле? Когда лёд ещё не до конца сошёл? – Михалыч покачал головой. – Знаете, я пятьдесят лет на Байкале живу. Повидал всяких… исследователей. И все они что-то ищут. Но надо осторожнее, чтобы не найти всякие неприятности.
Мы замолчали. За окном проплывали сосны, укутанные лёгкой дымкой тумана. Гриша неловко заёрзал на сиденье.
– А вы не подскажете, где можно остановиться в Листвянке? – спросил я, меняя тему.
– Гостиницы дорогие, – ответил Михалыч. – Но если хотите, могу вам свой домик сдать. Небольшой, но уютный. Я всё равно там не живу.
– Это было бы идеально, – обрадовалась София. – А он далеко от воды?
– Метров двести, не больше. С веранды Байкал как на ладони.
Дорога петляла между холмами. За очередным поворотом внезапно открылась панорама: внизу, в чаше гор, раскинулась огромная водная гладь. Часть озера ещё была покрыта льдом, но у берегов уже темнела вода.
– Байкал, – тихо сказала София.
– Он самый, – кивнул Михалыч. – Только малую часть видите. Это как если бы вы на крышу дома посмотрели и решили, что всё здание увидели.
– Впечатляет, – признал Гриша, прильнув к окну.
– Это ещё что, – хмыкнул Михалыч. – Вот когда в шторм увидите – тогда поймёте, почему его морем называют. А когда в ясный день на лёд выйдете – поймёте, почему его называют священным.
***
Домик Михалыча приютился на склоне холма, среди корабельных сосен – добротный сруб из потемневших, словно прокопчённых временем брёвен, с крепким крыльцом и небольшой верандой. Внутри было на удивление чисто и по-своему уютно: две комнаты, белёная печка, старая, но ладно скроенная мебель.
– Ничего особенного, конечно, – развёл руками Михалыч, – но для ночлега сойдёт. Печку топить умеете?
– Приходилось, – кивнул я, вспоминая бабушкину дачу.
– Ежели захотите посидеть у огня, как в старые времена, дрова во дворе. Вода – в колодце за домом. Туалет тоже там, – он усмехнулся, увидев, как вытянулось лицо Гриши. – Шучу. Туалет в доме. Маленький, но со всеми удобствами. Я ж не дикарь какой, из тайги намедни вышедший.
София с тихим любопытством осматривала комнату.
– А это что? – спросила она, указывая на старую, выцветшую фотографию в простой деревянной рамке.
– Отец мой, – ответил Михалыч, и в голосе его прозвучала не то гордость, не то застарелая тоска. – Он тут рыбаком был. Я от него дом унаследовал.
– А давно вы тут живёте? – спросил Гриша, деловито пристраивая свой раздутый, как бока утонувшего купца, чемодан в угол.
– Всю жизнь, – пожал плечами Михалыч. – Тут родился, тут, видать, и помру.
– А вы не помните… – начала София, но я легонько наступил ей на ногу. Она осеклась.
– Что не помню? – насторожился Михалыч, его взгляд стал внимательнее.
– Не помните, где тут ближайший магазин? – быстро закончил я за неё. – Нам бы продуктов купить.
– А, это, – Михалыч расслабился. – В центре посёлка. Минут пятнадцать отсюда пешком, если не спешить. Только сейчас уж поздно, заперт, поди. У меня в холодильнике есть кое-что. Возьмите. А завтра сходите.
Он открыл маленький, дребезжащий холодильник и достал оттуда пакет с пельменями.
– Спасибо, – поблагодарила София. – Вы очень добры.
– Да ладно, – смутился Михалыч. – Свои люди – сочтёмся.
Когда он ушёл, Гриша с преувеличенным стоном рухнул на скрипучий диван.
– «Изучаем породы», – передразнил он меня. – Теперь он думает, что мы какие-то городские идиоты с причудами.
– Он так не думает, – сказала София, раскладывая свои немногочисленные вещи. – Он милый. И домик хороший. И вид…
Она подошла к окну. Из него открывался потрясающий, почти нереальный вид на Байкал. Солнце клонилось к закату, окрашивая воду и ледяные поля в густые, драматичные тона – от розового до багряного.
– Кстати, – Гриша приподнялся на локте. – Ты ведь хотела его спросить про экспедицию деда?
– Да, – кивнула София, не отрывая взгляда от озера. – Но Виктор прав. Сначала надо осмотреться. Может, здесь есть старожилы, которые что-то помнят. Михалыч слишком молод для тех событий.
Я подошёл к окну и встал рядом с Софией. Байкал лежал перед нами – огромный, древний, хранящий свои тайны. Где-то там, в его холодных глубинах, шестьдесят лет назад исчез человек. И мы приехали, чтобы узнать почему.
– Знаете, – сказал я, глядя на воду, – я вдруг подумал: а что, если мы действительно что-то найдём?
– Научную сенсацию? – хмыкнул Гриша. – Новый вид байкальских рачков, доселе неведомых науке?
– Или затонувшие сокровища? – улыбнулась София.
– Или просто правду, – пожал я плечами. – Иногда это самая большая ценность.
***
Антон Викторович Северцев не любил летать. Тесные кресла, непредсказуемые попутчики со своими запахами и разговорами, спёртый, пропущенный через тысячу фильтров воздух, навязчивый гул двигателей – всё это вызывало у него мигрень и глухое, подспудное раздражение. Но работа есть работа. Особенно когда за неё платят так, что можно позволить себе не любить что угодно.
Он сидел в зале ожидания аэропорта Пулково, делая вид, что углублён в чтение газеты. На самом деле его внимание, острое и цепкое, как у хищной птицы, было приковано к трём людям, расположившимся через несколько рядов. Двое мужчин и женщина. Точнее, девушка – лет тридцати, не больше. Она что-то оживлённо рассказывала своим спутникам, и её тонкие, нервные пальцы то и дело поправляли выбившуюся из причёски прядь.
«София Зор-Зенина», – отметил про себя Антон. Внучка. Вот уже третий день он, как тень, следовал за ней.
Мужчины тоже были знакомы. Григорий Зискинд – историк, специалист по советскому периоду, с энтузиазмом вечно влипающий в сомнительные авантюры. И Виктор Левицкий – журналист, чьи статьи в глянцевых журналах были куда умнее, чем можно было ожидать от этого жанра. Недавние знакомые Софии. Теперь – её подельники.
Объявили посадку на рейс до Иркутска. Антон подождал, пока троица пройдёт к выходу, и только потом поднялся сам. Профессионализм заключался в деталях: не привлекать внимания, быть безликим. Средний рост, непримечательная внешность, одежда, которую не запоминаешь. Единственной его особенностью был шрам – тонкая белёсая ниточка, пересекающая левую бровь. Но чуть отросшие волосы и манера слегка наклонять голову почти полностью его скрывали.
Антон занял своё место в хвосте самолёта, через четыре ряда позади своих подопечных. Идеальная позиция: он видел их, они его – нет. Он достал планшет и сделал вид, что смотрит фильм. На самом деле включил диктофон и направил устройство в их сторону. Шум двигателей, конечно, заглушал большую часть разговора, но иногда до него долетали обрывки фраз. Ничего существенного: бытовые мелочи, шутки, планы на размещение. Но Антон записывал всё. В его ремесле мелочи часто оказывались важнее громких заявлений.
По прошествии часа полёта он прикрыл глаза, имитируя сон. Из-под опущенных век он продолжал наблюдать. София что-то сосредоточенно записывала в блокнот. Зискинд читал книгу, время от времени делая пометки на полях. Левицкий, откинув голову на подголовник, дремал, как человек, которого совесть по ночам не мучает. Или мучает так сильно, что он пользуется любой возможностью от неё отдохнуть.
Антон слегка откинулся в кресле. Впереди были ещё часы полёта и неизвестно сколько дней слежки. Нужно было беречь силы.
***
В аэропорту Иркутска Антон наблюдал за инцидентом с чемоданом и еле сдержал улыбку. Эти трое были такими… трогательными в своей неопытности. Любители. Они и понятия не имели, с какими силами решили помериться.
Антон держался на расстоянии, но не терял их из виду. Когда они договаривались с водителем Toyota Land Cruiser Prado, он вышел на улицу и быстро поймал такси.
– Видите ту машину? – он указал таксисту на отъезжающий внедорожник. – Следуйте за ней. Только держите дистанцию.
– Вы что, шпион? – хмыкнул таксист, мужчина лет сорока с колючей щетиной и зоркими, насмешливыми глазами.
– Нет, – спокойно ответил Антон. – Частный детектив. Слежу за неверным мужем по заказу жены.
– А-а, – понимающе протянул таксист. – Эти туристы часто так. Приезжают на Байкал и думают, что тут край света и их никто не найдёт.
«Если бы ты знал», – подумал Антон, но вслух сказал: – Именно. Поэтому нужно быть незаметными.
Land Cruiser уже выезжал со стоянки. Таксист не спеша завёл мотор и потянулся к радио.
– Вы не против музыки?
– Не против, – кивнул Антон. – Только не слишком громко.
Такси тронулось. Начиналась дорога до Листвянки. Антон держал в поле зрения внедорожник, который ехал впереди метрах в ста. Не слишком близко, но и не так далеко, чтобы его потерять.
Дорога петляла между холмами. За окном мелькали сосны, укрытые лёгкой дымкой. Обычно Антон не обращал внимания на пейзажи – не до того было. Но было что-то в этих местах… какая-то первозданная сила и покой. Что-то, отчего хотелось дышать глубже и думать о вещах, выходящих за рамки повседневных забот.
«Это всё усталость, – одёрнул он себя. – Нельзя расслабляться».
– Красиво, да? – спросил таксист, заметив его взгляд. – Многие говорят, что Байкал – место силы. Я сначала не верил. А потом понял – правда. Что-то есть в нём такое… необъяснимое.
– Сказки, – отрезал Антон.
Когда Land Cruiser свернул на просёлочную дорогу, ведущую к посёлку, Антон попросил таксиста остановиться.
– Дальше я пешком, – сказал он. – Здесь слишком заметно.
– Как скажете, – кивнул таксист. – Может, телефон оставить? Если понадоблюсь.
– Не стоит, – покачал головой Антон. – Я справлюсь.
Он расплатился, добавив щедрые чаевые, и вышел на обочину. Подождал, пока такси скроется за поворотом, и двинулся вперёд. Он был в отличной форме и мог долго идти быстрым шагом, не уставая. Дорога шла под уклон, и вскоре показались первые дома Листвянки.
Антон замедлил шаг и осмотрелся. Маленький посёлок, растянувшийся вдоль берега. Туристический сезон ещё не начался, и улицы были почти пусты. Это усложняло задачу – слишком легко выделиться среди немногочисленных местных. С другой стороны, он мог видеть почти весь посёлок с холма, на котором стоял.
Он достал из кармана небольшой бинокль и осмотрел местность. Land Cruiser заметил почти сразу – тот стоял у небольшого деревянного дома на склоне холма. Трое наблюдаемых как раз выгружали вещи. Антон отметил расположение дома и прикинул наилучшую позицию для наблюдения.
Опустив бинокль, он обошёл посёлок по краю леса и вышел к небольшой гостинице. Непримечательное трёхэтажное здание с вывеской «Лусуд-Хан Отель». Идеальное место – отсюда открывался вид на дом, где поселились подопечные.
В гостинице было пусто. За стойкой дремала пожилая бурятка с усталым лицом и волосами цвета перезрелой рябины.
– Здравствуйте, – сказал Антон. – Нужен номер на несколько дней.
– Паспорт, – не открывая глаз, сказала женщина.
Антон достал паспорт. Конечно, не настоящий. Для таких дел у него был комплект документов на разные имена. Сейчас он был Павлом Руденко, менеджером из Екатеринбурга.
Женщина открыла глаза, лениво взяла паспорт, так же лениво внесла данные в потрёпанный журнал.
– Номер на втором этаже, с видом на озеро. Завтрак с восьми до десяти. Оплата вперёд.
Антон расплатился и взял ключ. Поднялся в номер – маленькую, но чистую комнату с узкой кроватью, столом и шкафом. Главное – из окна открывался вид на домик, где остановились наблюдаемые.
Он достал из сумки фотоаппарат с мощным зумом и установил его на штатив у окна. Настроил, сделал несколько пробных снимков. Затем достал ноутбук, подключил к нему камеру и запустил программу, которая с заданным интервалом в две минуты делала серию снимков и сохраняла их в зашифрованную папку.
Он видел, как троица освоилась в доме. Видел, как ушёл местный, что их привёз. Видел, как они стояли у окна, глядя на Байкал.
***
Утро выдалось морозным и на удивление солнечным. Лучи, пробивавшиеся сквозь мохнатые лапы сосен, плясали по стенам весёлыми зайчиками. Я проснулся от ощущения, будто кто-то настойчиво прикладывает к моей спине кусок льда – это сползшее на пол одеяло вероломно открыло доступ утреннему холоду.
Гриша уже не спал. Он сидел на кухне, красный, как снегирь, закутавшись в свитер, и таращился в окно с видом философа, постигшего тщетность бытия, но не нашедшего в этом ни малейшей радости.
– Доброе утро, – поприветствовал я его.
– Ничего доброго, – буркнул он. – Вода вон в чайнике замёрзла.
– Не нагнетай драмы, – я заглянул в чайник. – Она просто холодная.
Из соседней комнаты появилась София, закутанная в одеяло так плотно, что напоминала кокон гигантской бабочки, ещё не готовой явить себя миру.
– Вы не поверите, но у меня изо рта идёт пар, – сказала она. – В комнате!
– Добро пожаловать на Байкал, – развёл руками Гриша. – Отличное время для научных изысканий, не правда ли?
Я разжёг газовую плиту и поставил на неё кастрюлю с водой.
– Пельмени на завтрак, – объявил я. – Вчерашние. Традиционная сибирская кухня.
– Скорее уж, традиционная студенческая, – невесело усмехнулась София.
Пока вода закипала, я подбросил дров в печку. Маленькие язычки пламени жадно вцепились в сухие поленья, и скоро по комнате разлилось густое, смолистое тепло.
София наконец выбралась из своего одеяльного кокона и подошла к окну.
– Смотрите, – прошептала она. – Какая красота…
За окном, во всём своём ослепительном, почти безжалостном великолепии, лежал Байкал. Синева воды у берега была такой густой, что казалась почти чёрной, а дальше, к горизонту, переходила в пронзительный ультрамарин, резко контрастируя с белизной ледяных полей. Словно кто-то провёл по карте линию, разделяя зиму и робкую, неуверенную весну.
– И всё-таки, что мы будем делать сегодня? – спросил Гриша. – У нас есть план?
Я всыпал пельмени в кипящую воду.
– Пока они варятся, мы можем обсудить варианты.
Гриша достал из своего рюкзака ноутбук и водрузил его на стол.
– Так, давайте посмотрим, – София уселась рядом с Гришей. – Вот мы здесь, домик Михалыча. Это, кажется, краеведческий музей, – она указала на точку на карте. – А вот тут пристань, где швартуются туристические суда.
– И где, по-твоему, искать людей, помнящих события шестидесятилетней давности? – спросил я, помешивая пельмени. – На пристани?
– Логично начать с музея, – пожала плечами София. – Там должны быть архивы.
– Ерунда! – Гриша махнул рукой, едва не смахнув со стола ноутбук. – Ты думаешь, они там хранят отчёты о засекреченной экспедиции шестидесятилетней давности? Между чучелом медведя и самоваром?
– Тогда спросим местных, – не сдавалась София. – Особенно пожилых. Такие истории обычно передаются из уст в уста.
Я выловил первый пельмень на пробу.
– Пельмени готовы.
Мы расселись вокруг стола, и я разлил чай по кружкам. Вкусный запах заполнил комнату.
– Итак, варианты, – начал я, накалывая пельмень на вилку. – Конечно, можно пойти в местный краеведческий музей, если он тут есть. Но так, ради интереса. Информации там мы не найдём.
– Скорее, нам её не дадут, – пессимистично заметил Гриша.
– Или найти рыбаков, – предложила София. – Они всё знают. Особенно старые.
– Или спросить Михалыча, – сказал я.
София посмотрела на меня с удивлением.
– Ты же вчера был против.
– Передумал, – я пожал плечами. – После того как увидел вчера этот… – я махнул рукой в сторону окна. – Байкал. Он огромный. А мы ищем что-то, случившееся шестьдесят лет назад. Нам нужна помощь местных.
– Виктор прав, – кивнул Гриша. – Нет смысла скрывать. Михалыч показался мне нормальным мужиком. Может, он и не помнит тех событий, но наверняка знает, кто помнит.
– Тогда решено, – София отхлебнула чай. – После завтрака поищем Михалыча.
Но найти его оказалось не так просто. Мы позвонили на номер, который он оставил, однако никто не отвечал.
– Придётся искать самим, – сказала София, застёгивая куртку. – Пройдёмся по посёлку. Заодно и с местностью познакомимся.
Воздух снаружи был пронзительно свежим. Пахло хвоей, дымом и чем-то ещё – особым байкальским ароматом, который невозможно описать словами. Мы спустились по узкой тропинке, ведущей от домика к главной улице.
Листвянка оказалась небольшим посёлком, вытянувшимся вдоль берега. Деревянные, почерневшие от времени дома с резными наличниками здесь без всякого стеснения соседствовали с безликими коробками из силикатного кирпича и сайдинга. Несмотря на то что туристический сезон ещё не начался, в посёлке ощущалось какое-то движение: местные жители спешили по своим делам, несколько автобусов с китайскими туристами выгружались на набережной.
– С чего начнём? – спросил Гриша, поёживаясь от прохладного ветра.
– С магазина, – решительно сказала София. – Нам нужны продукты. А продавцы обычно знают всё и всех.
Магазин обнаружился через пару минут ходьбы – небольшой, но по местным меркам, видимо, считался солидным супермаркетом. Внутри было тепло, пахло свежим хлебом и копчёностями.
За прилавком, напоминавшим скорее капитанский мостик, откуда ведётся наблюдение за всем посёлком, стояла женщина лет шестидесяти с лицом, на котором житейская мудрость и неистребимое любопытство смешались в самых правильных пропорциях.
– Добрый день, – поздоровалась София. – Мы остановились в домике Михалыча. Не знаете, где его можно найти?
Женщина окинула нас внимательным взглядом.
– А вы кто будете? Туристы?
– Нет, мы из Санкт-Петербурга, прие… – начал было Гриша, но я перебил его:
– Мы исследователи. Изучаем историю научных экспедиций на Байкале.
Женщина посмотрела на нас с сомнением.
– Михалыч с утра на рыбалку ушёл. Вернётся к вечеру, наверное. А что за экспедиции такие?
София достала из кармана старую фотографию и протянула ей.
– Вот эта. Может быть, вы знаете кого-нибудь, кто помнит о ней?
Женщина взяла фотографию, надела очки, висевшие у неё на шее на цепочке, и долго всматривалась.
– Это же… погодите-ка. Это не… профессор… профессор… Зен-Зорин?
София вздрогнула.
– Зор-Зенин.
– Да, точно! – женщина вернула фотографию. – У нас эта история как легенда ходит. Всяк её слышал. Они искали что-то на дне, а потом – раз! – и пропали. То есть не все. Один пропал, остальные вернулись.
– Этот один – мой дед, – тихо сказала София.
Женщина всплеснула руками.
– Да ты что! А я-то думаю…
– Вы его знали? – удивилась София.
– Нет, что ты, – покачала головой женщина. – Я тогда ещё и не родилась. Но фотографии видела. У Михалыча есть альбом. Его отец с ними работал.
– С Михалычем нужно поговорить, – оживился я.
– Нужно, – кивнула женщина. – Только, я же говорю, он с утра на рыбалку ушёл. Вон туда, – она махнула рукой в сторону озера, видневшегося в окне. – Видите мыс? За ним бухта есть. Он там всегда рыбачит, когда лёд сходит.
Мы поблагодарили женщину, купили хлеба, колбасы и чая, и вышли на улицу.
– Что скажете? – спросил я.
– Идём на мыс, – решительно сказала София. – Найдём Михалыча.
– Только давайте сначала тёплые вещи возьмём, – предложил Гриша. – У воды наверняка ещё холоднее.
Мы быстро вернулись в домик, переоделись теплее и, вооружившись термосом с горячим чаем, отправились на поиски Михалыча.
Дорога к мысу оказалась не такой уж близкой. Сначала мы шли вдоль набережной, потом свернули на узкую тропинку, которая вилась между камней. Ветер с озера, казалось, пытался залезть под куртку и выстудить из нас остатки петербургского тепла, но мы почти не замечали этого, заворожённые суровой красотой Байкала.
За очередным поворотом тропинки мы увидели маленькую бухту, окружённую скалами. У самой кромки воды сидел, сгорбившись, мужчина в тёплой куртке и шапке-ушанке. На его обветренном, тёмном от загара лице застыло то самое выражение полного отрешения от мира, которое бывает только у настоящих рыбаков. Рядом с ним стояло ведро и лежала удочка.
– Вот он, наверное, – шепнула София и громко окликнула: – Здравствуйте! Михалыч!
Мужчина медленно повернулся.
– А, исследователи пород, – хрипло отозвался он. – Как вы меня нашли?
– Перед обаянием Гриши не устоит ни одна продавщица магазина, – начал я.
– Валентина разболтала? – догадался Михалыч, прищурившись. – Язык без костей, это про неё.
– Мы у неё об экспедиции профессора Зор-Зенина спросили, вот она к вам нас и направила.
Михалыч хмыкнул.
– Зачем это вам?
– Александр Николаевич Зор-Зенин – мой дед. Мы хотим узнать, что с ним случилось.
Михалыч замер. Улыбка медленно сползла с его лица, взгляд стал серьёзным, почти жёстким.
– Зор-Зенин, говоришь? – он медленно поднялся на ноги. – Ну, тогда нам есть о чём поговорить. Только не здесь. Пойдёмте ко мне. Я всё равно сегодня не порыбачу – рыба не идёт.
