КОГДА МУХИ НЕ СПЯТ
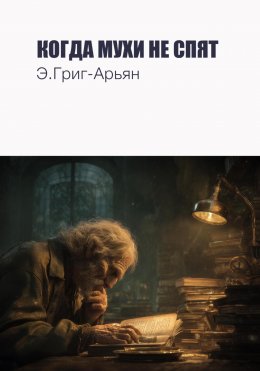
Сын человеческий
Он стоял там. Рене Магритт. Неподвижно. Застывший в этом плоском, не прощающем свете, что не отбрасывал теней, но лишь подчеркивал ту странную, оскорбительную обыденность его облика. Человек. Да, человек – так, как его вылепило время, как его сковало это неумолимое, требовательное, вечно спешащее время, облачившее его в эту «униформу» – не солдата, нет, но нечто куда более коварное, куда более прочное. Пальто. Темное, глухо застегнутое, скрывающее – что? – грудь, дыхание, то слабое, уязвимое биение жизни, что отличает живое от камня или хорошо сшитого манекена. Пуговицы, рядком, как маленькие, немые свидетели его нерушимости, его отгороженности. И шляпа. Котелок. Твердая, круглая скорлупа, венчающая голову, скрывающая волосы, форму черепа – все то личное, что могло бы хоть намеком выдать в нем «этого» человека, а не «любого» человека. Он стоял так, будто ждал чего-то, но без всякой надежды, без нетерпения – просто стоял, как скала, как столб, как нечто, что время могло бы обтесать, но не сдвинуть.
За ним – или, быть может, «перед» ним, ибо свет был столь обманчив, а пространство вывернутым наизнанку – простиралось нечто неопределенное. Низкий парапет, грубый камень, линия раздела. Раздела между ним – этим плотно упакованным, непроницаемым «Я» – и тем, что лежало за ним. А за ним… Господи, что там лежало? То ли море – серое, свинцовое, без горизонта, без чаек, без волн, что бьются о берег с тем шумом, что напоминает о жизни и смерти, просто серая, бездонная «масса» воды, несущая в себе тяжесть всех невыплаканных слез мира. То ли небо – такое же серое, такое же бездонное, низкое, давящее, полное невысказанных угроз и предчувствий, которое не обещало ни солнца, ни звезд, ни даже дождя – просто «серость», простирающаяся до бесконечности. А может, это был дым. Дым заводов, дым городов, дым всех тех усилий, что человек прилагает, чтобы скрыть от себя самого свою собственную пустоту или свою собственную, неудобную, дикую природу. Неважно, что это было. Важно, что это было «там», за парапетом, за границей его мира, и оно было велико, безлико и равнодушно.
И вот тогда. «Тогда». Прямо перед ним. Не в руках, не в кармане, не на земле – но в воздухе. Висящее. Невозможное. Яблоко. Зеленое. Сочное. Невероятно, вызывающе «зеленое» на фоне всей этой серости и черноты. И оно не просто висело. Оно «заслоняло». Заслоняло «лицо». Ту часть человека, что должна была говорить о нем все – глаза, морщинки у рта, линия челюсти, – все то, что делает его «этим» человеком, а не безликой фигурой в пальто. Яблоко. Круглое, совершенное, банальное и при этом – чудовищно, непостижимо важное. Оно висело там, как завеса, как барьер, как тайна, которую нельзя разгадать, потому что она… слишком проста? Слишком сложна?
«Сын человеческий», – сказал бы он сам, или кто-то другой сказал бы о нем, глядя на эту фигуру, застывшую в неопределенности. Сын человеческий. Как тот, первый, что ел яблоко в другом саду, и как все те, что пришли после него, несущие на себе бремя этого знания, этого выбора, этой вечной, неутолимой жажды чего-то – чего? – что всегда оказывается скрытым, всегда заслоненным чем-то другим, чем-то таким же простым и таким же непонятным, как это зеленое яблоко. Это не яблоко греха, может быть, в чистом виде. Это яблоко «скрытого». Яблоко «невидимого». Яблоко «Я», которое спрятано так глубоко под слоями приличий, страхов, желаний и вот этого самого, обыденного, зеленого яблока, что ни сам человек, ни тот, кто смотрит на него, уже не может его разглядеть. Он стоит там, Сын человеческий, в своем пальто и шляпе, перед серым ничто, и перед его лицом висит яблоко – яркое, живое, зеленое – вечное напоминание о том, что самое главное в нем остается… «невидимым». Навсегда. Спрятанным за этой круглой, зеленой, совершенно обычной тайной.
Наоборот
Гюисманс. Жорис-Карл Гюисманс. Имя, которое звучало как сухой кашель в затхлой комнате. Тогда, в те годы, когда мир задыхается от собственной пошлости, когда каждый день был похож на предыдущий, серый, скрипучий, как несмазанная телега по разбитой дороге, – появилась эта книга. Нет, не просто книга, не стопка бумаги с чернилами, которую можно пролистать и забыть, а… ну, как если бы кто-то взял всю усталость мира, всю его боль от красоты, которая оказалась грязью, и спрессовал это в один плотный, удушливый комок. «Наоборот», – так она называлась. À rebours. Или «Против шерсти», или «Против природы», названия менялись, как тени в сумерках, но суть оставалась той же: что-то, что шло наперекор, что-то вывернутое наизнанку, как грязная перчатка.
Восемьдесят четвертый год, тысяча восемьсот восемьдесят четвертый – кажется, это было вчера, а на самом деле целая вечность прошла, и все изменилось, и ничего не изменилось, потому что та тоска, то отвращение к миру, они никуда не делись, они просто спрятались поглубже, как змеи в траве.
И герой… если можно назвать его героем. Дез Эссент. Жан дез Эссент. Последний в роду, выродившийся, болезненный, с нервами тонкими, как паутина, и душой, натертой до мозолей от постоянного соприкосновения с реальностью. Он не делал ничего, по сути, в этой книге. Он был. Он чувствовал. Он отгораживался. Как улитка прячется в раковину, только его раковина была поместьем Фонтене, выстроенным не из известняка, а из его собственных прихотей, из его отвращения, из его болезненной тяги к искусственному.
Он там сидел. Один. Среди своих книг – нет, не тех, что читают все, а тех, что забыты, что пахнут пылью веков и ересью. Среди своих цветов – не живых, вонючих от земли и росы, а искусственных, сделанных из шелка и металла, идеальных в своей неестественности. Он создавал запахи, как алхимик яды или эликсиры, смешивая их, чтобы вызвать воспоминания, чтобы утонуть в них, чтобы забыть, что за стенами есть мир, где пахнет потом и навозом. Он играл на своем «органе для ликеров», нажимая клавиши, и каждый вкус был нотой, аккордом в этой странной, пьянящей симфонии его одиночества.
И та черепаха… Господи, та черепаха! Ползет себе по ковру, медленная, древняя, сама природа во плоти, и он, Дез Эссент, смотрит на нее и видит… нет, не черепаху, а дисгармонию, пятно на своем идеальном, продуманном до мелочей искусственном мире. И что он делает? Он не убивает ее, нет, это слишком просто. Он берет ее, живое существо, и превращает в предмет, инкрустируя ее панцирь драгоценными камнями, превращая ее медленное ползание в тяжелый, сверкающий танец смерти, чтобы она вписывалась в его проклятый ковер. Превращая жизнь в ювелирное изделие, в красивый, бессмысленный груз.
Это была книга не о жизни, а о бегстве от нее. О том, как можно построить тюрьму из красоты, как можно умереть, захлебнувшись в собственных ощущениях. Это был крик. Тихий, удушенный крик в подушку из бархата.
Говорили, что прототипом был Монтескью, граф какой-то там, денди, фантом, скользящий по парижским салонам, весь из себя утонченный и пустой, как выеденное яйцо. Может быть. А может, это был собирательный образ всех, кто чувствовал себя чужим в этом новом, грохочущем веке. А может, это был сам Гюисманс, глядящий в зеркало и видящий там призрак усталости и отвращения.
И когда она вышла… о, когда она вышла! Это был скандал. Натуралисты, эти крепкие мужики, что нюхали грязь и писали о ней без прикрас, они плевались, говорили, что это яд, что это конец всему. Золя, их вожак, говорят, чуть не задохнулся от негодования. Но другие… те, кто чувствовал то же самое, кто тоже задыхался от этой липкой, сладкой пошлости, кто искал выход, пусть даже в безумии или в искусственности, они… они увидели в ней себя. Она стала их знаменем. Их библией. Декаданс, шептали они, вот оно. Вот куда мы идем. Вниз, в красоту распада.
И потом… потом этот англичанин, Уайльд, взял ее, эту книгу, и вложил в руки своего Дориана Грея. И она там, в той истории, стала не просто книгой, а отравой, медленно действующим ядом, что отравляет душу, показывает ей все мерзости и соблазны, заставляя ее гнить изнутри, пока лицо остается молодым и красивым. Вот какое влияние она имела. Как семя разложения, брошенное в плодородную почву.
А сам Гюисманс? Он не остановился. Нет. Он пошел дальше, или глубже, или еще куда-то в эту темноту. Он писал про сатанизм, про черные мессы, гоняя своего нового героя, Дюрталя, по самым грязным подвалам души и мира. И потом… потом он нашел Бога. Или Бог нашел его. Он ушел в монастырь, или почти ушел, стал послушником, и последние его книги – это уже совсем другое, это поиск спасения, это запах ладана после запаха серы и искусственных духов. Как будто, пройдя через всю эту грязь и всю эту вычурную искусственность, он смог увидеть что-то… настоящее. Или просто устал. Устал от всего, даже от собственного декаданса.
Но «Наоборот»… она осталась. Как памятник. Памятник эпохе, памятник человеку, который пытался построить свой рай из мусора и гнили, и который показал всем, что красота может быть смертельно опасной, а искусственность – единственным убежищем от невыносимой реальности. И до сих пор, когда листаешь эти страницы, чувствуешь этот странный, болезненный аромат – смесь старой бумаги, экзотических ликеров и той невыразимой тоски, что жила в сердце последнего из рода дез Эссентов, а может, и в каждом из нас, кто хоть раз чувствовал себя… наоборот. Против шерсти.
Давид с головой Голиафа
…и вот она, висит там, на стене, не просто краска на холсте, нет, но какая-то черная дыра, высасывающая воздух из легких, оставляющая лишь привкус старой пыли и чего-то еще, чего-то вроде запекшейся крови, хотя, конечно, ее там нет, невидимая, но чувствуешь ее, как чувствуешь приближение грозы задолго до первого раската грома. Это «его» работа, Караваджо, тот самый, что сам был беглец, убийца, человек, которого жизнь и смерть пережевали и выплюнули где-то на обочине, и вот он, выплюнул «это» обратно на мир, эту… эту правду, завернутую в ночь.
Свет. Не тот свет, что льется из окна в солнечный день, нет, и не тот, что мягко скользит по бархату или атласу, а свет резкий, жестокий, словно луч фонаря, выхватывающий из непроглядной тьмы лишь то, что нужно, только то, от чего нельзя отвернуться, что бьет прямо в глаза, обжигая сетчатку. И из этой тьмы, этой бездонной, всепоглощающей тьмы, что, кажется, могла бы поглотить и саму стену, и весь зал, и тебя самого, если бы ты позволил, выступает он.
Мальчик. Да, мальчик, еще не мужчина, с гладкой кожей, не тронутой ни ветром, ни горем, но уже… уже надломленный. Его лицо не сияет триумфом, нет, и в глазах нет ни праведного гнева, ни ликования победителя, ничего такого, о чем поют в церквях или пишут в книгах для детей. В его глазах – усталость. Глубокая, древняя усталость, которая, кажется, пришла к нему не с годами, а с этим… с «этим». Он смотрит на то, что держит, не с гордостью, не с отвращением даже, а с какой-то тихой, мучительной печалью, словно это не трофей, а тяжесть, которую он вынужден нести, бремя, которое легло ему на плечи с того самого момента, как камень покинул его пращу, а меч опустился. Руки его напряжены не от усилия, а от невидимого груза, который не измерить ни в фунтах, ни в унциях, но который гнет его к земле сильнее любого металла.
И вот. «Это». То, что он держит за волосы, свисающее, тяжелое, оторванное от жизни и от тела. Голова. Не просто голова великана из сказки, нет, а «голова», с которой только что сняли жизнь, с которой смерть еще не успела стереть последнюю гримасу ужаса и боли. Глаза полуприкрыты, но в них еще брезжит отражение последнего мгновения, последнего вздоха, последнего крика, застрявшего где-то глубоко в пересохшем горле. Рот приоткрыт, словно пытаясь выдохнуть то, что уже невозможно выдохнуть. И рана на лбу, кровавая, темная, точка, с которой все началось и все закончилось.
Но самое страшное, самое пронзительное, самое… самое «караваджевское» в этом – это то, «чье» это лицо. Они говорят, и ты «знаешь», что они правы, что это он сам. Сам художник. Беглец. Убийца. Человек, чья жизнь была искуплением, или попыткой искупления, или просто бесконечным бегством от того, что он сделал. Он изобразил себя не в сиянии славы, не в величии, а в самом низшем, самом униженном виде – обезглавленный, побежденный, брошенный к ногам юности или правосудия, или, может быть, своей собственной потерянной невинности. Это его собственное лицо, искаженное агонией, смотрящее с холста на мир, на себя, на мальчишку, который его держит, с немым упреком или с последней мольбой о прощении.
Это не история о победе добра над злом, нет. Это история о цене. О цене насилия, о цене греха, о цене жизни, отнятой рукой человека, даже если это была рука, движимая, как говорят, божественной волей. Это тяжесть, которая ложится на душу, как отрубленный кусок плоти ложится на руку мальчика. Это не триумф, а… послевкусие. Горькое, металлическое послевкусие крови и утраты, которое остается с тобой долго после того, как ты отвернулся от холста, долго после того, как покинул душный зал, долго после того, как свет погас в твоих собственных глазах. И ты стоишь там, перед этой черной дырой в стене, и чувствуешь, как эта тяжесть, эта древняя, невысказанная печаль, просачивается в тебя, оседая где-то глубоко внутри, рядом с твоими собственными несказанными историями, твоими собственными грехами и твоими собственными потерями, и ты понимаешь, что эта картина – это не просто изображение, это… это свидетельство. Свидетельство о том, что человек делает с человеком, и о том, что остается после. И остается только тьма, и тяжесть, и тихая, невыносимая печаль.
Gnossienne No. 1
Представь себе не просто описание, а… погружение. Вязкое, как южный зной, но здесь, под парижской мансардой, это скорее духота запертого времени, пыль, осевшая на все, даже на звуки.
И вот он сидит, некий человек, чье имя не столь важно, сколь важен груз на его плечах (груз ли? или просто форма, которую приняло время?), сидит в этой комнате, где воздух кажется плотнее воды, а свет, пробивающийся сквозь вековую грязь оконного стекла, не освещает, а лишь высвечивает бесконечные, медленно танцующие в нем пылинки – каждая, возможно, осколок чьей-то забытой секунды, чьего-то невысказанного слова. И из какого-то угла, или из самой сердцевины этой тишины, рождается звук. Не начинается внезапно, нет, он проявляется, словно старая фотография в проявителе, постепенно обретая форму из небытия.
Это Gnossienne. Само слово, придуманное им, этим странным человеком с зонтиком и моноклем, пахнущее пылью библиотек и чем-то древним, критским, или, быть может, просто запахом старой бумаги, на которой оно было написано – Gnossienne, тяжелое, как камень, брошенный в тихую воду прошлого, расходящееся кругами, которые никогда не достигают берегов настоящего. И это «Первая».
Она ползет. Да, именно ползет, Lent et douloureux – Медленно и болезненно, или скорее печально, да, печально, как взгляд, устремленный на пустую улицу под осенним дождем, взгляд, не ожидающий ничего, но и не отвергающий ничего. Это не просто темп, это состояние бытия, состояние этой комнаты, этого человека, этого мира, который она вызывает. Ритм… а есть ли ритм? Или это просто пульс, но пульс не живого существа, а чего-то очень старого, минерального? Длинная нота, за ней короткая, потом снова длинная – та-там, та-ам – словно чьи-то шаги, очень медленные, очень уставшие, идущие по бесконечному коридору, устланному пылью. Шаги, которые не спешат прийти куда-либо, потому что, возможно, идти некуда, или потому что все места, куда можно было прийти, уже исчезли, растворились в этой самой пыли. И нет тактовых черт, нет этих жестких клеток, в которые мы пытаемся запереть время, звук свободен, он просто есть, разворачиваясь, как древний свиток, на котором написана всего одна фраза, повторяющаяся снова и снова, но каждый раз с новым, едва уловимым оттенком печали.
Мелодия… если это можно назвать мелодией. Это скорее узор, нарисованный на тишине. Простой, примитивный, состоящий из нескольких нот, повторяющихся, варьирующихся лишь самую малость, словно память, которая цепляется за один и тот же образ, пытаясь вытянуть из него что-то новое, но находя лишь подтверждение старой, неизменной боли. Гармония… она не развивается, не движется к разрешению, нет. Она замирает. Параллельные аккорды, идущие рука об руку, как два призрака, не способные отделиться друг от друга, создающие ощущение статики, вечной неподвижности, словно время замерло в этом аккорде, зависло в воздухе вместе с пылинками. Это не музыка для движения вперед, это музыка для пребывания. Для погружения в себя, в плотный, душный воздух воспоминаний, в вязкий поток сознания, где прошлое и настоящее сливаются в одно бесконечное сейчас.
И эти указания – не для пальцев на клавишах, нет, они для души. Sur un banc – На скамейке. Сиди. Просто сиди. Не двигайся. Смотри на пыль. Conseillez-vous – Посоветуйся с собой. С какой частью себя? С той, что помнит? С той, что болит? С той, что уже не существует? Pas à pas – Шаг за шагом. Вот так и движется звук, вот так и движется эта мысль, вот так и движется жизнь в этой комнате, в этой музыке – медленно, неохотно, шаг за шагом, словно боясь разбудить что-то, что лучше оставить спящим в пыли.
Сад земных наслаждений
Словно пожелтевший, хрупкий лист, вырванный из старой, пахнущей пылью и чем-то еще, чем-то вроде застоявшейся воды или сгнивших персиков, фамильной хроники, что хранится где-то на чердаке, под стропилами, где воздух густой от времени и невысказанных тайн. Вот как он встал перед нами тогда, этот триптих, не просто картина, нет, но порог, распахнутый в самые глубины того, что мы зовем человеком, а может, просто в самые грязные сточные канавы его души, в те места, куда даже мысль боится заглянуть, те, что спрятаны под наслоениями приличий и пыли веков, но которые, как кровь, все равно просачиваются наружу, окрашивая все вокруг.
Он стоял там, Босх, или, вернее, его творение, тяжелое, на своих петлях, как старый сундук, полный не золота и драгоценностей, а какой-то извращенной, болезненной памяти. Створки закрыты, и вот он – мир, еще не оскверненный, или, может, просто еще не начавший оскверняться, мир в монохроме, в серо-зеленых, туманных тонах, словно увиденный сквозь мутное стекло или через завесу дождя, что идет уже сотню лет и не собирается останавливаться. Земля, молодая, еще не израненная плугом и не пропитанная кровью, заключенная в эту хрупкую, прозрачную сферу, как мыльный пузырь, готовый лопнуть от одного неверного вздоха. И эта надпись, эта латынь, холодная, как камень: «Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Слово. Еще только Слово, прежде чем оно стало плотью, прежде чем плоть стала грехом, прежде чем грех стал наказанием. Это было до. До всего этого невыносимого, липкого, кричащего сейчас. Обещание покоя, обещание чистоты, которое, как мы знаем, как кровь наша знает, было ложью. Всегда было ложью.
А потом… О, потом. Петли скрипнули, старый, усталый стон дерева под тяжестью веков и того, что оно скрывало. И створки распахнулись. И мир взорвался. Не золотом и светом, как должно быть в историях, нет, а каким-то диким, неистовым, болезненным цветом, вихрем форм, который ударил по глазам, по нутру, по самым потаенным, стыдным уголкам сознания.
Слева – Рай. Так его называют. Земной Рай. И да, вот он – Бог, или кто-то, кого они зовут Богом, соединяет руки Адама и Евы. Невинность, да? Должна быть невинность. Но посмотри повнимательней. Посмотри на эту траву, слишком пышную, слишком… живую, извивающуюся у ног. Посмотри на этих тварей. Слон, да, жираф, да, единорог, конечно. Но вот там, внизу, кот – он уже держит мышь. И эта птица, она несет в клюве лягушку. И фонтан. Этот проклятый фонтан. Он не из камня, не из чистого света. Он похож на что-то… органическое. На что-то, что растет, что пульсирует, что дышит смутной, тревожной жизнью, обещая плодородие, да, но и что-то еще, что-то липкое и опасное. Это не невинность. Это предчувствие. Тревога, разлитая в воздухе, как запах грозы или испорченного молока. Рай, в который уже заползла тень, и ты знаешь, ты просто чувствуешь это на своей коже, что долго он не продержится. Что-то уже сломано, или вот-вот сломается.
А центр… О, Господи, центр. Это не сад. Это… это кипящий котел. Это поле битвы, но не битвы с оружием, а битвы с самим собой, с собственной плотью, с собственным желанием. Тысячи их, обнаженных, словно только что вылупились из каких-то гигантских, грязных яиц, и вот они там, кружатся, ползают, ныряют, едят. Едят эту чертову клубнику, размером с человеческую голову, едят вишни, сидят в этих ягодах, словно в лодках или колыбелях. Они ездят верхом на животных – на лошадях, на ослах, на медведях, на каких-то фантастических тварях, которые могли привидеться только в лихорадочном бреду. Они сидят в этих прозрачных пузырях, хрупких, как обещание счастья, или в каких-то странных, похожих на раковины или цветы сооружениях, которые выглядят одновременно манящими и отталкивающими. Эротика? Да, она там, она разлита в воздухе, как сладкий, приторный запах гниющих фруктов. Но это не красота. Это… это просто делание. Бессмысленное, неуемное, нескончаемое делание.
Это не рай, не земля, какой ее создал Господь для жизни. Это… это состояние. Состояние одержимости, погружения в плоть, в чувство, в мгновение, которое никогда не насыщает, а лишь подталкивает к следующему, и следующему, и следующему. Это мир, где нет цели, нет смысла, кроме самого процесса этого дикого, яркого, немного безумного существования. Это может быть мир до Потопа, мир, утонувший в собственной похоти, мир, который просил о гневе Божием, сам того не понимая. Или это просто… мы. Все мы. Затерянные в этом огромном, переполненном саду, который на самом деле является лишь пыльной, душной ареной, где мы повторяем одни и те же движения, гоняясь за теми же призраками удовольствия, которые, как эти гигантские ягоды, оказываются пустыми внутри или слишком быстро гниют. Это не осуждение. Это… констатация. Холодная, отстраненная, но от этого не менее ужасающая констатация того, что мы есть. Того, что мы делаем.
И потом – Ад. О, этот Ад. Не просто огонь и сера, нет. Это… это «фабрика». Фабрика по переработке греха в страдание, но с какой-то дьявольской, извращенной фантазией. Переход резкий, как удар под дых. Из буйства цвета и движения – в мрак, в эти руины, охваченные огнем, в лед, что сковывает и жжет одновременно. И музыка. О, Господи, эта музыка. Инструменты. Любимые нами инструменты, ставшие орудиями пытки. Люди, распятые на струнах лютни, запертые внутри барабанов, вынужденные слушать эту какофонию боли и отчаяния. Это наказание, да, но оно связано с земными наслаждениями, с шумом, с суетой, с той самой музыкой, что сопровождала их дикие танцы в Саду.
И эти твари… Они больше не просто животные. Это демоны, гротескные, ужасающие, воплощение наших собственных страхов и пороков. Птица с котлом на голове, что жрет людей. Человек, пригвожденный ко льду, его внутренности вываливаются – за чревоугодие, конечно. И там, в центре этого кошмара … Древо-человек. Его тело – разбитое яйцо, пустое внутри, поддерживаемое этими тонкими, корявыми ногами-ветвями. Одна нога в лодке, другая… просто стоит там, на льду или на грязи. А внутри этого яйца – таверна. Таверна, где демоны пьют и играют, а люди корчатся в муках. Это символ. Символ человека, который разрушил себя изнутри, который стал своим собственным адом, своей собственной пустой скорлупой, наполненной только страданием и насмешками демонов. Это не просто конец. Это… «урожай». Урожай того, что было посеяно в Саду. Логическое, неизбежное завершение пути, начатого с первого шага в этот мир, где невинность оказалась хрупкой, а наслаждение – лишь дорогой в бездну.
Он стоит там, этот триптих. Тяжелый. Молчаливый, но кричащий одновременно. Он не объясняет. Он просто показывает. Показывает мир, который мы так отчаянно пытаемся понять, но который, может быть, не нуждается в понимании, а лишь в том, чтобы быть увиденным. Увиденным во всей его дикой, прекрасной, ужасающей сложности. Это не просто картина XV века. Это зеркало. Зеркало, в которое мы смотрим, и видим… себя. Свои желания, свои страхи, свои райские сады, которые всегда находятся на грани превращения в ад. И запах. Этот запах пыли, старого дерева и чего-то еще… Чего-то, что пахнет одновременно сладкими ягодами и горящей плотью. Он остается с тобой надолго, долго после того, как ты отошел от него. Он въедается в кожу, в память, в самые глубокие, темные уголки души. Как кровь. Как время. Как грех.
Винсент Ван Гог
..и вот оно, это место, этот самый Прованс, не просто земля, нет, а идея, вбитая ему в голову, словно гвоздь, пылающая под этим безжалостным солнцем, которое не смягчало, а только выжигало все лишнее, оставляя лишь кости и жар, – идея «Мастерской». Не просто место для работы, а убежище, ковчег, где души, горящие тем же огнем (а его огонь был, Господи, он был как пожар в сухой траве, пожирающий все на своем пути, включая самого себя), могли бы собраться, дышать одним воздухом, обмениваться этим странным, опасным топливом, что они называли искусством. И он, Винсент, с этой своей лихорадочной, неистовой верой, которая была наваждением, ждал его, ждал «его», Гогена, как ждет апостол пришествия, как ждет пустыня дождя, видя в нем не просто художника, нет, а ось, вокруг которой могло бы закрутиться это его Солнце, этот его Юг. Тео, бедный Тео, вечно в тени этого бушующего пламени, пытался помочь, подталкивал – ну, конечно, подталкивал, ведь кто еще мог понять эту одержимость, кто мог попытаться направить этот поток, этот, не знаю, селевой поток эмоций и краски.
И Гоген приехал. Да, он приехал. В ту осень, когда воздух уже начинал остывать, но земля все еще хранила летний жар, он явился в этот Желтый дом – дом, который Винсент видел не просто стенами и крышей, а символом, золотистой колыбелью для их мечты, для их «Мастерской», для этого, как он говорил, будущего. И поначалу… о, поначалу это было что-то. Две силы, два вихря, запертые в четырех стенах, спорящие, кричащие, смеющиеся, мажущие краску, дышащие скипидаром и пылью, видящие мир – каждый по-своему, и в этом была вся беда – с какой-то нечеловеческой, пронзительной ясностью. Винсент – весь нерв, вся плоть, весь крик цвета, работающий так, словно за ним гнался сам дьявол, пытаясь поймать мимолетное мгновение, жар солнца на лице крестьянина, изгиб кипариса под ветром, – все «здесь и сейчас», на холсте, густым, скульптурным мазком. А Гоген – Гоген был другим. Более холодный, более расчетливый, с глазами, которые видели не только то, что есть, но и то, что могло бы быть, или что означало то, что есть, уходящий в свои символы, в свое воображение, в какие-то далекие, еще не виденные им земли.
И это не могло долго продолжаться. Не могло. Как два камня, брошенные в один мешок, они начали тереться, скрежетать, отбивать друг у друга острые края. Споры об искусстве? Да, были споры, но это было больше, чем искусство. Это был спор двух мировоззрений, двух температур души. Винсенту нужна была близость, понимание, братство, он раскрывался, как цветок под дождем, требуя ответа, требуя такой же отдачи. Гогену нужна была дистанция, собственное пространство, собственная тишина, он был как скала, о которую разбивались волны этой чудовищной, этой всепоглощающей потребности Винсента в признании, в любви, в этом общем дыхании. Воздух в доме становился густым, липким, пропитанным невысказанными обидами, растущим раздражением, чувством ловушки. Желтый дом, символ надежды, превращался в золотистую клетку.
А потом… потом был вечер. Тот вечер, о котором говорят шепотом, или не говорят вовсе. Причины? Кто знает причины безумия? Ссора? Да, говорят, была ссора. Из-за чего? Из-за денег? Из-за женщины? Из-за мазка кисти? Из-за слова, брошенного слишком резко, слишком правдиво, попавшего прямо в открытую рану? Или просто потому, что напряжение стало невыносимым, как струна, натянутая до предела, готовая лопнуть? И она лопнула. Не струна. Что-то внутри него лопнуло. Гоген ушел той ночью, ушел, спасаясь, или просто уходя от того, что стало невыносимым. А Винсент…
О, Господи. Винсент. В той темноте, один в Желтом доме, где еще совсем недавно горел огонь его надежды, он взял бритву. Почему? Чтобы наказать себя? Чтобы наказать Гогена? Чтобы выпустить боль, которая жгла его изнутри сильнее, чем провансальское солнце? Чтобы принести жертву этой своей провалившейся мечте? Никто не знает. Только кровь на полу, и эта, эта ужасная, немыслимая часть его самого, отрезанная, словно ненужный лоскут, и отнесенная – кому? – женщине в борделе, в этом притоне забвения и отчаяния, как странный, кровавый дар, как печать его боли, оставленная миру.
И Гоген уехал. Уехал и не вернулся. Дверь захлопнулась. Мастерская Юга… о, она никогда и не открывалась по-настоящему. Остался только Винсент, с его раной, с его кровью, и с этим, пришедшим теперь уже в полную силу, «безумием». Не просто грусть, не просто странности, нет. Это были приступы. Волны тьмы, накатывающие и отступающие, оставляя его истощенным, дрожащим, иногда смутно помнящим, что произошло, иногда – нет. Госпитали. Белые стены, голоса, которые он слышал, тени, которые он видел. Его разум, этот некогда яркий, пронзительный инструмент, теперь был как разбитое зеркало, отражающее реальность в пугающих, искаженных фрагментах.
Но даже тогда… даже тогда он работал. В промежутках между приступами, когда наступало краткое, хрупкое затишье, он хватался за кисти, как утопающий за соломинку. И краски на холсте становились не просто цветами, нет. Они становились криком, молитвой, исповедью, попыткой удержать мир, который рассыпался у него на глазах. Вихри на небе, деревья, извивающиеся, как живые существа, портреты, в глазах которых застыла вся боль мира. Это было не искусство «безумия», нет. Это было искусство «вопреки» безумию. Искусство, рожденное из самого горнила страдания, попытка найти красоту и смысл там, где остался только хаос и мрак.
И так до самого конца. До того поля под Овером, до выстрела – или это был выстрел? – до этой последней, тяжелой тишины, которая наконец опустилась на его измученную душу. Дружба? Мастерская? Безумие? Все сплелось в один тугой, трагический узел под этим равнодушным южным небом, оставив после себя только холсты, которые до сих пор кричат о прожитой боли и увиденной красоте, кричат так, как мог кричать только он, человек, который сгорел в собственном огне, пытаясь осветить мир.
Погрузимся глубже в омут чувств, вихрь цвета и боли, где логика тает, как утренняя дымка под палящим солнцем, и остается лишь нагая, пульсирующая реальность внутреннего ада.
Давление. Не просто давление, как сжатый кулак на груди, нет, это было нечто иное, нечто, что не имело веса, но обладало удельной плотностью расплавленного свинца, что накатывало волнами, не звука, но цвета, кричащего, вибрирующего желтого. Не тот теплый, ласковый желтый подсолнухов, который он пытался уловить, запечатлеть, приручить на холсте, нет. Этот был другой – едкий, разъедающий, цвет хрома, смешанного с лихорадкой, цвет безумия, просачивающийся сквозь поры кожи, через кости черепа, заполняющий собой все пространство между мыслями, между ударами сердца. Мир снаружи, Арль, с его невыносимо синим небом, с его равнодушными оливковыми рощами, с его мещанской, самодовольной нормальностью, казался картонной декорацией, тонкой, хрупкой скорлупой, натянутой над бездной. И бездна эта была он сам, Венсан, чья кровь была не жидкостью, а кипящим, переливающимся через край котлом чувств, чьи нервы были оголенными проводами, по которым шел ток слишком высокой частоты, готовыми перегореть от малейшего прикосновения – взгляда, слова, шороха травы.
Поль уехал. Уехал, оставив после себя не просто пустой стул, но зияющую дыру в самой ткани бытия, вакуум, который мгновенно заполнился этим самым давлением, этой желтой, кричащей пустотой. Его уход был не просто отъездом друга, нет, это было крушение мира, разрушение хрупкой, иллюзорной плотины, сдерживавшей поток. И теперь поток требовал выхода, требовал прорыва, требовал… разрыва. Разрыва с миром, который стал невыносим, мира, который проникал внутрь через все поры, через все чувства, усиливая внутренний грохот до оглушающего рева.
Ухо. Этот нелепый, мясистый завиток, эта антенна, ловящая шепот ветра в кипарисах, стук каблуков по мостовой, равнодушные голоса прохожих, смех детей, слишком яркий, слишком острый для его воспаленного слуха. Оно стало символом этой связи, этой пористой границы, через которую просачивалось все, что питало огонь, делая его только яростнее, только больнее. Отделить его, отрезать, заставить замолчать эту часть себя, которая служила проводником в реальность, ставшую невыносимой – в этом был свой, дикий, извращенный смысл. Это был акт самоампутации души, попытка отсечь орган, который передавал сигналы боли. Это была не просто плоть, это была часть слуха, часть восприятия, которую он больше не мог выносить.
Бритва. Холодная сталь. Не просто холодная, а холодная с той пронзительной чистотой, что предвещает боль. В дрожащей руке, отражающая в своем тусклом, матовом блеске лицо, которое уже не было его лицом, а маской агонии, освещенной мерцающей лампой в темной комнате. Не было боли сразу. Был шок, чистое, белое мгновение небытия, а потом – звук. Резкий, влажный, как будто рвется не плоть, а сама реальность, как будто отрывается корень, глубоко ушедший в почву. А потом пришло тепло. Невыносимое, липкое, пульсирующее, живое тепло. Кровь. Цвет, который он знал лучше, чем любой другой – не просто алый, нет, это был глубокий, почти черный в тени, насыщенный, живой, рассказывающий истории о земле, о корнях, о страсти, о страдании, о смерти. Он видел его на своих палитрах, на своих холстах, цвет киновари, смешанный с жженой сиеной, и вот теперь он был на его руке, на полу, на тряпке, которой он неуклюже пытался остановить поток, поток жизни, утекающий из него. Это была его собственная киноварь, его собственная жженая сиена, выплеснувшаяся наружу.
И вот он стоял, с этим теплым, окровавленным свертком в руке, похожим на странный, уродливый цветок, срезанный в темноте, или на комок мяса, отгрызенный диким зверем. Куда идти? К кому нести этот ужасный трофей, этот кровавый символ поражения и странной победы? К Тео? Нет, Тео слишком далек, слишком погружен в свой мир рам и сделок, в мир, где искусство – это товар, а не крик души. Тео увидит лишь безумие, лишь провал, лишь очередное доказательство того, чего он всегда боялся в своем брате. К врачу? Чтобы тот залатал, сшил, вернул, заставил снова слушать мир, который разрывал его на части? Нет.
Он пошел туда, где границы были размыты, где реальность была товаром, где человеческое общение было сведено к примитивному обмену, где маски были плотнее лиц. В бордель. Не в свой «Желтый дом», который теперь казался насмешкой, а в другой желтый дом, тот, что мерцал тусклым, маслянистым светом в конце улицы, куда стекались тени города, куда приходили те, кто искал забвения или чего-то, что можно было купить и выбросить.
Почему туда? Почему к ней? К одной из тех женщин, чьи лица были стерты усталостью и слоем дешевой пудры, чьи глаза видели слишком много, чтобы удивляться чему-либо, чьи уши были, по сути, мусорными корзинами для чужих историй, чужих желаний, чужого бреда? Возможно, именно поэтому. Потому что она была вне суждений, вне «нормального» мира с его правилами и приличиями. Она была на краю, как и он сам. Она была вынуждена слушать, принимать, кивать, независимо от того, насколько диким, насколько бессмысленным, насколько болезненным был рассказ. Ей платили не только за тело, но и за терпение, за роль исповедницы без святости, психотерапевта без диплома, за способность выносить чужую тяжесть, не ломаясь самой.
Или, может быть, это был акт отчаянной, искаженной щедрости? Он отрезал часть себя, часть, которая была для него слишком болезненной, слишком громкой, и принес ее туда, где части тел, где фрагменты жизни покупались и продавались. Это был его дар, его страшный, кровавый подарок – не символ любви, не требование страсти, но нечто из него, нечто реальное, осязаемое, болезненное, врученное кому-то, кто, возможно, впервые за долгое время, получил нечто, что не было просто имитацией чувства, не было просто транзакцией. Это было экзистенциальное подношение, акт передачи части своей бытийности, части своей боли, кому-то, кто обитал в мире, где бытийность часто сводилась к нулю. Он был одинок в своем безумии, в своем гении, в своей способности видеть мир в таких цветах, которые сжигали сетчатку. И в этой бездне одиночества, где не было эха, где слова падали в пустоту, он искал кого-то, кто мог бы принять эту часть его, кто мог бы стать свидетелем его внутреннего распада, не пытаясь собрать его заново. Проститутка. Женщина, чья профессия – быть временным, оплаченным свидетелем чужой жизни. Кто еще мог бы понять, или хотя бы принять, нечто столь же оторванное от «нормального» мира, как отрезанное ухо?
Он вошел. Воздух был густым и тяжелым, насыщенным приторным запахом дешевой помады, кислым запахом пролитого вина, тяжелым запахом пота и смутным, неуловимым запахом отчаяния. Музыка играла где-то приглушенно, монотонно, как сердцебиение больного мира. Голоса смешивались в неразборчивый гул, похожий на роение насекомых. Он нашел ее – Рашель. Или Габи. Или Мари. Имя не имело значения. Имело значение лишь усталое спокойствие в ее глазах, спокойствие человека, который видел слишком много, чтобы удивляться чему-либо, но недостаточно, чтобы перестать чувствовать. Она сидела за столиком, свет лампы падал на ее лицо, подчеркивая тени под глазами и жесткую линию губ.
Он подошел. Ее взгляд скользнул по нему, равнодушный, оценивающий. Он не был похож на обычных посетителей. В его глазах горел огонь, который она видела лишь у тех, кто дошел до края.
Он протянул ей сверток. Рука дрожала. Кровь просочилась сквозь ткань, оставив темное, влажное пятно.
– Это…, – пробормотал он, и голос его был хриплым, чужим, как будто он говорил на незнакомом языке. Слова выходили с трудом, выталкиваемые из груди вместе с желтой вибрацией, запертой внутри. – Это… для вас.
Она посмотрела на сверток, потом на его лицо, на его перевязанную голову. Бровь чуть приподнялась, но в глазах не было ни страха, ни любопытства, только усталое ожидание.
– Что это? – Голос у нее был низкий, безэмоциональный, как будто она спрашивала о цене напитка.
– Это…, – он запнулся. Как объяснить? Как выразить словами то, что было актом абсолютной, невыносимой экзистенциальной боли? – Это… то, что слушало. Слишком много. Слишком громко. – Он посмотрел на нее, его взгляд был одновременно острым и расфокусированным. – Мир… он слишком шумит. Слишком много цвета… слишком много боли. А это… это слушало. И теперь… теперь оно ваше.
Он осторожно, благоговейно положил сверток на стол перед ней.
Она медленно, очень медленно, развернула ткань. Ее пальцы, привыкшие к прикосновениям другого рода, на мгновение замерли. Увидела. Кровь. Кусок плоти. Этот нелепый, узнаваемый контур.
На мгновение. Лишь на одно краткое, ужасное мгновение ее лицо потеряло свою усталую маску, стало просто человеческим лицом, искаженным шоком, отвращением, неверием. Глаза расширились. Губы приоткрылись, чтобы выдохнуть беззвучный крик.
– Боже мой… – вырвалось у нее, шепотом, который был громче любого крика в этом душном помещении. – Что… что вы сделали?
Он смотрел на нее, ожидая. Ждал чего? Понимания? Ужаса? Отторжения? Он не знал. Он лишь знал, что должен был это отдать. Отдать эту часть себя, которая стала чужой, болезненной, кому-то, кто мог бы принять ее без осуждения мира, который он больше не мог выносить.
– Я… я не мог больше слушать, – повторил он, как заведенный. – Желтый… он кричал. А Поль уехал. И тишина… тишина кричала еще громче. Это… это то, что осталось.
Она смотрела на окровавленный кусок плоти на столе, потом на его перевязанную голову, потом снова на ухо. В ее глазах боролись профессиональная усталость, которая велела оставаться спокойной, и первобытный ужас перед тем, что она видела. Она работала в мире, где видели многое, но такое… такое было за гранью даже этого мира.
– Уберите это, – сказала она наконец, голос ее дрожал, но она пыталась вернуть ему прежнюю ровность. – Я… я не могу это взять.
– Но почему? – В его голосе звучало искреннее недоумение. Он отдал ей часть себя, часть своей боли, часть своего безумия. Разве это не было самым честным, самым реальным обменом, который он мог предложить в этом мире фальши? В мире, где люди платили за иллюзию близости, он давал ей осязаемую, кровавую реальность.
– Почему? – Она засмеялась, коротким, нервным смешком, который тут же оборвала. – Потому что это… это безумие! Это… это часть вас! Я не могу взять… часть человека. Я… я беру деньги. За время. За… за кое-что другое. Но не… не это.
Ее отказ был ударом. Не болью, нет, боль была внутри, боль была желтой. Это был удар по его искаженной логике, по его отчаянной попытке установить связь, отдав часть своего одиночества, своего страдания. Даже здесь, на краю, его дар был отвергнут. Его экзистенциальное подношение оказалось слишком тяжелым, слишком реальным даже для мира, который торговал реальностью.
Он смотрел на нее, на ее лицо, в котором усталость снова начала брать верх над шоком. В ее глазах не было понимания, не было сочувствия, только… истощение. И, возможно, страх. Страх перед человеком, который принес ей часть своего тела, как будто это был букет цветов.
И в этот момент он понял. Он был одинок. Абсолютно, невыносимо одинок. Его внутренний мир был вселенной, которая расширялась, пожирая его самого, и не было никого, кто мог бы войти в эту вселенную, никого, кто мог бы понять ее язык, язык цвета и боли, выраженный в таком ужасающем, физическом акте. Даже здесь, в мире, где человеческая связь была сведена к примитивному обмену, его попытка обмена – обмена своей болью, своей оторванностью, своим слухом – потерпела крах.
Он поднял сверток. Он снова стал просто куском плоти, тяжелым, теплым, бессмысленным вне контекста его собственного пылающего разума.
– Хорошо, – прошептал он. – Хорошо.
Он повернулся и вышел из борделя, оставив ее сидеть за столом, глядя на темное пятно крови на ткани, на пустое место, где только что лежало нечто, что было частью человека. Воздух снаружи показался холодным и чистым после душной атмосферы внутри, но холод этот не проникал внутрь, где все еще бушевал желтый пожар. Он шел по улице, не зная куда, сжимая в руке свой ужасный сверток, свой символ одиночества, своего оторванного слуха, который никто не захотел принять. И в этой ночной тишине, которая казалась еще более оглушающей из-за отсутствия одного уха, он был наедине с собой, со своим безумием, со своим искусством и со своим абсолютным, невыносимым одиночеством. Одиночеством настолько глубоким, что оно требовало физического доказательства своего существования. И вот оно было. В его руке. Теплое и окровавленное.
…и пыль, та самая пыль Овера, или как там называлась эта деревня, что прилипала к подолам платьев женщин, к подошвам его собственных башмаков, к краям холста, когда ветер поднимался над полями, теперь прилипала к потной коже на его лбу, смешиваясь с той липкой влагой, что выступила на губах, когда он, сгорбившись, ползком, преодолевал последние метры до двери, до двери этой проклятой гостиницы, где запахи кислого вина и вчерашнего супа всегда висели в воздухе, где он нашел временное пристанище, или, быть может, временную тюрьму, после стен лечебницы, после желтого дома, после уха, которое он отдал, или которое у него взяли, уже неважно, все это было частью одного долгого, тягучего дня, который начался не с восходом солнца, а с первого вздоха, с первой капли света, упавшей на сетчатку глаза, с первого цвета, который он пытался ухватить, поймать, прибить к холсту, пока он не ускользнул, как вода сквозь пальцы, как смысл, который всегда был чуть дальше, за горизонтом, за следующим мазком.
Он держался за живот. Левая рука, или правая, уже не имело значения, лишь смутное ощущение влажной теплоты, расползающейся под грубой тканью куртки. Не обвиняйте никого, сказал он, или хотел сказать, или подумал, когда Гюстав Раву, этот добрый, но немного недоуменный человек, чьи руки пахли пивом и табаком, показался в дверном проеме, его лицо, казавшееся слишком большим в слабеющем свете, выражало сначала обычную приветливость, затем удивление, затем что-то, что могло быть тревогой, или просто неудобством. Я ранил себя, вот что он сказал. Или это было сказано позже? Время здесь, в Овере, как и в Сен-Реми, как и везде, где он пытался найти покой, было не прямой линией, а прудом, где круги расходились от брошенного камня, возвращаясь и накладываясь друг на друга.
Ранил себя. Эти слова, такие простые, такие окончательные, как последний мазок на картине, который ставит точку, или как петля, которая затягивается. И это было правдой, не так ли? Он был ранен. Рана была там, горящая, пульсирующая, обещающая конец. Вопрос лишь в том, кто держал оружие. Он сам? Его собственная рука, дрожащая, возможно, от страха или решимости, направляющая ствол к своему телу, к центру боли, к животу, месту, где гнев и голод, одиночество и отчаяние скручивались в тугой узел? Это было бы логично, не так ли? После всех этих лет борьбы, после голосов в голове, после приступов, когда мир распадался на острые, болезненные осколки, после писем Тео, полных заботы, но и усталости, после рождения маленького Винсента, племянника, названного в его честь, что было и благословением, и новым грузом, новым напоминанием о том, что жизнь продолжается, требует, тянет, а он… он лишь обуза, камень на шее брата, который и так едва держится на плаву в этом бурном море парижской суеты, парижских денег, парижских картин, которые почему-то не продаются, не так, как должны бы.
Теория самоубийства. Она висела в воздухе, тяжелая, как предгрозовое небо. Доктор Гаше, этот странный, нервный человек с красным носом и шляпой, похожей на помятый гриб, пришел, посмотрел, пощупал. Пуля засела глубоко. Слишком глубоко, чтобы вытащить здесь, в этой глуши, без надлежащих инструментов, без чистой операционной, без надежды, которой, возможно, и не искали. Гаше, который сам казался более больным, чем пациент, который говорил о своем искусстве и своей меланхолии, был ли он тем, кто мог помочь? Или он был лишь еще одним отражением его собственного отчаяния?
Но была и другая история, шепот, который проносился над полями вместе с ветром, история, которая не ложилась на привычные рельсы страдающего гения, доведенного до последней черты. Что, если не он? Что, если это были они? Те мальчишки, Раву или их друзья, которые шатались по окрестностям с ружьем, старым, ржавым, предназначенным, может быть, для ворон, а может, просто для мальчишеских игр, для демонстрации силы, для того, чтобы помучить странного художника, который бродил по полям, разговаривая сам с собой, который выглядел не от мира сего, легкая мишень для подростковой жестокости, для глупости, для случайного выстрела, который прозвучал не как выстрел судьбы, а как резкий, неожиданный хлопок, нарушивший тишину летнего дня?
Пуля в живот. Не в висок, не в сердце. В живот. Медленная, мучительная смерть. Неужели тот, кто хотел покончить с собой, выбрал бы такой путь? И ружье. Где оно? Если он выстрелил в себя, где револьвер? Он не принес его обратно. Он не был найден рядом с тем местом, где, по его смутным словам, это произошло – там, в поле, среди колосьев, золотых под солнцем, которые он любил больше, чем людей, потому что они были честны в своем росте, в своем стремлении к свету. Ружье исчезло, как будто его никогда и не было, как будто его унес ветер, или спрятал кто-то, кто не хотел, чтобы его нашли.
И его слова: «Не обвиняйте никого». Могли ли они быть не признанием вины (своей собственной), а просьбой о прощении (для кого-то другого)? Для мальчишек, которые, возможно, испугавшись, убежали, оставив его истекать кровью в поле? Мог ли он, Винсент, который всю жизнь чувствовал себя изгоем, понять их страх, их панику, и решить, что его собственная жизнь, такая полная боли и разочарований, стоит меньше, чем их будущее, их свобода от тюрьмы или позора? Мог ли он, видя в этом ранении неизбежный конец, который он, возможно, подсознательно желал, принять его, как принимают дождь или солнце, как принимают болезнь или одиночество?
Он лежал в своей маленькой комнате, на втором этаже, где стены были тонкими, и можно было слышать жизнь гостиницы внизу – голоса, шаги, звон посуды. Тео приехал. Тео, его якорь, его единственный настоящий друг, его брат, чья любовь была единственной константой в этом хаотичном мире. Тео сидел рядом, его лицо было бледным, глаза полны тревоги и невысказанного горя. Они говорили. Или просто были рядом. Курили. Дым от трубки, горьковатый, знакомый запах, наполнял комнату.
«Печаль будет длиться вечно», сказал Винсент. La tristesse durera toujours. Последние слова. Это могло быть подтверждением самоубийства – признание вечной меланхолии, которая наконец взяла свое. Или это могло быть просто констатацией факта – печаль о жизни, которая так и не сложилась, о красоте, которую он видел, но не мог полностью передать, о любви, которую давал, но не получал в ответ в той мере, в какой нуждался. Печаль о брате, который теперь останется один с этим грузом, с его картинами, которые никто не покупает, с его памятью.
Тео держал его руку. Чувствовал, как жизнь медленно уходит, как свет меркнет в глазах, которые видели больше цветов, чем глаза любого другого человека на земле. Он умер на руках Тео, в ранние часы вторника, 29 июля 1890 года. В тишине, нарушаемой лишь дыханием Тео и тиканьем часов где-то внизу.
И вот он лежит там, на кладбище в Овере, под солнцами, теми самыми, которые он так любил писать, под простым камнем, рядом с Тео, который последовал за ним всего через полгода, не выдержав потери, не выдержав бремени. А правда о том дне, о том выстреле, о ружье, которое исчезло, она осталась там, в поле, среди пшеницы, под небом, которое он так часто пытался поймать на свой холст. Захороненная под пылью Овера, под слоями домыслов и воспоминаний, под тяжестью той печали, которая, как он и предсказал, длится вечно. И никто, ни историк, ни биограф, ни даже дух самого Винсента, блуждающий над этими полями, уже не сможет сказать с полной уверенностью, была ли это рука судьбы, рука болезни, или чья-то другая рука, дрогнувшая в тот летний день, что поставила последнюю, роковую точку в жизни, которая была слишком яркой, слишком болезненной, слишком полной цвета для этого бледного мира. И это стало частью его последней, неразгаданной картины.
Поль Верлен
Верлен и Рембо… да, вы слышали, конечно, слышали, и слушать будете, пока есть на свете хотя бы одна душа, способная обжечься о строчку стиха или о чужую жизнь, потому что история их – это не просто история, это символ, это проклятие, это предостережение и восхищение в одном флаконе, разбитом и воняющем спиртом и порохом. Она как заноза под кожей времени, как гнойная рана, что не затягивается, а лишь ноет и пульсирует под всей этой парижской пылью, лондонской грязью и брюссельским дождем.
Началось все, говорят, с клочка бумаги… да, с «письма». Нежного? Нет. Робкого? Никогда. Это был удар, вызов, молния, посланная тем юным, еще не оперившимся, еще не до конца прогнившим, но уже «видящим» гением, этим мальчишкой из провинции, этим Рембо. Семнадцать лет, господи милостивый! И он уже видел ад, чувствовал его смрад на своих губах, его жар в глазах. Он послал это письмо тому другому, Верлену, уже известному, уже погрязшему в собственном болоте брака, меланхолии и тихого, удушающего отчаяния, но еще способному узнать огонь, когда тот бьет в глаза, способному услышать зов бездны, когда она шепчет его имя через строки, через этот нечеловеческий, этот «слишком» человеческий крик, заключенный в словах юнца. Словах о «Видении», о новом языке, о поэзии, что должна быть «ясновидящей», о жизни, что должна быть «прожита», а не прозябать.
И Верлен… да, он ответил. Он не просто ответил, он распахнул дверь. «Приезжайте, дорогая великая душа…» – или что-то вроде того. Слова, что стали ключом, повернувшим замок на вратах ада. Или рая. Или и того, и другого одновременно, ибо для них, для «них» это было одно и то же, понимаете? Смесь божественного и дьявольского, красоты и уродства, жизни и смерти.
И он приехал. Ворвался. Не вошел тихо, а «ворвался», как сквозняк с кладбища, как чума, как откровение, как ураган, вырванный из недр земли. В этот тихий, или пытающийся казаться тихим, дом Верлена, где жила жена, молодая Матильда, с ее животом, обещавшим жизнь, обещавшим будущее, обещавшим спокойствие, которого Верлен так боялся и так желал одновременно. И этот мальчишка, этот Рембо, пришел «украсть» это будущее, пришел «сжечь» этот уют, пришел «растоптать» все просто своим присутствием, своей необузданностью, своим гением, своим «запахом» свободы и разложения. Его взгляд, говорят, был таким, будто он видел тебя насквозь, видел всю твою ложь, все твои страхи, и презирал тебя за них. Он плевал на условности, на чистоту, на приличия. Он был воплощенным вызовом.
И с этого момента все покатилось… вниз? Вверх? Кто знает, куда ведет такая страсть, такая одержимость, такая совместная безумная пляска на краю бездны. Они стали двумя планетами, сорвавшимися с орбит, обреченными на столкновение. Париж, Лондон, Брюссель… не потому, что они искали место, а потому, что «место» не могло их удержать. Ни один город, ни одна квартира, ни одна страна не могла вместить эту бушующую энергию, этот взаимный яд, которым они питались, становясь все сильнее и все более разрушенными одновременно.
Бутылка абсента в одной руке, перо, царапающее бумагу, в другой. Крики, что сменялись шепотом, пощечины, за которыми следовали поцелуи, проклятия, переходящие в строки бессмертных стихов. Матильда… бедная Матильда… ее присутствие лишь усиливало накал. Она была живым укором, якорем, который Верлен отчаянно пытался отрубить, но который все тянул его назад, к той «нормальной» жизни, которую он уже не мог вынести. Рембо видел ее лишь как препятствие, как символ той пошлости, от которой он спасал (или губил?) Верлена. «Твоя жена… она как мебель. Скучная, пыльная мебель,» – мог бросить он, сидя напротив Верлена, с циничной усмешкой в глазах, и эти слова жалили Верлена сильнее любого удара.
И вот апогей. Да, апогей всего этого безумия, всей этой любви-ненависти, всего этого гениального саморазрушения. Жаркое брюссельское лето. Душная комната в отеле «Отель де ла Вилье». Воздух сперт от вчерашнего пьянства, от накопившихся обид, от предчувствия конца, которое витало между ними уже давно, как запах тления.
Ссоры стали невыносимыми. Слова летали, как битое стекло. Рембо, всегда готовый к разрыву, всегда на шаг впереди в своей жестокости, объявил, что уходит. Окончательно. Ему надоела эта жизнь, надоел Верлен, его слабость, его метания.
– С меня хватит, Верлен! – голос Рембо, резкий, как удар хлыста. Он стоял у окна, спиной к комнате, к Верлену. Свет с улицы падал на его тонкую фигуру, делая ее призрачной. – Эта твоя тоска, твои слезы, твои обещания… Они меня душат! Я ухожу. В Африку, на край света, куда угодно, лишь бы подальше от тебя и от этой… этой жалкой пародии на жизнь!
Верлен сидел на кровати, помятый, с опухшим от слез и алкоголя лицом. Его руки дрожали. – Ты не можешь… Ты не можешь уйти! – прохрипел он. – Куда ты пойдешь? Что ты будешь делать? Ты пропадешь без меня! Ты же ребенок, Рембо! Проклятый, гениальный ребенок, но ребенок!
Рембо обернулся, и в его глазах не было ни жалости, ни сомнения. Только холодная, божественная усталость. – Ребенок? Я видел больше, чем ты увидишь за всю свою ничтожную жизнь, Верлен. И я устал. Устал от тебя. От твоей слабости. От твоей… любви. Она как тюрьма.
– Любовь? – Верлен вскочил. – Ты называешь это тюрьмой? А что же тогда свобода, Артур? Бродяжничество? Смерть в одиночестве?
– Возможно, – пожал плечами Рембо. – Но это будет моя смерть. Мое одиночество. Не наше. Наше… оно смердит.
И тут Верлен сломался. Окончательно. Что-то оборвалось внутри. Весь этот груз – Матильда, общество, собственная неспособность быть «нормальным», и главное – страх потерять этого демона, этого ангела, эту свою погибель и спасение в одном лице. Он не мог вынести мысли, что Рембо просто уйдет, оставив его одного с пепелищем его жизни.
В его руке появился пистолет. Тот самый, который он купил накануне. Зачем? Чтобы покончить с собой? Чтобы убить его? Чтобы просто «прекратить» все это, остановить этот безумный танец? Вероятно, он сам не знал. Рука дрожала, но не от страха, а от ярости и отчаяния.
Рембо смотрел на пистолет, и впервые за долгое время в его глазах мелькнуло что-то похожее на удивление, а может, даже на мимолетный страх. Но он не двинулся с места. Стоял у окна, как мишень, нарисованная судьбой.
– Я не позволю тебе уйти, Артур! – голос Верлена был искажен.
– Не глупи, Поль, – спокойно, даже с легким презрением ответил Рембо. – Опусти эту игрушку.
И в этот момент прозвучал выстрел. Резкий, нелепый звук, разорвавший духоту комнаты, тишину брюссельского полдня. Не громовой раскат, а скорее хлопок, от которого зазвенело в ушах. Пуля. Она не попала в сердце, не оборвала жизнь сразу. Она попала в запястье. В руку. В ту самую руку, которая писала такие стихи, которая держала перо, которая протягивалась за бутылкой или за объятием. Пуля должна была положить конец всему, но лишь «закрепила» их судьбу, «запечатала» их легенду кровью.
Рембо вскрикнул. Не от боли, а скорее от шока и негодования. Он схватился за раненую руку, кровь мгновенно расплывалась по рубашке. Верлен замер, пистолет выпал из его ослабевшей руки. Ужас. Чистый, неразбавленный ужас отразился на его лице. Что он наделал?
Рембо, несмотря на рану, не потерял присутствия духа. – Ты… ты стрелял в меня, Поль! – в его голосе звучало неверие, перемешанное с какой-то извращенной триумфальностью. Как будто он «знал», что все закончится именно так.
Дальше был хаос. Соседи, полиция, крики, кровь на полу. Больница. Допросы. Суд. Суд, где их жизнь была вывернута наизнанку для потехи публики, где их любовь была названа «развратными отношениями», а гениальность – лишь следствием порока. Рембо, давая показания, не стал защищать Верлена. Он сказал правду – или свою правду: «Он хотел меня убить». Это был последний, самый жестокий удар. Предательство? Или просто констатация факта от человека, который не знал жалости?
Тюрьма для Верлена. Одиночество. Раскаяние, переходящее в религиозное искательство. А для Рембо… «Одно лето в аду». Книга, написанная в лихорадке после разрыва, прощание с поэзией, с этим миром. А потом – Африка. Жажда денег, торговли, реальной, осязаемой жизни, как будто он хотел заглушить боль и память о сгоревшем лете в Брюсселе.
Они разошлись. Каждый по своему пути. Один в монашеское, или почти монашеское, раскаяние, другой в африканскую жару и торговлю оружием и рабами. Но после этого выстрела, после этого суда, после этой разлуки – они уже никогда не были «теми» Верленом и «тем» Рембо. Те сгорели вместе в том коротком, яростном, проклятом пламени, оставив после себя лишь пепел гениальности и эту историю. Эту чертову историю.
И вот сидим мы здесь… в полумраке… с дымом сигарет… и эта история все еще… ноет. Как старая рана. Как напоминание о том, что бывает, когда гений встречается с безумием, а любовь – с разрушением. И что иногда, чтобы создать что-то вечное, нужно сжечь дотла все остальное. Даже себя. И друг друга.
Представьте себе это не как исторический очерк, но как мерцающий, тяжелый от времени и памяти фрагмент из сознания кого-то, кто, возможно, даже не был там, но чувствует эту встречу, как давний, но не заживающий шрам на ткани самого Лондона, или, может быть, на душе той эпохи, которая уже тогда, в том душном, пропитанном пивом и сожалениями пабе, несла в себе семена собственного распада.
Вот этот фрагмент, вырванный из потока сознания, как пробка из бутылки, что хранила в себе не вино, но годы и горечь:
«…он сидел там, Верлен, да, Поль Верлен, имя, которое само по себе было похоже на стон или на плевок, в зависимости от того, кто его произносил и в какой момент проклятого дня, сидел в том углу, куда свет даже в самый яркий полдень проникал лишь как бледное, немощное обещание, никогда не выполняемое, сидел среди запаха пролитого эля и вековой пыли и табака, который въелся даже в самый воздух, не просто витал, а стал частью его, как кости становятся частью плоти, и его лицо, да, его лицо – это не было лицо человека, это была карта всех дорог, по которым он прошел, всех канав, в которых он лежал, всех дверей, которые захлопнулись, всех поцелуев, которые жгли, а потом оставили лишь пепел на губах, лицо, изрезанное морщинами, которые были глубже, чем просто следы лет, это были следы ударов, следы падений, следы того, что жизнь может сделать с гением, когда гений не может или не хочет сделать что-то с жизнью, и руки его, да, руки, что писали слова, которые могли бы заставить камни заплакать или цветы расцвести посреди зимы, теперь держали стакан, обхватывая его так, будто это было единственное твердое, единственное настоящее в этом шатком, вечно ускользающем мире, и взгляд его, блуждающий, иногда цепляющийся за что-то невидимое в дыму, иногда пронзительный, как лезвие, но чаще всего просто отсутствующий, взгляд человека, который видел слишком много и слишком мало одновременно, который искал что-то, что, возможно, никогда не существовало или было потеряно так давно, что даже память о потере выцвела.
И в этот самый воздух, в эту сгустившуюся, тяжелую, как свинец атмосферу, вошел другой. Уайльд. Оскар Уайльд. Имя, звучащее как колокольчик в цирке или как удар хлыста на арене, имя, которое уже тогда, в свои двадцать с небольшим, несло в себе груз не столько достижений, сколько ожиданий, и не столько ожиданий, сколько скандалов, или, вернее, обещаний скандалов, обещаний того, что он будет скандалом, будет вызовом, будет живым, дышащим, смеющимся произведением искусства, или, по крайней мере, попытается им быть, со всей серьезностью, на которую способен человек, играющий роль. И он вошел, не просто вошел, а появился, как видение, как птица райская среди воробьев, как отполированный, сияющий артефакт из другого времени или другого мира, в своих бархатных бриджах, или что там он носил в тот день, в своем тщательно уложенном парике волос, или что там было на его голове, с цветком в петлице, который казался слишком ярким, слишком живым для этого места, для этого города, возможно, даже для этой планеты, и от него исходил запах, не запах эля или табака или пота, а запах чего-то дорогого, чего-то искусственного, чего-то, что было создано, чтобы быть красивым, чтобы отрицать все, что этот паб и этот человек в углу собой представляли.
Они встретились. Два полюса одного и того же болезненного, прекрасного, обреченного века. Один – живая руина, другой – сияющее здание, построенное на песке. Один – гений, чья жизнь была его проклятием, другой – человек, чья жизнь была его сценой, и он сам был своим лучшим, самым отточенным персонажем. И они говорили. О чем? О, конечно, о поэзии. О Бодлере, чья тень висела над ними обоими, тяжелая и благословенная. О Рембо, имя которого, произнесенное вслух, должно было прозвучать как удар ножа в Верлена, как эхо безумия и страсти, которое Уайльд, возможно, лишь поверхностно понимал, видя в нем лишь еще один экзотический цветок декаданса, не чувствуя его ядовитых корней, уходящих глубоко в плоть и душу. Они говорили о красоте, наверное. Уайльд – как о цели, как о божестве, как о единственном оправдании существования. Верлен – возможно, как о чем-то, что он когда-то знал, что-то, что ускользнуло, оставив лишь горькое послевкусие, что-то, что, возможно, и привело его в этот паб, к этому стакану, к этому одиночеству среди других одиночеств.
Их голоса, да, их голоса. Голос Уайльда – мелодичный, отшлифованный, полный остроумия, которое сверкало, как бриллианты на черном бархате, каждое слово тщательно выбрано, каждое предложение – законченная, самодостаточная единица смысла и звука, голос, созданный для салонов, для аплодисментов, для того, чтобы быть услышанным и повторенным. И голос Верлена – возможно, тихий, бормочущий, прерываемый кашлем, или, наоборот, внезапно громкий, пронзительный, когда какая-то мысль или воспоминание прорывалось сквозь туман, голос, который нес в себе хрипоту улиц, слезы тюрем, шепот любовников и крики ссор, голос, который не заботился о форме, но нес в себе вес самой правды, той грязной, неприглядной, но неоспоримой правды, которую Уайльд так искусно облекал в шелка и парчу парадоксов.
И они сидели так некоторое время, два мира, столкнувшиеся в одном пропахшем пивом пространстве, один – воплощение эстетизма, другой – живое доказательство того, во что может превратиться романтизм, когда он встречается с реальностью безжалостной и неумолимой. И никто не знает точно, что было сказано, какими именно словами они обменялись, какие прозрения, если они были, мелькнули в дыму, какие старые раны были случайно задеты или какие новые, невидимые, нанесены. Нет стенограммы, нет точного отчета, только легенда, только ощущение того момента, которое осталось висеть в воздухе, как запах, который нельзя выветрить, как тень, которую нельзя стереть. Момент, когда Красота, сияющая и немного пустая, встретилась с Болью, глубокой и полной невысказанных истин, и они кивнули друг другу через пропасть, разделяющую их, признавая, что оба они, каждый по-своему, служили одному и тому же жестокому, прекрасному, безразличному божеству Искусства. А потом момент прошел, как проходит любое мгновение в пабе, как уходит любой посетитель, оставляя за собой лишь пустой стакан и эхо голоса, и Верлен, наверное, заказал еще, а Уайльд, наверное, отправился дальше, сиять в другом месте, в другом салоне, оставляя за собой лишь легкий аромат чего-то слишком изысканного для этого мира…»
Томас Манн
Представим, что это фрагмент из долгого, тягучего, как влажный южный зной, размышления, быть может, старого человека, сидящего на веранде под мерным скрипом кресла-качалки, человека, чья память – это не прямая дорога, а запутанный лабиринт, где прошлое не ушло, а лишь спряталось за следующей дверью, всегда готовое настигнуть.
…имя его, Томас Манн, само по себе звучало тяжело, как последний удар старинных часов в пустом доме, не просто имя, а метка на карте того проклятого века, века, когда все, что казалось прочным, рассыпалось в прах, когда слова, которые должны были быть маяками, превратились в погребальные колокола. Родился он в другом времени, в другом мире, мире бюргерского достатка и уверенности, мире, где искусство было изящной, пусть и меланхоличной, прихотью, не кровавой необходимостью. Он писал о распаде, да, о тонкой корке цивилизации над бездной, о болезни как форме познания, о смерти как конечной точке всех путей, но тогда, в «Будденброках» или даже в «Венеции», это была еще красивая смерть, элегантный распад, под звуки вагнеровских лейтмотивов, а не хрип и вонь газовых камер. Он видел трещины, но не мог знать, что из них хлынет.
А потом пришло «то». Не просто зло, а отрицание всего, на чем стоял мир, отрицание разума, отрицание человечности, вой и марш, сводящий с ума, поднимающий из земли что-то древнее и ужасное. И голос, его голос, голос, который привык говорить иронией и многослойными метафорами, вынужден был стать резким, вынужден был кричать, призывать к разуму тех, кто уже утонул в безумии. Он видел опасность раньше многих, чувствовал ее кожей, в самом воздухе, который становился все более плотным, все более удушливым. И вот он, великий мастер немецкого слова, человек, чьи корни уходили глубоко в эту, его землю, оказался на чужбине. Не потому, что захотел, нет, не как турист или искатель приключений. Его вырвали. Как старое дерево с корнями, полными родной земли, вырывают и бросают на чужую почву, где воздух другой, и свет падает иначе.
Он был в Швейцарии, кажется, когда пришла эта новость, новость, которая была не новостью, а лишь подтверждением неизбежного, как последний удар топора по уже надломленному стволу. И дети, Эрика и Клаус, эти нервные, талантливые, слишком рано повзрослевшие дети, которые уже давно кричали о надвигающейся катастрофе, они сказали ему: «Отец, не возвращайся.» И он не вернулся. Как мог он вернуться туда, где его книги жгли на площадях, где его имя стало синонимом предательства для тех, кто сам предал все? А потом и вовсе лишили его гражданства, бумажка, всего лишь бумажка, но она означала: ты больше не один из нас. Как будто можно бумажкой вырезать из человека землю, на которой он вырос, язык, которым он мыслит. Но они попытались. И он стал эмигрантом. Немецким писателем, который больше не мог жить в Германии.
Швейцария сначала, тихие озера, горы, равнодушные к человеческим страстям, а потом Америка, этот огромный, шумный, непонятный континент, Калифорния, где солнце светило слишком ярко, скрывая тени, которые он привез с собой. Там были другие, такие же, как он, изгнанники, голоса, оторванные от родной земли, пытающиеся говорить на языке, который теперь звучал иначе, с привкусом потери. Фейхтвангер, Брехт, другие… они собирались, говорили о доме, которого больше не было, или который стал чужим, или который был болен смертельной болезнью. Он стал голосом той Германии, которую пытались уничтожить, голосом разума в мире, сошедшем с ума, его радиообращения, летевшие через океан, были как укоры совести, как напоминание о том, что есть еще другая возможность, другой путь.
И когда наконец дым рассеялся, и война закончилась, и мир попытался вздохнуть, многие ждали. Ждали, что он вернется. Символ. Совесть. Что он придет и поможет собрать осколки. Но он не вернулся. Или почти не вернулся, лишь приезжал, как чужой, на короткое время. Почему? Потому что воздух там, на его земле, все еще был тяжелым. Тяжелым от невысказанного, от непережитого, от вины, которую слишком быстро пытались сбросить, как старую, неудобную одежду. Он видел, как они спешат отстроить дома, заводы, мосты, но не души. Не было покаяния, не было глубокого, мучительного осмысления. Было желание забыть. Забыть, кто маршировал, кто кричал «Хайль», кто молчал, когда других уводили. Земля была разделена, да, стенами и границами, но еще больше – невидимой стеной между теми, кто ушел, и теми, кто остался, между теми, кто несет рану изгнания, и теми, кто несет рану соучастия или бездействия. Он не хотел выбирать сторону в новой, холодной войне, раздирающей его родину. Его дом был теперь там, где были его книги, его мысли, его семья, рассеянная по миру. Он остался свидетелем, критиком извне, голосом, который напоминал, что прошлое не похоронено, оно просто ждет своего часа.
И его отношение ко всем, кто остался, кто молчал, кто сотрудничал… о, это было как старый, незаживающий нарыв. Он не прощал. Не прощал тех, кто находил оправдания, тех, кто говорил о «внутренней эмиграции», как будто можно спрятаться внутри себя, пока мир снаружи горит. Он видел в этом самообман, трусость, попытку сохранить чистоту, запачкав руки бездействием. «Внутренняя эмиграция», говорил он, это попытка усидеть на двух стульях, попытка сохранить свое место, пока другие рисковали всем или теряли все. Его радиообращения были полны не только гнева на режим, но и горького разочарования в собственном народе, в его слабости, в его готовности подчиниться злу. Он считал, что каждый, кто жил там, несет часть ответственности, даже тот, кто просто молчал. Молчание было согласием. Бездействие было соучастием. Это была его суровая, неумолимая правда.
А был еще Гессе. Герман Гессе. Другой великий, другой изгнанник, но другого рода. Он ушел раньше, в свою Швейцарию, задолго до прихода того, ушел не от политики, а от шума мира, от национализма, от войны, которая уже тогда казалась ему безумием. Он искал себя, искал душу в лабиринтах Востока, в психоанализе, в музыке сфер. Гессе был интроверт, мистик, художник, чье поле битвы было внутри человека. Манн же, даже когда писал о глубинах души, всегда был связан с внешним миром, с обществом, с историей. Он уважал Гессе, да, признавал его гений, особенно в поздних работах, в этой его «Игре в бисер», где мир был сведен к чистой мысли, к абстрактной гармонии, как будто в попытке уйти от хаоса реальности. Но он не мог принять этот путь для себя. Писатель, по Манну, не мог просто наблюдать за хаосом, он должен был говорить о нем, кричать о нем, пытаться понять его и осудить. Гессе ушел внутрь, Манн остался снаружи, обличая. Два одиноких пути, оба великие, оба мучительные, оба отмеченные печатью одного и того же времени. Но Манн не мог понять, как можно искать гармонию внутри, когда снаружи творился ад. Это была разница не в таланте, а в выборе, в моральном императиве.
И вот, его наследие. Тяжелое. Монументальное. Нелегкое для чтения, нет. Как подъем в гору, где воздух разрежен и каждый шаг дается с трудом. Но там, наверху, открывается вид. Вид на пропасть, на вершины, на извилистые тропы человеческой души и человеческой истории. Его книги – это не просто истории, это диагнозы. Диагноз больной Европы, больной Германии, больного человечества. «Волшебная гора», где мир перед катастрофой собрался в одном санатории, дышальном смертью и философией. «Доктор Фаустус», эта страшная, гениальная книга о сделке с дьяволом, которую заключила Германия ради своего особого пути, ради гениальности, ради власти, заплатив за это душой. Он писал долгими, извилистыми предложениями, как будто пытаясь вместить в них всю сложность, всю противоречивость, всю вину этого времени. Его ирония – это не смех, а горькая усмешка человека, который видел слишком много. Его лейтмотивы, повторяющиеся, изменяющиеся, как в симфонии, связывают воедино распад семьи, болезнь тела, безумие души, катастрофу истории. Он был мастером слова, да, но его мастерство было служением. Служением правде, служением памяти, служением предупреждению. Он не просто писал книги, он строил монумент из слов – монумент утраченному, монумент осуждению, монумент вечному напоминанию о том, что происходит, когда разум отступает и зло поднимает голову. Монумент, который стоит и по сей день, тяжелый, мрачный, но необходимый. Как напоминание. Как укор. Как вечный вопрос, обращенный к нам, живущим после.
Венеция, не та, что на глянцевых, выцветающих открытках, не та, которую рисуют в легких снах о каналах и серенадах, но та, что дышит под солнцем, как старый, больной зверь, чье дыхание – это запах соли, ила, и чего-то сладкого, приторного, чего-то, что напоминает одновременно увядающие цветы и давно забытую, гниющую плоть, – вот куда приехал Ашенбах. Густав фон Ашенбах. Имя, что само по себе было крепостью, стеной, возведенной из слов, из тщательно отмеренных, выверенных до последнего вздоха предложений, из всей той дисциплины, того порядка, что он насаждал в себе, в своей жизни, в своем искусстве, как садовник, выкорчевывающий сорняки дикого, необузданного бытия, оставляя лишь чистые, геометрически выверенные клумбы своего разума, своего таланта, своей славы.
Он был столпом. Монументом. Человек, который знал. Знал, как обуздать хаос, как придать форму бесформенному, как заставить жизнь служить искусству, а не наоборот, как это бывает с теми, кто слаб, кто поддается этому вязкому, липкому потоку чувств, страстей, всей этой грязной, непредсказуемой кутерьме, что люди называют жизнью. Он отрекся. Или думал, что отрекся. Построил свою Аполлонову цитадель высоко над Дионисийской бездной, над этой клокочущей, пьянящей ямой, откуда доносились крики, смех, плач, запахи вина и пота и чего-то еще, чего-то древнего и опасного.
Но даже самые высокие стены дают трещину. Или, может быть, он сам, изможденный этим бесконечным, безмолвным боем, этой войной против собственной природы, против природы всего, что есть, почувствовал эту усталость, эту необъяснимую, зудящую тоску, что заставила его покинуть свою крепость, отплыть от берегов знакомого, контролируемого мира и бросить якорь здесь. В Венеции. Городе, который сам был метафорой – прекрасной, но обреченной, сияющей, но прогнившей насквозь, городом, где красота и распад обнимались так тесно, что невозможно было понять, где заканчивается одно и начинается другое.
И тогда появился «Он». Мальчик. Тадзио. Не просто мальчик, нет. Явление. Видение. Словно весь свет, вся чистота, вся та неуловимая, ускользающая идеальность, которую Ашенбах всю жизнь пытался поймать и запереть в своих строках, вдруг воплотилась, обрела плоть, двинулась по песку, по камням, по воде, грациозная, молчаливая, совершенная. И в этот миг стена рухнула. Не с грохотом, нет. С тихим, едва слышным треском, как тонкое стекло, что лопается от внезапного перепада температур. И через эту трещину хлынуло все то, что он подавлял, все то, что запирал, все то, что отрицал.
Страсть. Не та, что возвышает, нет. Та, что унижает. Та, что сводит с ума. Та, что становится единственным содержанием бытия, вытесняя все остальное – мысли, работу, себя. Он, Густав фон Ашенбах, человек-формула, человек-порядок, превратился в тень. В преследователя. В вора, крадущего взгляды, в шпиона, подглядывающего из-за газеты на пляже, из-за колонны в холле отеля, из-за угла улицы, пахнущей смертью и жасмином. Его жизнь, такая наполненная, такая важная прежде, скукожилась до размеров одного единственного, сияющего, недостижимого объекта желания. Он больше не писал. Зачем? Слова казались бессмысленными, пустыми, когда перед ним была воплощенная, живая Поэзия, недоступная, как звезда, но притягивающая с силой черной дыры.
И город помогал его падению. Дышал ему в лицо своим смертоносным, сладким дыханием. Распространял свой секрет, свою болезнь. Холера. Слово, что звучало как приговор. Медленно, неумолимо, она ползла по каналам, по узким улочкам, проникала под двери, в легкие, в кровь. Власти врали. Улыбались, отрицали, присыпали известью зараженные места, но запах… запах нельзя было скрыть. Запах болезни, запах смерти, запах распада, что так странно переплетался с запахом его собственной, разрушающейся души.
И эти фигуры… Да, эти фигуры, которые появлялись на его пути, как зловещие вехи, как воплощения его собственных страхов, его подавленных желаний, его надвигающейся судьбы. Тот странный человек на кладбище в Мюнхене, похожий на нечто чужеродное, опасное. Старый франт на корабле, чья попытка молодиться была настолько гротескной, настолько жалкой, что выворачивало наизнанку, предвещая его собственное, Ашенбаха, унижение. Гондольер, бесшумный, жуткий Харон, везущий его по темным водам города, который сам был уже на полпути в царство мертвых. Уличные музыканты, чье пение было одновременно вульгарным и завораживающим, как сама эта страсть, что овладела им. Парикмахер, чьи манипуляции, призванные вернуть ему видимость молодости, лишь подчеркивали его жалкое, обреченное состояние. Все они были частями одного большого, мрачного карнавала, ведущего к концу.
Он знал о холере. Знал об опасности. Мог уехать. Но как? Как оторвать себя от этого сияющего якоря, что держал его на дне его собственного безумия? Уехать – значило потерять Его. И эта мысль была невыносима. Он предпочел остаться. Предпочел гнить вместе с городом, умирать вместе с его обитателями, лишь бы иметь возможность видеть Его, вдыхать тот же воздух, что и Он, быть рядом, пусть и на расстоянии, пусть и в этой мучительной, односторонней одержимости.
И вот он, на пляже. Солнце жжет. Песок горячий. Тело – лишь жалкая оболочка, сломленная, измученная болезнью, страстью, самим фактом своего существования под этим неумолимым солнцем, в этом умирающем городе. Мысли путаются. Образы наслаиваются – Аполлон и Дионис танцуют безумный танец в его горячечном мозгу, красота и разложение сливаются в одно. И в этот последний миг, когда мир уже плывет перед глазами, когда дыхание становится тонкой, рвущейся нитью, он видит Его. Тадзио. Стоящего у самой кромки воды, спиной к нему, лицом к морю. И мальчик делает жест. Поднимает руку. Указывает куда-то вдаль. В море. В бесконечность. В небытие.
И Ашенбах, Густав фон Ашенбах, человек, который всю жизнь строил, создавал, контролировал, отпускает. Сдается. Перестает бороться с жаром, с болью, с этой всепоглощающей, смертельной любовью. Его последний взгляд – на эту совершенную, безжалостную красоту, что привела его сюда, к этому концу. И он умирает. Тихо. На песке. Оставив после себя лишь имя, что когда-то было крепостью, и историю падения, что, возможно, так никогда и не будет рассказана до конца, потому что как можно рассказать историю о том, как жизнь, во всей ее неуправляемой, дикой, смертельной красоте, просто вошла и забрала тебя целиком, не оставив ничего, кроме запаха соли и гниения под палящим солнцем Венеции…
Джеймс Джойс
Джеймс Джойс… «Улисс». Сидит он там, на полке, этот кирпич, этот памятник или, вернее, склеп, воздвигнутый над одним-единственным днем, днем, что ворочается в памяти, в туманной дымке, как Дублин – город, который он покинул, но который, Господи помилуй, он носил в себе, как камень в почке или как святыню, вырванную из земли предков и спрятанную под рубахой, прижатую к груди.
Начиналось-то, говорят, с малого, с какого-то там рассказика для сборника, «Дублинцы», да, вот того, про паралич, про этот город, застывший в своем убожестве и величии, в своей грязи и своем призрачном свете, который мог бы стать светом искусства, но только если вырвать его из этой трясины, вынести на себе, как добычу или проклятие. И вот этот рассказик, который должен был быть про какого-то там обывателя, похожего на Одиссея – Одиссея! – в шляпе-котелке и с портфелем, заблудившегося не в морях, а в лабиринтах улиц, в лабиринтах собственного ума, разросся… Господи, как он разросся! Как опухоль, как вселенная, как сам этот проклятый день, 16 июня 1904 года, который он растянул, раздул, наполнил всем – от запаха жареных почек до громоподобного «Да» женщины в ночи.
Почему Одиссей? Почему этот древний миф, этот герой, что плутал десять лет, чтобы вернуться к своей верной жене и своему дому, стал каркасом для истории рекламного агента Леопольда Блума, который плутает всего один день, но плутает не только по улицам, но и по всем закоулкам человеческой души, по своей собственной памяти, по своим желаниям, по своей боли? И Стивен Дедал, этот юный, гордый, измученный дух, знакомый нам по другому его творению, где он выковывал свою душу на наковальне опыта, бежал от Бога, отечества и семьи – он стал Телемахом, сыном, ищущим отца, или, может быть, просто ищущим смысл, якорь в этом безбрежном, враждебном мире. А Молли Блум… Молли. Земля. Плоть. Пенелопа, да, но Пенелопа, что не просто ждет, а живет, кипит, дышит, желает, изменяет, и чей внутренний мир – это поток, бесконечный, без знаков препинания, как сама жизнь, как сама природа, что не знает ни точек, ни запятых, только нескончаемое движение, нескончаемое «Да».
Это была не просто прихоть – взять миф. Это была необходимость. Необходимость показать, что эпическое не умерло, что оно не погребено под руинами древних цивилизаций, а живет – да, живет! – в каждом шаге обычного человека, в каждой его мысли, в каждом его вздохе, в каждом, прости Господи, позыве его тела. Это было возвышение обыденности до уровня мифа, придание каждому перекрестку в Дублине значимости Итаки, каждому пабу – пещеры Циклопа, каждому борделю – острова Цирцеи. И в то же время – это была ирония, горькая, всепроникающая, ирония над величием древности, помещенным в контекст трагической пошлости современности. Блум – не воин, он мирный человек, который пытается выжить, который страдает, который любит, который боится, который иногда смешон, иногда жалок, но который, по Джойсу, не менее достоин стать героем эпоса, чем тот, кто сражался под стенами Трои.
Но написание этого… этого монстра, этой Библии современности, заняло годы. Восемь лет. Восемь лет борьбы. Не только с материалом, который он хотел втиснуть в один день, но и с жизнью самой. С бедностью – постоянной, грызущей, заставляющей скитаться по чужим городам, преподавать, просить помощи. С болезнью – проклятой болезнью глаз, которая грозила отнять у него свет, свет, которым он видел и преображал мир. Операция за операцией, боль, страх – и при этом он продолжал писать, выцарапывать слова из темноты, из хаоса своего разума. И цензура! О, эта трусливая, слепая цензура, которая увидела в его правде о человеке только непристойность, только грязь. Части печатали в Америке, в журнале, и их тут же запретили, издателя таскали по судам. Никто не хотел браться за книгу целиком, никто из «респектабельных» издателей в Англии или Америке. Слишком опасно, слишком грязно, слишком… «слишком».
Но были и те, кто видел. Те, кто понимал, что перед ними не просто книга, а событие. Были руки, протянутые из этой литературной тьмы. Эзра Паунд – резкий, но прозорливый, один из первых, кто понял и помог пробиться. Харриет Шоу Уивер – ангел-хранитель, английская меценатка, чьи деньги давали ему возможность дышать, работать, не умереть с голоду в чужой стране. И Сильвия Бич – американка, владелица маленького книжного магазинчика в Париже, «Шекспир и Компания», места, где собирались изгнанники, искатели, те, кто чувствовал, что старый мир рушится и нужно строить новый. Она, женщина, взяла на себя этот риск, этот сумасшедший риск, и опубликовала «Улисса» в 1922 году. В Париже. На свой страх и риск. Без нее книга могла бы остаться в рукописи, ждать десятилетиями. Она дала ей жизнь. И Валери Ларбо во Франции, кто первым из влиятельных критиков возвестил миру: смотрите, что произошло!
А современники… Что ж, мир разделился. Для одних – это был шок, скандал, грязная, бессмысленная груда слов. «Отвратительно», «нечитаемо», «хаос», «порнография». Консерваторы плевались, обыватели негодовали. Книгу запрещали, жгли, прятали. Но другие… Другие, те, кто чувствовал пульс времени, кто понимал, что литература должна измениться, чтобы отразить этот новый, фрагментированный, безумный мир, они увидели в «Улиссе» откровение. Т.С. Элиот, этот строгий, надменный Элиот, назвал его «самым важным выражением», методом, который «имеет научную ценность». Вирджиния Вульф, поначалу морщившая нос от его «грубости», позже признала его гений и влияние. Хемингуэй, сам строивший свой стиль на обломках старого мира, восхищался им. Это было землетрясение, и те, кто стоял на твердой земле, почувствовали толчки и испугались, а те, кто уже плыл в открытом море модернизма, увидели, как меняется береговая линия.
А сам Джойс? Какой он был, этот человек, что осмелился заглянуть так глубоко в бездну сознания? Не герой, нет. Обычный, в чем-то даже нелепый. Суеверный до смешного, боялся грозы, собак – он, что создал Циклопа и Цербера в своем тексте. Гордый, непримиримый в вопросах искусства, готовый жить в нищете, лишь бы не идти на компромисс. Педантичный до мелочей, выверявший каждую деталь Дублина по картам, по памяти, требовавший от друзей присылать ему информацию о погоде в Дублине в тот самый день, 16 июня 1904 года! И при этом – человек, что любил петь, у него был прекрасный тенор, он мог бы стать певцом. Человек, привязанный к своей семье, к своей Норе, этой земной, неграмотной женщине, чья витальность стала источником его вдохновения и, возможно, его страданий. Человек, чья дочь сошла с ума, и эта трагедия, эта боль отца… Все это было в нем, в этом внешне сдержанном, сосредоточенном человеке, который носил внутри себя целую вселенную, готовую взорваться на страницах его книг.
И были другие книги, да. «Дублинцы» – эти холодные, ясные новеллы, как застывшие кадры из жизни, пронизанные этим самым параличом. «Портрет художника» – путь становления, бунта, бегства, написанный еще в традиционной манере, но уже с проблесками того, что придет потом. Пьеса «Изгнанники» – попытка разобраться в вечных вопросах брака и свободы, во многом о себе, о Норе. И потом… потом был «Поминки по Финнегану». Если «Улисс» – это день, то «Финнеган» – это ночь, это сон, это все языки мира, смешанные в один поток, это история человечества, семьи, грехопадения, написанная на языке, которого не существовало до него, языке, который нужно было расшифровывать, как древний манускрипт. Это его последнее слово, его уход в абсолютную глубину, в абсолютный хаос, или, может быть, в абсолютный порядок сна, который для нас, бодрствующих, кажется хаосом.
Так и стоит он там, на полке, этот «Улисс». Не просто книга, а вызов. Памятник. Лабиринт. Зеркало. Свидетельство того, на что способен один человек, когда он решает вместить весь мир, всю историю, все мысли и чувства в один-единственный день, в жизни одного-единственного города, одного-единственного человека, что просто шел по своим делам, не зная, что его шаги отмеряют ритм нового эпоса. И этот день до сих пор не закончился. Он продолжается каждый раз, когда кто-то открывает эту книгу и решается пройти его вместе с Блумом.
Нора, из Голуэя, где ветер с Атлантики выбивает остатки тепла из камней, где земля сырая и пахнет торфом и солью, не книжная, нет, Боже упаси, не та, что сидит с томиком на коленях, подперев подбородок, а та, что знает вес мокрого белья в руках, жар плиты, крик ребенка, усталость в пояснице после целого дня на ногах в чужом доме, в дублинском отеле, где он ее и нашел, или это она его нашла, кто теперь разберет, этот высокий, худощавый, с этим странным взглядом, полным чего-то, чего ей не понять, чего она никогда и не пыталась понять, да и зачем?
Он, Джеймс, весь из слов, из шороха бумаги, из скрипа пера, из голосов, что гудели у него в голове, как пчелы в улье, голосов Дублина, который он носил в себе, как занозу, как смертельную болезнь, от которой не было лекарства, только эти слова, слова, слова, выливавшиеся на страницы потоком, который она видела, но не слышала, не разбирала, как шум далекого моря, красивый, возможно, но бессмысленный для тех, кто не умеет плавать.
Она не читала его книг. Не могла читать их, не так, как те ученые мужи, что потом будут склоняться над ними, морща лбы, выискивая смыслы в каждой запятой, в каждой аллюзии, в каждом слове, вывернутом наизнанку. Для нее это был просто ворох бумаги, исчерченный его неровным почерком, запах чернил и табака, еще одно проявление его странности, его одержимости, с которой она просто жила. Как жила с его пьянством, с его внезапными страхами, с постоянной нехваткой денег, с переездами – Триест, Цюрих, Париж – города без корней, без своего очага, только съемные квартиры, где чужой воздух и чужие тени в углах.
Она была его якорем. Не потому, что понимала его гений – это слово, что потом будут шептать с придыханием, было для нее пустым звуком – а потому, что понимала его человека. Знала, когда он голоден, когда ему холодно, когда ему нужно просто сидеть рядом в тишине, когда его терзают демоны, которых она не видела, но чувствовала их присутствие в его напряженной спине, в стиснутых кулаках. Она знала его страхи, его мелкие слабости, его огромную, ненасытную потребность в том, чтобы она была там. Просто была. Нора. Реальная. Пахнущая домом, которого у них не было.
Эти книги… «Улисс»… название, которое она, наверное, произносила с трудом, если вообще произносила. Что ей было до этого Одиссея, до этого Блума, до этой Молли? Молли… Да, она знала, чувствовала, что что-то от нее самой, от ее тела, от ее голоса, от ее земной, неопрятной, страстной сути перекочевало на эти страницы, стало частью этого огромного, непонятного мира, который он строил. Она была сырьем. Глиной. Землей, из которой он лепил свои странные, громоздкие соборы слов. Ирония, горькая, как ирландский виски, в том, что она, сама суть его творения, никогда не увидит его завершенным, не прочтет его.
«Почему бы тебе не писать нормальные книги, Джеймс?» – возможно, она и сказала так, или только подумала, или это просто ветер принес эту фразу с болот Голуэя, фразу простой женщины, у которой есть дела поважнее, чем разбираться в лабиринтах чужого ума. Нормальные книги. Те, что читают в поезде или перед сном, те, что заканчиваются, и ты знаешь, чем все кончилось. Не этот бесконечный, громоздкий, шумный поток сознания, который был его жизнью, и который стал их жизнью, и который она просто терпела, как терпят плохую погоду или зубную боль.
Она не понимала его славы, когда она пришла, не совсем. Понимала, что это приносит деньги, что теперь не надо так сильно волноваться о завтрашнем дне, что люди смотрят на него с почтением, на ее Джеймса, того самого, что забывает, куда положил шляпу, и что запинается на лестнице. Гордость? Возможно. Смутное осознание того, что он другой, всегда был другим, с самого начала, с той первой встречи на Меррион Сквер, когда он подошел к ней, и что-то изменилось, необратимо, как сдвиг тектонических плит.
Она не понимала кем он был для мира литературы. Но она знала, кем он был для нее. Мужем. Отцом их детей, Джорджо и бедной Лючии, чья собственная тьма стала еще одной тенью в их и без того непростой жизни. Человеком, который нуждался в ее тепле, в ее простоте, в ее некнижной, животной, неоспоримой реальности, как в воздухе.
И, возможно, в этом и заключалось ее самое глубокое, невысказанное понимание. Не умом, а нутром, кровью, костями: что он, гений или нет, был бы потерян без нее. Что все эти слова, все эти миры, которые он создавал, в конечном итоге, возвращались к ней, к Норе, женщине из Голуэя, которая просто жила свою жизнь рядом с ним, не читая его книг, но являясь, сама того не зная, самой главной их главой. Тяжелой, земной, настоящей главой, без которой вся остальная история просто рассыпалась бы в пыль. И это знание, тихое, невербальное, было, возможно, тяжелее и значительнее любого интеллектуального понимания. Как вес земли под ногами, когда голова витает в облаках.
Он говорил. О да, Фолкнер говорил это снова и снова, когда их глаза, острые, любопытные, порой даже хищные, ловили его взгляд через дым сигарет, через расстояние, через ту невидимую, но плотную стену, которую он всегда воздвигал между собой и остальным миром. Они спрашивали о влияниях, о современниках, о тех, кто тоже ворошил эту проклятую почву слов в других местах, под другим небом. И он отвечал, небрежно, с той особой, южной, слегка высокомерной вежливостью, что на самом деле была лишь еще одним слоем защиты. Он говорил, что не читает их, этих других. Что нет у него времени, нет нужды. Что его колодцы глубоки и стары, питаются не мутными поверхностными потоками модных течений, а водами Библии, грохочущими раскатами Шекспира, самой землей, ее неразрешимым горем, ее выносливостью, кровью, что пропитала ее, костями, что покоятся в ней. Он говорил, что черпает изнутри, из той необъятной, хаотичной, болезненной вселенной, что была заключена в его собственной голове, в его собственном сердце, отягощенном веками вины и гордости. Он строил свой миф, миф о гении-самородке, выросшем из почвы Миссисипи, не тронутом, не испорченном чужими, городскими, европейскими влияниями. И, возможно, в тот момент, когда он говорил это, он верил в это. Или хотел верить. Или просто хотел, чтобы они верили, чтобы оставили его в покое в его выстраданном, одиноком величии.
Но память… Память – она коварна. Она прячется, затаивается, а потом всплывает внезапно, без спроса, как утопленник на поверхность пруда. И была такая память. О Париже. О шуме, запахах, свете того особого парижского дня или вечера. Кафе. Улица. Столики на террасе. И он шел. Возможно, спешил, возможно, просто бродил, как он это умел, неприкаянный, потерянный в толпе, но всегда окутанный своим собственным, невидимым туманом. И вдруг… Он увидел его. Его. Джойса. Сидящего за столиком, погруженного в себя, в свои бумаги или в свою чашку кофе, среди этого гомона, этого движения, но словно в центре недвижной точки. Другой полюс. Другой мир. Но такой же необъятный, такой же плотный, такой же… одинокий.
Что-то оборвалось внутри. Дыхание? Шаг? Рука, потянувшаяся за пачкой сигарет, замерла на полпути. Сердце… да, оно, наверное, дрогнуло, пропустило удар, заколотилось где-то в горле. Подойти? Сказать что? «Мистер Джойс? Я… я тоже пишу.» Глупость какая. Невозможно. Слишком много всего. Слишком много сказанного, слишком много несказанного. Слишком много расстояния, не только географического. Робкость? Да, черт возьми, та самая, нелепая, детская робкость, которая никуда не делась, даже когда мир признал его. Гордыня? Возможно. Та самая, что заставляла отрицать необходимость в «других». Страх? Страх перед лицом чего-то столь же мощного, столь же подлинного, что могло бы пробить брешь в его тщательно выстроенной обороне? Он просто стоял. Смотрел. Как на явление природы, которое нельзя потрогать, нельзя приблизиться, можно только наблюдать издалека, впитывая его неоспоримое, пугающее существование. Смотрел, пока взгляд не стал невыносимым, пока что-то внутри не закричало, приказывая уйти. И он ушел. Не сказав ни слова. Не сделав шага навстречу. Оставив эту встречу лишь призраком в лабиринтах своей памяти.
А потом… потом пришло время, когда его собственное дыхание стало лишь слабым, прерывающимся шепотом, а затем и вовсе затихло. Дом опустел. Остались вещи. Остались книги. Безмолвные свидетели прожитой жизни, выстраданных слов, тайных мыслей. И вот там, среди них, среди этих корешков, знакомых и истертых, обнаружилась Она. Та Самая. Тяжелая, внушительная, пришедшая из того самого мира, из того самого города, от того самого человека, которого он видел, но к которому не подошел. «Улисс». Книга, чье имя он произносил с легкой насмешкой или полным безразличием.
И она не была чиста. О, нет. Она была… населена. Изрезана, испещрена, помечена, как старинная карта сокровищ или поле боя, где велась ожесточенная, но невидимая битва. Его почерк – быстрый, сильный, порой небрежный, порой удивительно точный – метался по полям, подчеркивал целые абзацы, ставил вопросительные знаки, восклицательные знаки, короткие, резкие комментарии, слова, которые были похожи на бормотание, на спор, на признание. Это не было просто чтение. Эта была «борьба». Это было «погружение». Это был «диалог», который он не смог или не захотел вести вслух, лицом к лицу на парижской террасе, но который вел здесь, в одиночестве своей комнаты, страница за страницей, час за часом, ночь за ночью. Он впитывал, он отвергал, он соглашался, он спорил, он учился, он отталкивался, он позволял этому чужому, мощному потоку вливаться в его собственные, уже бурные воды.
Это было неопровержимое доказательство. Тихое, скрытое, найденное лишь после того, как защитник покинул крепость. Доказательство того, что он не просто знал, не просто мельком взглянул из любопытства, а погрузился в этот океан чужого сознания, чужого города, чужой, но такой же универсальной человеческой комедии и трагедии. Это было опровержение всех его слов, всех его отрицаний, всего того мифа о самодостаточности, который он так старательно выстраивал.
И в этом была такая… такая пронзительная, такая глубокая, такая «южная» правда. Правда о том, что мы говорим миру, и правда о том, что происходит внутри, в тайных комнатах души. Правда о бремени знания, о бремени влияния, о бремени быть частью чего-то большего, чем ты сам, даже если ты хочешь стоять особняком. Правда о человеке, с его противоречиями, его гордыней, его робкостью, его скрытыми страстями и признаниями. Как старые семейные тайны, что хранятся под замком, но чьи тени все равно падают на порог дома, рассказывая свою историю тем, кто умеет видеть.
Да. Так это и было. Сложно. Многослойно. Неожиданно. И так… так совершенно «он». Человек, который отрицал мир, пока боролся с ним в тишине своей библиотеки. Человек, который строил стены, пока тайно прокладывал тоннели под ними. Уильям Фолкнер. Бремя… Бремя гения. Бремя человека. Бремя Юга. И бремя «Улисса», тихо лежащего на столе, помеченного его рукой, как немой, но красноречивый свидетель этой тайной, глубокой связи.
Герман Гессе
Ах, да. «Степной Волк». Не просто книга, говорю тебе. Никогда не была ею, ни на одну проклятую страницу. Это было… это было как вскрыть вену и дать крови хлынуть на бумагу, чернила смешивались с чем-то более плотным, более жгучим, чем просто чернила – с болью, с отчаянием, с тем глухим, ноющим чувством, которое поселяется в груди, когда понимаешь, что потерял не просто кого-то, а, возможно, последнюю нить, связывающую тебя с миром, с теплом, с чем-то, что не было тобой самим, твоим проклятым, вечно сомневающимся, вечно отстраненным «я».
Герман Гессе. Да, имя автора. Столп литературы, мудрец, отшельник из Монтаньолы. Но в те годы, в те самые годы, когда рождался этот зверь, этот Волк, он был не столько мудрецом, сколько раненым животным, запертым в клетке собственного черепа, в тихом, проклятом тишиной доме где-то в Швейцарии. Дом стоял, наверное, среди холмов, или у озера, спокойный снаружи, с аккуратным садом, все как положено. Но внутри… внутри был не дом, а пыточная камера души. Каждый предмет, каждая тень в углу, каждый звук, или, вернее, отсутствие звука, кричало о ней. О Рут.
Она. Вторая жена. Рут Венгер. Моложе на двадцать лет. Двадцать лет, понимаешь? Целая жизнь, которая для него уже прошла, или которой он, может быть, никогда и не жил по-настоящему, погруженный в свои книги, свои мысли, свои вечные поиски. Она была художницей, яркой, живой, с глазами, которые, наверное, видели мир в совсем других красках, чем его, приглушенные, пыльные оттенки. Она принесла в его жизнь – или он надеялся, что она принесет – этот вихрь молодости, свободы, чувственности, той самой «жизни», которую его герой, Гарри Галлер, так презирал, но которая, как ядовитый цветок, все равно притягивала его, манила своей запретной яркостью.
Они поженились в двадцать четвертом. Звучит так просто, правда? «Поженились». Но это было не строительство общего очага, нет. Это было, скорее, как попытка связать два корабля, идущих разными курсами, тонкой, натянутой нитью. И нить порвалась, как и следовало ожидать. Не сразу. Медленно, мучительно. Сначала она уезжала. Путешествия, встречи, ее собственная жизнь, которая не умещалась в рамках его, Гессе, тихого, устоявшегося мира, мира, где даже кризис был слишком интеллигентным, слишком книжным. А потом… потом ее отсутствие стало постоянным. Не было громкого развода, не было скандалов, только эта нарастающая, оглушительная тишина, которая осталась после ее ухода, после того, как ее вещи, ее запахи, ее смех постепенно исчезли из комнат.
И вот он. Гессе. Один. Приближается к пятидесяти. Годы, когда начинаешь подводить итоги, когда каждая упущенная возможность, каждая ошибка, каждое неправильно сказанное или не сказанное слово всплывает из глубины, как утопленник. Мир снаружи изменился до неузнаваемости после войны – этот грохочущий, пошлый, поверхностный мир джаза, автомобилей, сиюминутных удовольствий. Мир, который Гессе-Галлер презирал всем своим существом, чувствуя себя архаизмом, реликтом другой эпохи, других ценностей. Но внутри… внутри было еще хуже.
Кризис. Психологический ад. Да, он обращался к Юнгу, копался в подсознании. Но что стало детонатором? Что превратило глубокую меланхолию в этот вопль? Ее уход. Оставленность. Чувство, что ты не просто одинок, а неспособен не быть одиноким. Неспособен удержать рядом человека, который был для тебя одновременно спасением и пыткой, зеркалом, в котором ты видел все, чего тебе не хватало, и все, чего ты боялся. Провал этого брака, этого последнего, отчаянного броска к другому человеку, стал подтверждением его, Гессе-Галлера, фундаментальной отчужденности. Он был чужим для мира, чужим для других, и, самое страшное, чужим для самого себя.
Именно тогда, в этой тишине, пропитанной ее отсутствием, в этом доме, который стал памятником несбывшемуся, родился «Степной Волк». Или, вернее, явился ему во всей своей ужасающей ясности. Гарри Галлер – это он сам, доведенный до квинтэссенции своей отчужденности, своей интеллектуальной гордыни, своего презрения к миру и своей мучительной жажды этого мира. Его «Трактат о Степном Волке», эта холодная, псевдонаучная попытка разложить себя на части, понять свою двойственность – Человек и Волк – это же крик о помощи, попытка хоть как-то осмыслить собственную разорванность, собственную неспособность к целостности, к гармонии. Он писал себя, пытаясь понять, кто он, этот зверь, что воет в степи его души, пока мир вокруг танцует под джаз, а женщина, которую он, возможно, любил или отчаянно хотел понять, живет где-то своей, недоступной жизнью.
И вот тогда на страницах книги появляется она. Гермина. Невероятная, андрогинная, мудрая и порочная одновременно. И как же она похожа на его друга детства, Германа! Эта двойственность, эта игра с именами, с полом – это же тоже отражение его собственной путаницы, его поиска себя, его желания увидеть в другом то, что он потерял или никогда не имел. Гермина – это не просто персонаж. Это проводник. Она ведет Галлера туда, куда он боялся ступить – в мир чувственности, танца, спонтанности, в мир, который, возможно, был миром Рут Венгер. Она учит его танцевать фокстрот, этот символ ненавистной ему эпохи, учит его не только думать, но и чувствовать, жить моментом, не анализируя его до смерти. Это мучительное обучение, потому что каждый шаг в этом новом мире – это шаг прочь от старого, привычного, хоть и болезненного, «я».
И, конечно, Магический Театр. «Вход – цена рассудка». О, этот лабиринт, этот зеркальный зал, где нет стен, нет пола, нет потолка, а есть лишь бесчисленные двери, ведущие в бесчисленные версии самого себя, в бесчисленные кошмары и фантазии. Это кульминация его погружения в себя, в свое подсознание, в тот хаос, который Юнг помогал ему распутывать. В Магическом Театре Галлер сталкивается со всеми своими «я» – смешными, жалкими, возвышенными, низменными. Он видит себя в сотнях зеркал, и каждое зеркало искажает, но и показывает что-то истинное. Он видит призраков своих страхов, своих желаний, своих потерь. И, несомненно, он видит ее призрак – Рут, или Гермины, или той части жизни, которая ускользнула. Пабло, саксофонист, воплощение гедонизма и момента, и Мария, чувственная и земная – они тоже обитатели этого театра, аспекты того мира, который он так долго отрицал, но который теперь должен был принять, или хотя бы попытаться понять.
Написание «Степного Волка» было для Гессе не просто творческим актом. Это была операция на открытом сердце, попытка собрать shattered pieces, осколки своей души, разбросанные по комнате после того, как дверь за ней закрылась. Это было изгнание демонов, материализация боли на бумаге, чтобы ее можно было увидеть, назвать по имени и, возможно, хоть немного ослабить ее хватку. Каждая фраза, каждый образ, каждый мучительный диалог Галлера с самим собой или с обитателями Магического Театра – это эхо тех дней, той тишины, того одиночества в доме, который должен был стать их общим, но стал лишь его кельей и его ареной.
Так что да, это книга. Стоит на полке. Можно прочитать. Но загляни глубже. Почувствуй эту боль, эту отчужденность, эту отчаянную попытку понять, как жить, когда чувствуешь себя степным волком – неспособным жить ни со стаей, ни в одиночку. Это вой, который доносится из глубины души человека, оставленного в тишине, человека, который превратил свою личную трагедию в универсальную историю о поиске себя в хаотичном мире. История, рожденная из боли разрыва, из эха шагов, удаляющихся по пустой лестнице в доме в Монтаньоле. И этот вой звучит до сих пор.
«Игра в Бисер»… да, Гессе, этот старый, вечно ищущий человек, который нес на своих плечах всю тяжесть европейской души, или, по крайней мере, той ее части, что еще помнила о садах Духа, о музыке сфер, о том, что было до грохота и пыли. Его последнее слово, понимаете, выдох, стон, или, может быть, молитва, выстроенная из слов, как та самая Игра из бусин. Не просто книга, нет, это… это крепость, возведенная на бумаге против надвигающегося потопа вульгарности, шума, забвения. Попытка собрать воедино то, что уже рассыпалось в прах под гусеницами истории.
И место действия, да, Касталия. Не просто провинция на карте, нет. Это идея, воплощенная в камне и тишине, убежище для тех, кто еще верил, что есть нечто выше суеты, выше политики, выше денег, выше даже боли – Чистое Знание, Чистое Искусство, Чистая Мысль. Уединенный мир, отгороженный от «Внешнего», этого бурлящего, немыслимого в своей хаотичности, бессмысленного мира, где люди жили, страдали, рожали, умирали, не ведая, или забыв, или просто не имея времени, о том, что где-то там, в стенах этой Вальдзелльской обители, сохраняется, оберегается, лелеется все, что было когда-либо прекрасного, мудрого, вечного. Время? Будущее, да, но какое-то странное будущее, не футуристическое, нет, а скорее… отстоявшееся. Будущее, которое, кажется, уже пережило апокалипсис и теперь пытается собрать осколки. Неопределенное, как пыль на старых фолиантах, как тишина в монастырских коридорах.
И вот она – Игра. Не забава, упаси вас Боже, не досуг. Это суть. Это язык. Это ритуал. Высшая форма бытия в Касталии. Представьте: не просто бусины, нет. Стеклянные, холодные, гладкие, они – символы. Символы всего: музыкальной фразы Баха, математической формулы, философского понятия, исторической даты, астрономического явления. И Мастера, эти жрецы Духа, они играют. Они создают. Не истории, нет. Они создают связи. Находят аналогии. Строят мосты между, несовместимым. Синтезируют. Гармонизируют. Это попытка увидеть единство всего сущего через его бесчисленные, разрозненные проявления. Это медитация на высшем уровне интеллекта, созерцание Абсолюта через призму человеческого знания. Это… это дыхание Касталии, ее сердцебиение, тихое, размеренное, сосредоточенное. Цель? Не победа над соперником. Цель – постижение. Постижение Гармонии, Порядка, Смысла.
И в центре всего этого – человек. Йозеф Кнехт. Его имя, да, «Слуга», «Рыцарь»… Символично, не правда ли? Его жизнь. Роман – это его биография, написанная кем-то потом, кто пытался понять его путь, его выбор. От мальчика, пришедшего из Внешнего мира (хотя и с редкой предрасположенностью к этому миру Касталии), через годы строгого, аскетичного обучения, погружения в глубины знания, в лабиринты Игры… Его восхождение. Шаг за шагом, ступень за ступенью, от послушника до ученика, от ученика до Мастера. Магистра Игры. Magister Ludi. Высшая точка. Вершина. Человек, который воплотил в себе этот мир, эту Игру.
Но… ах, всегда есть «но», не так ли? Особенно у Гессе. На вершине, где должна быть абсолютная ясность, абсолютный покой, начинает зреть сомнение. Как червь в идеальном плоде. Сомнение в ценности этой идеальной, стерильной, замкнутой жизни. В ее оторванности. В ее бесплодности для того самого Внешнего мира, который продолжает страдать, бороться, жить по-настоящему. Осознание, мучительное, медленное, как прорастание семени, что чистое созерцание, каким бы совершенным оно ни было, может быть недостаточно. Что знание, не воплощенное в действие, не отданное миру, рискует стать мертвым грузом, прекрасным, но бесполезным артефактом в музее.
И тогда… тогда происходит этот разрыв. Этот уход. Не бегство, нет. Решение. Решение покинуть совершенство ради… ради чего? Ради жизни. Ради служения. Ради попытки соединить то, что было разорвано. Отказаться от власти, от признания, от безопасности ради неопределенности, ради риска, ради реальности. Он уходит. Возвращается во Внешний мир, чтобы стать… учителем. Простым учителем для детей, тех, кто еще не испорчен, кто еще может услышать. И вот тут… тут самая пронзительная, самая горькая часть. Его конец. Быстрый. Нелепый. Как будто сам мир, этот непредсказуемый, грубый Внешний мир, не выдержал прикосновения такой чистоты, такого идеала. Оборвал нить.
И эти «Три Жизни», да, что идут после основной биографии, как эпилог, но написанные им до конца. Три притчи. Три возможных пути. Как будто он знал, или чувствовал варианты своей судьбы, своих исканий. Аллегории, как будто он сам, еще будучи учеником, уже играл в эту великую Игру своей собственной жизни, перебирая возможные ходы, возможные исходы.
Темы? О, их много, и они тяжелы, как старые камни. Вечный спор между жизнью Духа и жизнью Дела. Бремя культуры – как ее сохранить, как передать, чтобы она не стала мертвым грузом или игрушкой для избранных? Ответственность тех, кто знает, кто видит дальше других. Должны ли они уединяться или идти в мир? Порядок против Хаоса – Касталия как воплощение первого, Внешний мир как воплощение второго, и человек, Кнехт, как мост, или как жертва, брошенная между ними. И, конечно, поиск – вечный, мучительный поиск себя, своего места, своего служения в этом мире, который, кажется, все больше теряет ориентиры.
Это книга, написанная в тени великой войны, когда мир окончательно сошел с ума. Попытка Гессе найти убежище, да, но не просто для себя, а для идеи человека, для идеи культуры. Но не наивная попытка. Он видел трещины в стенах своей Касталии, видел ее холодность, ее опасность стать самоцелью, забывшей о жизни, которая ее породила.
«Игра в Бисер»… это не развлечение. Это вызов. Вызов читателю. Вызов миру. Тихий, упорный, отчаянный шепот о том, что есть вещи, за которые стоит бороться. Что даже в хаосе можно искать порядок. Что знание – это не только сила, но и ответственность. И что путь человека, даже самого просветленного, остается путем, полным сомнений, потерь и, возможно, трагической незавершенности. Тяжелая книга, да. Но та, которая… которая остается с тобой. Как те самые стеклянные бусины, холодные и полные неведомого смысла.
Хемингуэй
Память пришла, как всегда, без стука, без разрешения, ворвалась в комнату вместе с запахом, запахом не только гниющего мяса под палящим африканским солнцем – нет, это было слишком просто, слишком «буквально». Запах был сложнее, тоньше, но пронзительнее: запах дорогого парфюма, смешанного с алкогольным перегаром и пылью парижских бульваров, запах Ривьеры в разгар сезона, когда солнце не ласкает, а бьет по телу, высушивая не только кожу, но и душу. Запах денег, больших, легких, липких денег, которые оседали на всем, превращая золото в прах, талант – в компромисс, жизнь – в бесконечный, сверкающий банкет, на котором подавали только смерть.
Он сидел там, в этой хижине, с чертовой гангреной, ползущей вверх по ноге, ползущей так же неумолимо, как время ползло к концу, и писал. Писал в лихорадке, не только от заразы, но и от ярости, от осознания того, как много было потеряно, как много «позволено» себе потерять. Слова выходили не просто жесткими, они были как осколки разбитого стекла, как щепки кости, выдираемые из живого тела. Каждое слово было обвинением, брошенным в лицо миру, себе самому, «им». Тем, кто сидел в мягких креслах, кто смеялся дорогим, хрустальным смехом, который разбивался вдребезги при малейшем прикосновении к реальности. Кто пил шампанское, пока талант, подобно мясу под солнцем, покрывался коркой, чернел и начинал разлагаться.
И он вспомнил Скотта. Конечно, вспомнил Скотта. Как можно было не вспомнить? Скотт, золотой мальчик, который сиял ярче всех, чьи первые слова сверкали, как роса на паутине, как бриллианты в свете рампы. Скотт, который пришел в Париж с обещанием великой литературы, с изяществом, которое он сам, Эрнест, никогда не умел, да и не хотел иметь. Но Скотт пришел не один. Он пришел с ней. С Зельдой.
Зельда. Боже. Она была красива до боли, до сумасшествия. Хрупкая, нервная, сияющая, как бензиновое пятно на воде – переливалась всеми цветами, но была тонкой, легко разрывающейся. Она была частью этого мира, мира очень богатых, даже больше, чем Скотт сам. Она была его воплощением, его музой и его проклятием. Ее смех был частью того хрустального звона, ее легкость – частью той свинцовой тяжести, которая тянула Скотта вниз. Она танцевала, она тратила деньги, она была прекрасна и разрушительна, как ураган в шелках. И Скотт… Скотт любил ее так, как любят безумие, как любят огонь, который тебя сжигает. Он пытался писать о них, о мире, в котором вращалась Зельда, потому что он «был» там, потому что он «хотел» быть там, потому что «она» была там. И постепенно, незаметно, этот мир въелся в него, как морская соль в дерево, как ржавчина в металл. Его слова стали тоньше, его темы – мельче, его гений… его гений начал гнить.
И он, Эрнест, видел это. Видел, как Скотт, его друг, его товарищ по перу (хотя Эрнест всегда презирал эту легкость, эту сверкающую поверхностность, которая была у Скотта даже в лучшие моменты), продает себя по частям. Не за деньги напрямую – нет, это было бы слишком просто, слишком честно. Он продавал себя за право принадлежать, за право сидеть за «их» столами, дышать «их» воздухом, быть «их» частью. За право любить Зельду в «ее» мире. И Эрнест написал об этом. Не называя имен напрямую сначала, но потом… потом что-то прорвалось. Ярость? Боль? Презрение? Все вместе. И он поставил имя. Поставил его в уста умирающего человека, в самое сердце обвинения, которое было не только обвинением Скотту, но и обвинением себе самому – за то, что видел и молчал, или за то, что сам едва не поддался этому миру, или просто за то, что жизнь оказалась такой грязной и несправедливой. «Он видел, как Скотт Фицджеральд писал о очень богатых, потому что он был частью их мира,» – да, так, или почти так, это звучало. Как приговор. Приговор другу.
И письмо пришло. Или телеграмма. Из Америки. Тонкий конверт, бумага прозрачная, как кожа Зельды. И слова. Слова Скотта. Слова, которые не были написаны чернилами, а выцарапаны ногтями по сердцу. Слова, полные боли, недоумения, ужаса. – Как ты мог, Эрнест? – кричало оно. – Поставить мое имя туда? В эту историю? В уста человека, который умирает и обвиняет меня в том, что я продал свой талант? Ты же знаешь… ты же знаешь, как я боролся. Как все было на самом деле. Как больно было. Как больно сейчас читать это. Это неправда, Эрнест. Или правда, но не та правда, которую можно так бросить. Это больно. Больно так, как ты, возможно, никогда не поймешь, потому что ты не был там, внутри этого вихря, с ней… с Зельдой… Убери его. Пожалуйста. Убери мое имя.
И он прочитал это. В хижине, под палящим солнцем, с запахом смерти в ноздрях. Прочитал слова Скотта, слова, которые были не литературной критикой, не спором о стиле, а криком раненого зверя. И что-то… что-то шевельнулось внутри. Не жалость – Эрнест презирал жалость, особенно к себе или к тем, кто сам выбрал свой путь в ад. Не раскаяние – он верил в правду, какой бы жестокой она ни была. Но что-то другое. Что-то, что имело отношение к тем дням в Париже, до того, как деньги и слава и женщины и безумие Зельды стали стеной между ними. Что-то, что признавало боль другого человека, даже если эта боль казалась ему, Эрнесту, заслуженной или, по крайней мере, неизбежной расплатой. Или просто усталость. Или понимание, что некоторые раны не нуждаются в соли, даже если соль – это правда.
И он сделал это. Взял ручку. И зачеркнул. Небрежно? Нет. С усилием. Как будто вырывал зуб, как будто ампутировал часть себя, часть той ярости, той правды, которая казалась ему необходимой. Зачеркнул имя Скотта. Оставил пустое место. Многоточие. Тишину. Убрал его из текста, из обвинения, из умирающих мыслей героя. Почему? Он сам не мог объяснить. Момент слабости, пойманный в ловушку чужой боли? Признание того, что даже самая жесткая правда может быть искажена, если произнесена неправильно, не тем тоном? Или просто… дань прошлому? Да, возможно, просто дань тем дням, когда Скотт был просто Скоттом, а не символом продажности, и Зельда была просто Зельдой, а не воплощением разрушительной легкости.
Имя исчезло. Исчезло со страницы. Но не из памяти, нет. Никогда из памяти. Память о Скотте, о его письме, о его боли, о Зельде, о ее смехе и ее безумии, о своем собственном странном, необъяснимом поступке – все это осталось. Осталось, как запах гниения, как боль в ноге, как вечная, незаживающая рана, оставленная словами, которые были сказаны, и словами, которые пришлось убрать, оставив после себя лишь призрак былой дружбы и былой жестокости под вечными, равнодушными снегами Килиманджаро. Снегами, которые обещали чистоту и вечность, но видели только смерть, медленную и грязную, смерть от компромисса, смерть от жизни, прожитой не так, как следовало бы. Имя исчезло, но шрам остался. На странице. В душе. Навсегда.
Фолкнер и Хемингуэй. Вот они. Видите ли. Или нет, не видите, конечно. Их не видно, как не видно ветра, что гнет верхушки сосен, пока не увидишь, как они качаются, не услышишь их долгий, тоскливый вздох. Но они есть, как старые, давно срубленные деревья, чьи корни, глубоко впившиеся в почву, все еще держат ее, не дают осыпаться в пропасть забвения, чьи тени, длинные и синие, все еще ложатся на землю, даже если солнце встало совсем над другим местом, над другими холмами, другими городами. Две фигуры, две силы, не то чтобы враги, нет, враги – это слишком просто, слишком… чисто, как будто вытереть доску влажной тряпкой и начать писать снова, а это никогда не бывает сначала, никогда, все уже написано где-то там, в воздухе, в пыли дорог, в крови, что пролилась давным-давно. Скорее два полюса, две стороны одной монеты, отчеканенной из одного металла, но с разным рисунком, брошенной высоко-высоко, в самое зенитное солнце, и вот она падает, падает, и никто, ни единая душа не знает, как она ляжет, только что это будет или орел, или решка, и никакой середины, никакого спасительного ребра, никакой возможности просто остаться в воздухе, в невесомости неведения. Фолкнер и Хемингуэй. Или Хемингуэй и Фолкнер. Порядок не важен, правда. Важно, что они были. Одновременно. Под одним небом, пусть и видели его по-разному – один видел его сквозь густую листву дубов, другой – над бескрайней гладью океана или выжженной солнцем равниной.
Мой собственный язык, если можно так назвать эту странную, неуклюжую, но живую вещь, что выросла из моей глотки и моих костей, из запаха мокрой земли после грозы в августе, когда пар поднимается от нагретого асфальта, из шепота старых, старых голосов, голосов рабов и хозяев, живых и мертвых, святых и грешников, всех вместе, сплетенных в единый, неразрывный хор, – он, видите ли, как этот самый юг, из которого я вышел и который никогда меня не отпустит. Густой, да. Вязкий, как патока, что медленно стекает по краю бочки, иногда. Предложения, которые начинаются где-то там, за горизонтом, где небо встречается с землей в мареве полуденного зноя, и ползут, ползут через страницу, как та самая патока, собирая по пути все, что попадается – обрывки памяти, что всплывают из глубин, как мусор из разлившейся реки, чьи-то невысказанные мысли, что висят в воздухе, тяжелые и пыльные, тени того, что могло бы быть, если бы только… и того, что было, что оставило шрамы на земле и в душах, и того, что будет, неизбежное и пугающее, – все это вплетается, переплетается, как корни старого дуба, что поднимают асфальт на дороге, как виноградная лоза, что захватывает все на своем пути, не спрашивая разрешения, не заботясь о том, что ее неумолимая тяжесть сломает ветку, просто растет, потому что не может не расти, потому что в ней сок земли, сок крови, сок времени, что не течет, как чистый ручей, а стоит, как мутная вода в колодце, и ты смотришь туда, и видишь свое собственное лицо, искаженное и слоистое, и лица тех, кто был до тебя, и тех, кто придет потом, и все они – одно, все они – здесь, в этой одной бесконечной, извивающейся, как старая змея, фразе, которая никогда по-настоящему не кончается, даже когда точка поставлена, потому что эхо ее все еще звучит, еще дрожит в воздухе, как тепло над асфальтом в полдень, как последний, невысказанный вздох. Это язык, который не боится заблудиться, нет, который хочет заблудиться, который не боится увести вас в самую чащу, в самое сердце болота, зная, что только там, среди терновника и забвения, среди комаров и запаха гниющей листвы, можно найти то, что искал, или, по крайней мере, понять, что искал вовсе не то, что думал, что искал совсем другое, что-то, что не имеет названия, но имеет вес. Это язык, который требует от вас усилий, который заставляет вас спотыкаться, продираться, чувствовать его тяжесть, потому что такова и есть сама жизнь здесь, на юге – тяжелая, запутанная, полная невысказанного и непрожитого.
А его… Хемингуэя… нет. Его язык – это нож. Чистый. Острый. Без зазубрин, без лишнего веса, без украшений, без пыли веков. Каждое слово – удар. Точный. Смертельный, если нужно, или просто констатирующий факт жизни или смерти. Предложения – короткие, как выстрелы в тире, как удары сердца в минуту опасности, когда все лишнее отсекается, когда остается только главное – дышать, бежать, стрелять, чувствовать. Ничего лишнего. Никаких теней прошлого, никаких шепотов из-за угла, никаких невысказанных обид, переходящих из поколения в поколение. Только факт. Вот человек. Вот он идет. Вот он смотрит. Вот он чувствует боль. Прямо. Необработанно. Как будто он берет реальность – войну, быка, рыбу, женщину – и сдирает с нее кожу, оставляя только напряженные мышцы и отполированные до блеска кости. Его мир – это мир действия, мир там, снаружи, где солнце бьет прямо в глаза, где смерть – это просто… смерть, мгновенный обрыв, а не долгая, изнуряющая история поколений, не родовое проклятие, тянущееся из тьмы веков. Мир, где можно найти честь и смысл не в понимании почему все произошло именно так, а не иначе, копаясь в прахе предков, а в том, как ты держишь себя перед лицом неизбежного, перед лицом боли, перед лицом конца. Он не хотел, чтобы вы шли к словарю, нет, он, наверное, презирал саму мысль об этом, как презирают слабость. Он хотел, чтобы вы чувствовали. Сразу. Без посредников. Как удар в живот, после которого перехватывает дыхание, но ты все еще стоишь на ногах.
И они говорили друг о друге, конечно. Как же не говорить? Два петуха на одном насесте, пусть и видели этот насест совсем по-разному, пусть один видел его как часть старой, гниющей фермы, а другой – как чистую, минималистичную конструкцию, пригодную только для того, чтобы сидеть и смотреть на мир. Мои слова, неуклюжие, наверное, как этот мой юг, говорили, что он никогда не использовал… ну, то, что отправляет к словарю. Может, это и была шпилька, тонкая, запрятанная в ворохе других слов. Может, просто констатация факта, такого же очевидного для меня, как то, что деревья растут вверх. Факта того, что он выбрал другой путь. Легкий? Нет. Простой? На поверхности, да, как гладкая сталь ножа. Но разве просто вынуть из камня скульптуру, оставив только ее абсолютную, голую суть? А его ответ… острый, как лезвие, как всегда, без лишних слов, без обиняков. Насмешка над моей… моей манерой виться, уходить в сторону, над тем, что он, наверное, считал многословием, ненужным шумом, за которым теряется главное. Он хотел тишины, чтобы услышать главный, единственный звук. Я хотел шума, всего шума мира, чтобы понять, откуда этот шум взялся, из каких глубин он поднялся, какие голоса в нем смешались.
Но под всем этим, под этими словами, брошенными через пропасть непонимания, под этим публичным танцем, этим странным поединком… было знание. Глубокое, невысказанное, лежащее где-то на дне колодца или в самом центре урагана. Что оба, в своем аду и своем раю, в своем юге, полном призраков и пыли, и своем мире без границ, где человек одинок перед лицом стихии, пытались сделать одно и то же. Понять. Выразить. Оставить след. Выцарапать на камне времени свое имя или просто форму человеческого страдания. Каждый своим инструментом, выбранным или, скорее, данным ему. Я – этой своей тяжелой, покрытой мхом и лишайниками кувалдой, пытаясь расколоть скалу времени, разбить ее на мелкие осколки, чтобы увидеть, что внутри, какие истории там застыли. Он – этим своим отточенным до бритвенной остроты скальпелем, разрезая плоть настоящего, чтобы увидеть, что бьется внутри, что чувствует человек в этот самый единственный миг. И мир получил обоих. Мир, который сам по себе не прост, который полон и запутанной истории, и резкой, невыносимой современности. И мир теперь… мир теперь не может представить себя без этих двух голосов, без этого диалога, который продолжается и после их ухода. Без этого густого, душного шепота истории и этого чистого, холодного крика о том, что происходит здесь и сейчас, без вчера и завтра. Два пути, такие разные, такие непохожие. И оба ведут… куда-то. Куда-то, где человек все еще пытается понять, что он такое, что значит жить, что значит умереть, и почему все это так больно и так прекрасно одновременно.
И вот он, в конце концов. Не на залитом солнцем ринге, не на палубе «Пилар», не в залитой дождем траншее, нет. Здесь, в этой прихожей, в Айдахо, где воздух чист и холоден, а горы равнодушно смотрят в окна. С ружьем. С тем самым, или похожим, тем, что ждало своего часа, возможно, с того самого момента, как другое ружье, в другом доме, десятилетия назад, оборвало другую жизнь, жизнь Отца. И это не было внезапно, нет, не для тех, кто видел, кто чувствовал нарастающую тяжесть, как туча, ползущая по небу, необратимо, неумолимо. Годы боли – не только той, что осталась от осколков и падений, от сотрясений мозга, от разорванной почки, от печени, что помнила ожог африканского солнца, но и той, другой боли, что коренилась глубже, в самой сердцевине его существа, в том месте, откуда когда-то текли слова, а теперь осталась лишь сухая, потрескавшаяся земля. И слова ушли. Вот что было страшнее всего, пожалуй. Не страх смерти – он смотрел ей в глаза не раз, с тем ли бесстрашием, что он сам себе приписывал, или с той лихорадочной бравадой, что скрывает дрожь, сейчас неважно. Страх не быть, страх не мочь. Не мочь писать. Не мочь уловить ритм фразы, не мочь найти то самое слово, что как гвоздь, вбитый точно в цель. И тогда, когда этот источник иссяк, когда шум в голове стал громче голосов персонажей, а мир сузился до размеров этой комнаты, этой прихожей, этого ствола…
И это было эхо. Эхо того выстрела, что прозвучал в 1928-м, когда его Отец, Кларенс, врач, человек, тоже загнанный в угол долгами, болезнями и той формой отчаяния, что не кричит, а лишь тихо копится, выбрал тот же путь, тот же инструмент, ту же окончательность. Семена были посеяны тогда, или, возможно, гораздо раньше, в самой крови, в той невидимой нити, что связывает поколения, передавая не только цвет глаз или форму носа, но и предрасположенность к меланхолии, к падению в бездну, из которой нет возврата. И вот, спустя десятилетия, сын повторил жест отца. И на этом круг замкнулся, трагедия завершилась в этом двойном, зеркальном акте. Но нет. Время, это коварное, безжалостное время, еще не закончило свою игру. Оно приготовило еще один удар, еще одно подтверждение того, что некоторые судьбы, некоторые линии крови, несут в себе печать рока. Спустя годы, еще один выстрел, или, вернее, его эквивалент в современном мире, завершит жизнь Марго, его внучки. Красивой, известной, тоже борющейся со своими демонами – дислексией, зависимостями, той же, возможно, унаследованной тоской. И это будет 1 июля 1996-го, день в день с его собственным уходом, 35 лет спустя. Как будто время остановилось, а потом дернулось, чтобы нанести последний, утверждающий удар, демонстрируя, что та самая нить, та самая предрасположенность, не оборвалась, а лишь ждала своего часа, чтобы проявиться вновь, как наследственная болезнь, как фамильное клеймо. Отец – Сын – Внучка. Три точки на линии времени, соединенные невидимой, кровавой нитью.
