Сердце красного гиганта
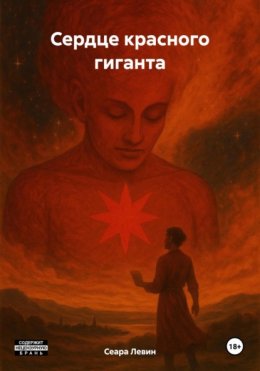
Предисловие автора
Верным будет сказать, что эта книга не столько о любви, сколько есть любовь. Честным будет сказать, что эта любовь была убита. Не умышленно, но по трусости, глупости, по отсутствию понятия чести и честности. Любовь, которую вы найдете на этих страницах, была грубо использована и предана, у нее не было шанса выжить. Но ее смерть дала жизнь этой книге, поскольку, пока любовь была жива, книга не могла быть закончена. Теперь же автор отдает ее читателям в качестве лекарственного яда, в качестве вакцины с ослабленным штаммом смертельной заразы.
Рассказы сборника писались в разные годы и претерпевали минимальные изменения, чтобы сохранить в себе то настроение и те чувства, которыми было наполнено сердце Красного гиганта в момент, когда буквы складывались в слова, а слова – в историю. Каждый из них начинался с надеждой на возможность счастливого финала, но, в конце концов, подчинял себе автора и становился тенью неизбежного будущего.
Больше половины «Сердца» отведено неотправленным письмам – словам, что просились наружу, но не были сказаны, отчаянным мольбам, надеждам. Не рассчитанные на ответ, эти письма лишены лжи и двуличия, из них сложился измождающий своей откровенностью эпистолярный роман. Правдивая история смертной любви, рассказанная самим сердцем. Красного гиганта.
Этому сердцу потребовалась вся его смелость, чтобы предстать безоружным и обнаженным и рассказать о пережитом без тропов и штампов, в разбитых драматургических арках и нарушенных законах повествования. С той же смелостью оно приветствует своего читателя.
Брак
Я не спрашивал, больно ли ей, я знал ответ, и я знал, что это ложь. Я знал, что два дня назад, когда за ужином она вдруг побледнела, она взяла скальпель и, лежа в ванной, вырезала из себя еще один осколок шрапнели, зажав в зубах ремень. Я все это знал, и меня раздражало ее упрямое «мне не больно» в то время, как дом провонял этой болью насквозь.
Спирт, формалин, табак и таблетки. А на вкус она – кофе.
Кушетка в полтора метра шириной – слишком узкая для того, чтобы спать порознь. И мы по умолчанию спали рядом. Сухие, чужие, холодные.
Всегда было холодно. От потолка, от стен, от окон, от пола, отовсюду тянуло холодом. Единственный источник тепла – человек, лежащий прямо перед тобой. Я не помню, как первый раз обнял ее. Обхватил поперек тела, нырнул рукой под задравшуюся рубашку в попытке согреть ладони и притянул вплотную к себе. Живое, а не машинное, тепло дышало, тепло было мягким, шероховатым, тепло было рядом. Тепло сонно перевернулось, ткнулось носом мне в шею и обняло такими же холодными руками.
По ночам я читал ее пальцами. Я наизусть знал карту ее шрамов, я представлял, что это острова, и я живу на одном из них – на том, который между ребер, прямо под левой грудью.
На моем острове было вечное лето, я жил в бунгале и поедал моллюсков, смотрел ночью, как падают звезды, и растворялся в теплом, как молоко, море. А под моими пальцами билось чужое упрямое сердце.
А утром она вставала. Готовила кофе и уходила. И день наполнялся запахом спирта и боли, я с раздражением втягивал дым, морщился, чувствуя вонь формалина, и даже думал, что не вернусь домой к ночи. Но вечером после смены ноги сами несли меня к дому, где пахло спиртом и формалином, где была нелюбимая женщина с болью, кушетка полтора метра и остров – осколок шрапнели меж ее ребер.
Бесконечная война каждый год пожирала все больше и больше новобранцев, и женщины, обезумев от алчности и иллюзии, что их не выселят из казенных квартир, если они прочнее врастут в них корнями, каждый год исправно рожали войне новых детей.
Их забирали у матерей в семилетнем возрасте и больше не возвращали. Армия длинною в жизнь – училище, где обучали убивать, спасать и работать. Каждый год из них полчищами выпускали форматированных бойцов, заводских стахановцев, военных врачей. Для них война длилась всю жизнь, и в войне был весь ее смысл. Родиться, чтобы умереть, забрав с собой как можно больше вражеских жизней.
Срок годности бойца – пять лет. По истечении этого срока за его спиной роют землю тысячи молодых и сильных. Дожить до дембеля считалось почти невозможным, потому, наверное, нас, «стариков», всюду было так мало. На заводе, куда меня распределили после возвращения, я считался пенсионером. Мальчишки, не попавшие на фронт по слабому здоровью, обреченные умирать в одиночестве, потому что ни одна здравомыслящая женщина не стала бы рожать от бракованного заводского юнца, открыв рот, слушали мои фронтовые истории, краснели, бледнели, гипнотизировали мои сухие жилистые руки, привыкшие к винтовке, а не к станку, и были готовы сожрать меня заживо, лишь бы получить хотя бы часть моей силы.
Он подошел ко мне в конце смены, загородил свет.
– Отойди, темно, – он отошел, но не ушел окончательно. Мялся возле. – Чего тебе? – Мальчишку только-только распределили к нам на завод. Худощавый, высокий. Мог бы и в войне пригодиться, но, видимо, помимо него было достаточно сильных и крепких.
– Сестра сказала без ответа не возвращаться, – на одном дыхании выпалил он. – Их дома семеро живет, мать говорит, что выгонит ее на улицу, если она не съедет. Квартиру дадут, если родит. Она хочет от вас. «Вот», – он протянул карточку. – Ей двадцать три, только с фронта. Она хорошая. Сильная.
– Трахал ее?
– Она мне не родная, – дрожащим голосом ответил мальчик. Кроме сестры ему бы все равно никто не дал. Да и эта согласилась скорее из жалости, чем от большого желания. – В училище пару раз.
– Красивая, – ответил я с усмешкой, разглядывая армейскую фотокарточку белокурой сестрички, на груди которой еле сходился халат. – Ты в общежитии живешь, малой?
– Да.
– Ну, пусть тогда туда приходит. У меня негде, – мальчик кивнул.
– Третий корпус, 117 комната. После ночной хорошо будет?
– Да. Мне еще домой надо. А ты дуй отсюда.
В комнате пахло свежей краской и чистотой. Постель была застелена свежим.
– Здравствуйте, – красивая, как с картинки, румяная, холеная, в каком только полку кормили так хорошо? Я кивнул. Она облизнула губы. – Мне к утренней в больницу на работу. Нам бы быстренько… – Она испуганно замолчала, смущенная пристальным неприязненным взглядом. Не привыкла она, чтобы кто-то так на нее смотрел. Я закурил и подошел к ней вплотную. Разодрать бы тебя в клочья, молочная телушка. Убрал ей прядку за ухо. Краснеет, как девственница. Видать, ей в полку от бойцов мало доставалось.
– Быстренько, говоришь? – Кивает. – Ну, давай быстренько. У меня на тебя времени больше не будет. – Снова кивает, голова болтается, как у куклы. Впиться бы в нее зубами. – Ну ладно. Давай-ка твое платье снимем. – Дрожащими пальцами послушно расстегивает пуговицы, снимает, аккуратно вешает на спинку стула. Чистюля. Смыкаю пальцы на белой шее, у нее в глазах столько страха. А говорил, что сильная. – Тебя в полку не часто трогали, гляжу.
– Медсанбат квартировали отдельно.
– Ну тогда сильно мучить не буду.
Соврал. Ее драли, она, как свинья, визжала, но не сопротивлялась. Мягкая, мучнистая, податливая. Садистское удовольствие – оставлять синяки и ссадины на молочно-белой коже. Пару раз, забываясь, я чуть не задушил ее, но вовремя отпускал. Кончил три раза. Больше не встал. На нее смотреть было жалко. Дряблое, рыхлое тело, тошнило от омерзения.
– Хватит с тебя. Залетишь – передай через брата.
И ушел. Ненавидя весь мир, бил землю ногами, курил. До рассвета было еще далеко. В квартире пахло спиртом и кофе. Женщина спала на спине, откинув одеяло. Выточенная из железа, даже кожа – сероватая, как сталь. Вся она – угрюмая, угловатая, плечи широкие и костлявые. Грудь спокойно вздымалась и опускалась.
Я подошел. Протянул руку, хотел коснуться. Она тут же проснулась, схватила, впилась в меня своими глазами цвета Баренцева моря. Никакого страха.
– А, это ты, – смягчилась. Даже разочаровалась. – Ложиться будешь? Я подвинусь.
Марсова Венера. Войны нам не выиграть, пока в таких, как она, разрываются шрапнели, а медсанбат из молочных поросят квартируют отдельно.
– Лягу, когда уйдешь.
– Как знаешь.
Накрылась, уснула.
– Надо было сдать тебя под трибунал.
– Надо было тебя убить.
Она нервно прошлась рукой по не так давно обритой голове. Мышиного цвета волосы длиной не больше половины сантиметра, сквозь них отчетливо виднелся шрам, пересекавший правую сторону черепа до самой скулы. Женщина поднялась со скамьи, засунула свои костлявые руки с паучьими пальцами поглубже в карманы армейских штанов и принялась мерить шагами пустой холл никому не нужного ЗАГСа.
– Ненавижу тебя, – процедила сквозь зубы, опять ощупав голову рукой.
– Думай о квартире. – Она зло зыркнула в мою сторону, но промолчала. Клянусь, в детстве ее должны были дразнить шпалой.
– Вы на развод? – Вопрос раздался внезапно, мы оба обернулись к его источнику. Я рассмеялся, осознав смысл сказанного, моя женщина поджала губы:
– Нет. Мы расписаться.
Сердце ломало изнутри ребра, не давая уснуть. Женщины не было. Я перевернулся в постели в очередной раз, она пылала. Я пылал вместе с ней. Отвратительно мокрая зима была хуже сорокаградусного мороза: легкие вырывало с корнем, в горло будто налили свинца.
Женщины не было, время бесконечно тянулось до ее прихода, и я никак не мог решить, жду я его или боюсь. Она придет и все увидит. Скользнет своими ледяными глазами и все мгновенно поймет. Усмехнется и закурит, сядет в кухне на табуретку и уронит голову между коленей.
– Ну что? – Я отвернулся от света. Зажав в зубах сигарету, подойдет своими мягкими тяжелыми шагами. – Дай лоб, – забота сквозь сжатые зубы.
– Не трогай.
– Чего «не трогай»? Лежи, я скоро вернусь.
Сердце ломало изнутри ребра, мешая уснуть. Из жара кидало в холод, голова тонула в бреду.
Благодатный холод чужой руки лег на лоб, и я вздрогнул.
– На, – она помогла мне подняться и сесть в постели. – Пей.
И я пил. Наваристый и сладкий. Я не мог видеть, но помнил его яркий бордово-розовый цвет, жидкость обжигала язык и больное горло, но я пил с жадностью, как пьют в пустыне, прижавшись губами к бурдюку.
Я снова очнулся. Сердце выколачивало изнутри ребра, мешая уснуть. Свет в кухне был приглушен, на улице стояла ночь, я мог разглядеть из окна падающие снежинки. Она сидела за столом, молча занималась своими делами. Худая, с острыми плечами, на которых, как на вешалке, висела моя армейская телогрейка. Я встал, она не вздрогнула.
– Дай мне сигарету, – хриплый, как у мертвеца, голос был не моим. Женщина долго на меня посмотрела. Уголок губ дернулся в насмешливой улыбке.
– Ну, на. – Я чиркнул спичкой и затянулся. Дыхание свистело, руки дрожали. Сердце изнутри выбивало мне ребра.
– Я напишу на завод.
– Не нужно.
– Ты почти труп. Иди ляг, – она забрала из моих рук сигарету. – И постарайся уснуть.
– Не могу, – сердце изнутри выбивало мне ребра. Она с усталостью вздохнула.
– Ладно. – Потушив сигарету, женщина пошла впереди меня в комнату, повыше взбила подушку и залезла в кровать. – Ложись на меня.
Я подчинялся. Откинув голову, уперся затылком в ее костлявые ключицы. И я услышал. Ее сердце билось медленно и ровно, баюкая, заглушая лихорадочный бой моего собственного. Я уснул. На губах был бетонный привкус ее сигарет и красно-ягодный – малины.
Я знаю, что ей было страшно.
В тот момент, когда она поняла, что это именно тот осколок, а не какой-то другой, я знаю, что ей стало страшно. А потом она разозлилась. На меня, на шрапнель, на войну, на себя, на весь мир. Она разозлилась на то, что не могла, как много раз до этого, вырезать кусок металла из своей груди, выкинуть его в мусорку, а зияющую дыру заклеить марлей и пленкой. Она разозлилась на свое сердце, которое посмело сдаться и впустить осколок в себя. И она его наказала, истыкав ножом.
Ничком возле ванной в разодранной рубашке, в луже собственной крови с торчащей из груди рукояткой брюшинного скальпеля. Лицо искажено обидой, будто бы ей Боги обещали жить вечно и предали, обманули. Паскуды.
Ma Mort
Главное вовремя сдернуть покрывало с постели. В последний момент, на ходу его сворачивая и раздраженно запихивая в рюкзак.
Надо же было поругаться в пять утра. Всего лишь поторопил, а она поджала губы и два часа в отместку выжимала из педалей крейсерскую скорость. Давай, мол, поспевай теперь, раз торопил.
Наш маленький Tour de France пролегал по самому непопулярному из живописных маршрутов: так сильно не хотелось делить лавандовые поля с посторонними.
Осень в Прованс не торопилась. Солнце беспощадно топило запал утренней обиды, все замедляя и замедляя. Остановилась. По шее к ключицам стекали капельки пота.
Главное вовремя сдернуть с постели покрывало. Я расстелил его под деревом, благодарный, что оно здесь появилось ровно к зениту.
Жара стрекотала оркестром невидимых насекомых, миражом расплывался по воздуху упоительный запах разнотравий, такой густой и свежий, что его хотелось выпить большими глотками. Дышалось пьяно, голова кружилась.
– Boire.
Ее языка не всегда хватало, чтобы разъясняться, но ее улыбка покупала на рынке самые спелые фрукты и самое лучшее домашнее вино.
Сидели молча, морило.
– Dormir? – Мой язык спотыкался о каждую букву, она усмехнулась. Солнце припеклось на ее скулах, рассыпалось веснушками по щекам и щекотало волосы сквозь крону нашего убежища.
Поерзав, умостила голову мне на колени и все равно отвернулась – не разобиделась еще за утро. Сон оседал на веках, тело вибрировало, благодарно впитывая силу. Сползал по стволу уже в полудреме.
– Ложись уже, – буркнула недовольно. Главное вовремя сдернуть с постели покрывало. Главное достаточно робко коснуться плеча и, не получив отказа, спуститься по руке до пальцев.
Впитаться – в медную от загара кожу. Напиться пульсом на шее, усмехнуться неровному вздоху. Без спроса на интервенцию, едва касаясь, преодолеть расстояние от колена и выше.
– Я все еще жду извинений. – Вот ведь маленькая лгунья. Сама растеклась уже, вся отворилась.
– Я извиняюсь, – и расстегиваю ремень ей на шортах, пальцами читаю ее бедра, спускаюсь и погружаюсь. Вся мокрая, благодатная, подается навстречу, как будто случайно.
Медовая, сладкая, дышит все чаще, аккомпанируя музыканту.
– Ну не здесь же… – ее здравый смысл не уступает.
Настойчиво наступаю. Побить меня на моем поле ей ни за что не удастся. Она и согласна. Запрокинув голову, глазами ищет пощады.
Я прерываюсь. Смыкаю пальцы на ее горле. Капитулирует, умоляет.
Ее языка не хватало, чтобы разъясняться, но мой язык ей был понятен с полустона. Капризная, колючая, а теперь жалась ко мне, как щенок.
La Petite Mort.
Изогнулась, сжимаясь, и задыхалась. Душистый запах хватала губами и им упивалась, впиваясь в меня
Руками. Уже поняла, кто чей и кто кому сколько должен.
Свой долг я заберу уже дома.
Главное вовремя сдернуть покрывало с постели.
Сердце красного гиганта
Пятница.
Если по адресу приходили письма – это почти всегда были счета и почти никогда – письма из дома. Но если приходили письма из дома, то это всегда были ее письма.
Почерк у нее был неаккуратным, но разбирать я уже научился – приходилось. Говорят, у людей с неопрятными почерками мозг работает быстрее руки, и если это было правдой, то точно было про нее: больная кисть не позволяла писать так же быстро, как думать.
Стоя на улице возле бара, курил. Читал. Во всех ее письмах, всегда, неизменно – метафорический бред и нескончаемые предложения, философская чушь и бытовые драмы, все-все. С давних пор все ее письма писались без надежды на ответ. Просто раз в полгода на меня выливался весь поток ее переживаний и мыслей, абсолютно все, что ее беспокоило, радовало, печалило, злило. В конце письма никогда не стояло вопроса о том, как я. Зная меня не первый год, она конечно же знала, что я не отвечу. Поэтому в конце ее писем стояли другие слова:
Всегда, несмотря ни на что
– Твоя.
Но это письмо от других отличалось. Слова и буквы толкались в нем яростнее обычного, ложась то на один бок, то на другой, что-то было зачеркнуто, что-то – подправлено. Письмо писалось в жуткой спешке, и в нем читалась такая губительная для нее тревога, с которой она, должно быть, так и не научилась справляться без моей помощи.
В конце, вместо обыкновенного обещания, стояло извинение: «прости, но я очень скучаю. Скучаю, скучаю, скучаю, скучаю…»
Сотня «скучаю» и ни одного «люблю».
Я докурил, вернулся в бар, за стойку. Нередкая необходимость оставлять записки приучила хранить бумагу под рукой, но, вытащив лист и взяв ручку, я не написал ни слова. Письмо будет идти долго, и если я был прав, то сейчас был тот самый редкий случай, когда ответ был нужен мгновенный.
Мои диалоги с тобой похожи на разговор с Богом: Он тоже отвечает мне только тогда, когда мне это действительно нужно.
Сейчас я был ей действительно нужен.
Я взял телефон. Все прежние контакты были оборваны, но несколько номеров в памяти по-прежнему хранились, и ее тоже. Я позвонил. От долгих гудков к горлу подступила тревога. Но она взяла трубку.
– Алло?
– Я тебя жду.
Мы не виделись уже очень давно, но узнавали друг друга даже по запаху и звуку шагов. Волосы у нее сильно отросли с нашей последней встречи, я никогда не видел их такими длинными. Собранные на затылке в тугой хвост, они ее безбожно старили. Или мы настолько давно не виделись? Нет, не может этого быть. Дождь и ветер обязательно приведут их в должный беспорядок.
А вот сама она была далека от порядка: вся сжатая, сбитая, концентрированная. Я это видел по ее походке, по взгляду, которым она меня искала, по губам, по линии подбородка и плечам. Я видел это и знал, что это плохо.
Заметив меня, она на секунду остановилась. Я улыбнулся. Ее губы дернулись, но не сказать, что в улыбке. Широкими шагами, как крейсер на полном ходу, она двинулась в мою сторону и чуть не сбила с ног, обняв.
Нет, это были не объятия. Она упала в меня: руки судорожно сжались, подушечки пальцев впились в мои плечи, как впивались бы в камень на краю обрыва. Она прерывисто вдохнула, словно боялась расплакаться, и только после того, как я обнял ее в ответ, – расслабилась. Мы не сказали друг другу ни слова, просто стояли так, прижавшись друг к другу. Долго.
Мне нравятся объятия.
Никому не позволялось обнимать меня так крепко, как ей.
Пока мы ехали в город, снова оба молчали. Она сидела рядом на пассажирском кресле, откинувшись на спинку, смотрела то в окно на горы, то на меня. Иной раз улыбка появлялась на ее лице, но я эту улыбку знал и знал, что она скрывает.
Она ко мне приехала наизнанку вывернутая, изможденная, загнанная в себя, как в ловушку. Приехала в последний момент – еще немного и сорвется, упадет. Но она бы ни за что не призналась в этом.
– Чего улыбаешься? – Спросил на светофоре.
– Просто рада тебя видеть.
– Я тебя тоже.
Квартирка, в которой он жил, и бар, которым управлял, находились в той части старого города, который был действительно старым. Сюда редко заходили туристы, зато завсегдатаев среди местных было много. Он бросил что-то парню, который следил за заведением в отсутствие хозяина, и взял мои вещи.
– Не нужно, я сама…
– Перестань. Дай мне хоть что-то для тебя сделать.
Хоть что-то.
Из всех его жилищ, в которых мне доводилось бывать, это было самым скромным. Бирюзовая лаковая краска на стенах кое-где откололась, обнажая бежевую штукатурку под ней; маленькая ванная и крохотная кухонька с газовой плитой и тарахтящей вытяжкой, которая совсем не располагала к тому, чтобы на ней умещалось более двух человек, и даже маленький балкон, выходящий окнами во двор, не справлялся с решением этой дилеммы. В единственной комнате стоял огромный лакированный мебельный гарнитур, низкая тахта, на которой можно было без труда уместиться хоть вчетвером, тумба с иконами, а в углу – ненужный и погасший – ютился старый телевизор. Из комнаты был выход на узкий незастекленный балкон, и, выйдя на него, я поняла, почему из всех возможных вариантов, он выбрал именно этот. С балкона виднелись горы, виднелось море, виднелся угловатый неровный город.
Когда я спустилась вниз попробовать местной выпивки, день уже крепко клонился к вечеру, так что народу в баре было полным-полно. Да еще – пятница. Тихо сидя за стойкой, я наблюдала: заново впитывала все характерные движения и повадки, манеры, привычки. За то время, что мы друг друга не видели, он изменился. Не настолько, чтобы стать неузнаваемым, но все равно – ощутимо. Он повзрослел. Но я знала, что это уловка, что где-то в нем внутри все равно есть та самая сущность, с которой я любила и ненавидела иметь дело.
– Устала? – Киваю. – Держи ключи, ложись.
Поднялась наверх и переоделась. Спать было негде, кроме как вместе, но кровать была такой широкой, что с одного ее края было не докричаться до другого. Я мгновенно уснула. Спокойно и крепко – так, как всегда спала в доме, который называла его.
Когда я поднялся в квартиру, она уже десятый сон видела. Ютилась на постели с краю, ближе к балкону. Я открыл ставень, впуская в комнату воздух.
В отличие от многих женщин, которых я наблюдал спящими в своих постелях, она во сне не выглядела умиротворенной и расслабленной. Во сне она хмурилась и надувала губы так, как делала только будучи на чем-то очень сосредоточенной. Должно быть, что-то снилось.
Я покурил и вернулся в комнату. Времени было уже за два часа ночи. Я переоделся и лег. Из уважения к своей гостье – на другом краю широкой постели. Память обожгло последним разом, когда мы засыпали, обнявшись, и никто из нас не знал тогда, что этот раз – последний. Но это было слишком давно, чтобы быть правдой.
Суббота.
Когда долго живешь один, звуки присутствия в квартире другого человека приводят в замешательство. Особенно спросонья. Продрав глаза и оглядевшись, я не нашел ее спящей рядом, но увидел вещи и вспомнил, что она здесь. Судя по запаху, варила кофе и тихо мурлыкала себе под нос. Об ее привычке разговаривать с собой я узнал при схожих обстоятельствах, но услышать это еще раз было довольно странно.
Она вернулась в комнату. Шаркала по полу в моих тапках, мелькала пятнами розовой краски на серых домашних штанах, с чистых волос капало. Снова худая – ребра торчат под ключицами, штаны не держатся на бедрах, еще немного – спадут. Но мощная: тугие мускулы обтягивали руки, запястья – узкие, в огромных ладонях – дымящаяся кружка, и в пальцах – серисто кашлявший аккорд Е.
– Кофе будешь?
– Давай.
– Тебе принести?
Я пришел. Что меня в ней всегда забавляло, так это та скорость, с которой она привыкала: она видела эту квартиру и эту кухню первый раз в жизни, но хозяйничала на ней так, будто бы она всегда была ее. С другой стороны, это было логично – ведь это была моя кухня. А все, что было устроено по моей логике, поддавалось ей легко, потому что сама она была лишь плодом моего воображения. Я улыбнулся, вспомнив ту весну, когда я ее впервые так назвал. Вспомнил, как она удивилась. Как развила эту глупую шутку в целую концепцию. И, если принимать эту концепцию, то это не она захотела приехать – это я захотел, чтобы она захотела. Я допил кофе – может, это и было правдой.
– Какие на сегодня планы? – Она пожала плечами и села напротив, поджав под себя ногу. Ела орехи и курагу.
– Ты работаешь? – Я кивнул.
– Закончу часов в пять, потом собирался выпить с друзьями. – Она с усмешкой выгнула брови.
– Обзавелся друзьями?
– Хочешь, присоединяйся. – Она забрала мою кружку и встала.
– Вы здесь будете?
– Да. – Я протиснулся на балкон, на ходу закуривая. Домыв кружки, она подошла и встала рядом, облокотившись о косяк двери. Жестом попросила затяжку, я дал.
– Пьешь свое же пиво?
– Вино. – Она скривила губы, и я поспешил добавить. – Для тебя возьму чачу, если хочешь.
– Хочу. – Она не пила вино, ей от него было плохо. Я отдал ей сигарету, она докурила ее в две затяжки, затушила о перила и выбросила.
– Что будешь делать? – Она без стеснения переодевалась, я без смущения развешивал на балконе в комнате выстиранное белье. День обещался быть теплым.
– Погуляю. – Она пыталась укладывать волосы, но кудри не слушались. Я ухмыльнулся.
– Купи домой что-нибудь. – Я отдал ей куртку, в пальто было бы жарко; она стояла в дверях, дожидаясь, пока я обуюсь.
– Что?
– Что ты ешь? – Верхний замок на два вправо, нижний – полтора налево. Она насмешливо посмотрела.
– Ничего.
– Тогда купи сигареты. – Я отдал ей ключи, и она кивнула.
– Ладно. – Мы спустились по лестнице и разошлись, как соседи.
Когда живешь столько лет в одном месте, не обзавестись друзьями невозможно, хотя я старался. С Бадри мы познакомились в первый день – он был моим сменщиком в баре, пока не уволился, у Пето единственного в городе можно было купить нормальную дурь, и через него уже я познакомился с Маро. Она была учительницей начальных классов, но это совершенно не мешало ей каждые выходные напиваться до потери памяти. Маро даже спустя столько времени не могла никак решить, кого из нас, меня или Бадри, ей больше хочется, а потому спала с Пето, благо, что он не был против.
Моя смена кончилась в пять, я отдал ключи от кассы Ревазу и успел занять любимый стол у выхода во двор до того, как это сделал кто-то из посетителей. Вечером в субботу их было много. Бадри явился через пару минут с тремя бутылками вина, все еще удивляясь, что я не попросил взять больше с учетом приезда своего друга. Маро и Пето приехали следом, и не надо было быть гением, чтобы догадаться, что они уже успели выкурить парочку косяков и потрахаться. Реваз по привычке принес нам четыре стакана, Бадри разливал вино, Маро смеялась, Пето скручивал косяк, но вдруг все они замерли, и мне даже оборачиваться было не нужно, чтобы понять, кто вошел.
Это была она. Ее большие красивые губы пылали на бледном лице ярко-красной помадой, грива черных волос, взбитая ветром, упруго вздымалась при каждом ее шаге. Я незаметно ухмыльнулся, зная, что это было не для меня – это было для них.
– Привет. – Она наклонилась, придержав волосы, я поцеловал ее в щеку и выдвинул стул. Она села, улыбнувшись, но дружелюбия в этой улыбке было столько же, сколько вина в моем опустевшем стакане. Бадри ожил первым:
– Реваз, – позвал он, – принеси нам еще один… – но я перебил его, вручив ей под столом флягу с чачей, она тут же отпила от нее, запрокинув голову. Пето расхохотался:
– Хорошие друзья у тебя. – Он подмигнул ей и поднял стакан: – Добро пожаловать.
– Спасибо. – Я взял из ее рук флягу и отпил, Маро откинулась на спинку стула, поджимая губы – не привыкла к соперницам.
Было смешно наблюдать за тем, как заваливал комплиментами гостью Бадри, как оживился Пето, как ревновала к их вниманию Маро; я только старался не улыбаться слишком уж явно, зная, что Пето не соблазнит ее даже самой лучшей травой, а Бадри мог вообще не стараться. Каменное сердце не дрогнуло даже тогда, когда Маро, отчаявшись вернуть к себе внимание друзей, переключилась на меня, флиртуя до того явно и нелепо, что мне было жалко ей не ответить.
Вино убывало, сигареты кончались, чача плескалась на дне фляги, Маро вела себя, как капризный ребенок, и я физически ощущал, как раздражается сидящая рядом со мной женщина. Я знал, почему: выпрашивать чужое внимание для нее было низко, и чем ниже ложилась на стол Маро, протягивая ко мне свои руки, тем высокомернее становилось лицо моей гостьи.
– Послушай, а ей не будет плохо? – Хмельно фамильярничала Маро, глядя, как чужеземка допила содержимое фляги. Вопрос был смешным: Маро развезло от вина, а она даже не покраснела. Я не сдержал усмешки.
– Маро, милая, плохо здесь только тебе. – Ответил я, прикуривая себе и ей сигарету. Она усмехнулась, растягивая в злой улыбке красные губы. Маро потемнела глазами:
– А чего эта сука так усмехается? – Сука подняла на нее непроницаемо холодные глаза, не прекращая при этом улыбаться. Все понимали, что Маро надралась, но если мы не хотели драки, кто-то должен был ее увести.
– Маро, пойдем прогуляемся. – Бадри любил роль кота Леопольда, но Маро была слишком взвинчена, чтобы играть в дружелюбие.
– А пойдемте все прогуляемся. – Предложила она, поднимаясь, ее чуть не завалило на Пето, но она удержалась, схватившись за стену.
– Отличная мысль. – Пето посмотрел на меня с недоверием, но быстро сообразил, что это только притворство. – Идите, я поднимусь быстро за чачей.
Маро оживилась и с охотой взяла Бадри под локоть, они с Пето вели ее к улице. Она было пошла за ними, но я взял ее за руку и потянул за собой во двор.
– Маро всегда такая стерва? – Мы поднимались по пожарной лестнице, не собираясь возвращаться обратно.
– Обычно нет, представление было в твою честь.
– Как приятно. – Мы влезли в окно на лестничную клетку, она протянула мне связку ключей. – Я купила тебе сигареты.
– А еды? – Нижний – полтора вправо, верхний – два налево. В квартире было душно.
– Взяла яблок. – Я усмехнулся. – И что-то похожее на лапшу.
– Да ты правда не ешь. – Не найдя в темноте комнаты свои штаны, она решила не утруждаться и делала кофе, стоя на кухне в одной длинной майке.
– Я столько пью, что покрываю калораж алкоголем. – Усмехнулась она, опираясь спиной о столешницу. – Тебе сделать? – Я покачал головой. Заливать вино кофе было не очень хорошей идеей. Я закурил, открыв дверь балкона. Она попросила себе, я протянул пачку. Молчали. Она чему-то улыбнулась. – Я никогда не ладила с твоими друзьями. – Спорить с этим было трудно.
– Тебя это беспокоит? – Она пожала плечами.
– Не очень. – Мы докурили и пошли в комнату. – Я никогда особо и не пыталась.
Лежать рядом было странно: я давно отвык от нее и боялся к ней прикоснуться. Я запрещал себе топить в ней свою темноту, и даже количество выпитого алкоголя не было в силах снять этот запрет. Я скучал по ней. Скучал по сочетанию простоты и невероятного пафоса, по всей ее роскоши и всей ее бедности, по глубине и скудности, по ней всей. Мы очень давно не виделись. Но, к сожалению, должны были скоро снова расстаться. Скоро, но не сейчас.
– Давай съездим завтра на море. – Я вздрогнул от ее голоса.
– Давай.
Воскресенье.
Вчера было тепло, но сегодня осень стала зябкой и серой, небо высилось мраморным куполом, солнце еле угадывалось в драпированном шелке стальных облаков. До моря мы могли дойти пешком по главной улице, но мысль о закрытых на зиму ларьках и пляжных станциях ввергала меня в жуткую тоску. Поэтому я повез ее в свое место. Далеко, за горным отрогом, врезавшемся в море осколками скал, туда, где зарастала лесом сгоревшая в 90-х деревня. От нее остался один только пляж и шаткий пирс, на котором я множество раз смотрел в лицо солнцу, своему единственному верному другу на этой земле. Единственному в ее отсутствие.
Ехали в тишине, сказывалось похмелье. Это то, что мне в ней нравилось: она любила молчание и не боялась в нем оставаться. Куталась в свой кардиган и смотрела в окно цепкими печальными глазами. Я знал, что она редко с кем могла себе это позволить, и то, что сейчас позволяла, говорило о многом.
– Выглядишь очень счастливой. – Она усмехнулась.
– Сейчас уже гораздо лучше, чем было.
– У тебя все хорошо?
Отвернулась. Она стыдилась себя, своей неспособности всегда светить и освещать, того, что выгорала и падала туда, откуда была не в состоянии подняться.
Я тоже стыдился. Того, что молился ей лишь тогда, когда было нескончаемо плохо, и забывал о ней, когда делалось хорошо. Того, что каждый раз боялся подавать ей руку, боялся, что она утащит меня за собой, а я всегда очень тяжело возвращался. Но если я что и понял про нее за то время, что мы были знакомы, так это то, что она всегда поднималась после того, как падала. Невесть откуда доставала силы, обращалась в сгусток злобы и тьмы, и на этой антиматерии возрождалась. Еще мощнее и ярче, еще сильнее, еще опаснее.
Когда она была сияющей звездой, на нее нельзя было налюбоваться. Исходящее из самого сердца сияние и сила пропитывали тебя и заражали, но, погаснув, она ни из кого не вытягивала света: она просто схлопывалась, исчезала, чтобы потом снова возникнуть. Самая честная на свете черная дыра.
– Я устала. – Вздохнула она, сползая ниже в кресле.
– Тебе тоже надо иногда отдыхать.
– Зачем, по-твоему, я к тебе приехала? – Я деланно пожал плечами.
– Я думал, соскучилась. – Опять усмехнулась.
– Вряд ли ты понимаешь, как сильно.
Теперь была моя очередь отвернуться к окну. Она всегда была безжалостно честной, когда дело касалось наших с ней непростых отношений. Когда дело касалось меня.
Ее называли высокомерной и грубой, даже жестокой, напыщенной и самоуверенной, непомерно гордой, злопамятной, просто злой. Все это в ней было, конечно, это было то, что она давала всем знать. И приходилось делать вид, что я согласен, что знаю, что тоже бешусь. Бескостные языки на нее доносили, учтиво мне сообщали, как меня ненавидят, и я безучастно кивал, будто бы мне все равно. Но мне не было.
Я помнил ее глаза, когда она взаправду меня ненавидела, и хуже этого не было ничего. Пустые и стеклянные, они смотрели мимо, дышали безразличием, как ледник. И после того – глоток горного воздуха, порыв ветра с реки, запах дождя весной – заполняла пространство, ломилась в легкие, словно дым, изнутри разрывала, хотелось спрятаться или уйти. Не потому, что она отравляла, а потому, что была слишком ценной, чтобы ее купить, а принять в дар было стыдно и недостойно. Зачем такие подарки дарить?
Я видел ее, когда она плакала, когда умоляла не уходить. Когда не зло и не гордо твердила «скучаю», любила сама и не просила любить. Единственное, что она всегда у меня просила – это не пропадать.
Обвивала руками, прижималась ко мне вся, утыкалась в мое плечо и просила: «только не пропадай». И я обещал ей, а потом пропадал, и мы расставались до следующего ее «я скучаю» и моего – «приезжай». Когда-то давно ее пределом было три дня. Потом неделя. Потом две, потом месяц.
Не видеть тебя больше месяца – это пытка.
Я старался не думать, как плохо ей было последние годы. Думать об этом сейчас было тем более бесполезно – она сидела рядом со мной в моей машине, и ей было лучше, чем раньше. Это было единственным, что усмиряло мою почти всегда спящую совесть.
– Что там дома?
– Пожалуйста, давай оставим то, что дома, дома. Я только оттуда сбежала.
– Еще не надумала переехать?
– Да куда я перееду? – Я пожал плечами.
Я чуть не сказал ей «ко мне», но эти слова рвались наружу против моей воли. Переедь она сюда, жизнь перестала бы течь в своем русле. Ее присутствие меняло все, и ты рисковал потерять то, что называл исконно своим. Я, правда, думал иногда, что это не так уж и плохо. Но думать и принимать – это разные вещи.
С ней нельзя было, как с другими. Она была тяжелой. Не занудой, не заучкой, не недотрогой, нет. Она любила и умела дурачиться, веселиться, бесноваться, но не терпела бессмысленности и находилась в вечном поиске ответов на все свои многомиллионные вопросы. Каждое слово и каждое действие она наполняла смыслом, и только тогда ощущала себя живой. Теряя смысл, она умирала, она чахла. И, умирая, искала меня.
Это был парадокс, который я не мог понять много лет. Я говорил о том, что жизнь бессмысленна, а потому прекрасна, но когда она теряла смысл, то шла за ним ко мне. И вслед за ней в этих долгих пространных беседах о жизни, о смерти, вселенной, о Боге, о людях, о прошлом, о будущем, о боли, о мечтах и немного о любви я тоже его видел – эту вспышку, луч истины, холодный электрический свет – смысл.
С ней было тяжело, и ее присутствие все меняло. Она рассуждала, порой, о вещах, о которых я боялся даже думать, в ней было все то, что в себе я так старался запереть в самом дальнем чулане, но она несла это гордо, как знамя, а я трусливо прятал глаза и молился, чтобы она перестала. Она была так сильно на меня похожа, что это сводило с ума, заставляя поверить, что я и впрямь ее выдумал.
Но если так, то я был самым жестоким создателем.
– Ты же хотела куда-то к морю. В горы. – Она на меня повернулась, а после потупилась, уставившись глазами в руки. Вертела на пальце кольцо с самой ужасной на свете надписью. Оно когда-то принадлежало мне.
– Не издевайся надо мной.
– Прости.
Нет, о ее переезде сюда мне не стоило не то, что говорить, но и думать. Там у нее была жизнь, каждый клочок которой она выгрызала у судьбы клыками, и даже для меня просить пожертвовать этим было кощунством. Как бы я ни хотел видеть ее рядом.
– Как твоя мама?
Вопрос был задан так тихо, что я мог сделать вид, что не услышал. Особенно за резко ударившим в уши пульсом. С моей стороны было глупо надеяться, что, если я окажусь с матерью в одном месте, стоящая между нами стена просто рухнет. Но разбирать ее камень по камню сил не было ни у меня, ни у нее.
– Она не захотела меня видеть.
Я видел, как она молча кивнула. Женщина, что самоотверженно вычищала мои гноящиеся раны, хотя знала, что не сможет их залечить ни своими словами, ни заботой, ни близостью. Не сможет заменить ее.
Через час мы приехали. Она вышла, не дождавшись, пока я поставлю машину. Когда я вылез, она стояла в метре от кромки воды, точно стеснялась подойти ближе. И смотрела – она смотрела на море. Я мог бы сказать, что желал, чтобы женщина смотрела на меня так же, как сейчас она смотрела на холодные волны, да не хочу лгать: она на меня так смотрела. Болезненным тяжелым взглядом, в котором лихорадочно тлело все: любовь, тоска, надежда, боль, страдание и мука, снова боль и все, и все горело. Я не мог от нее отвернуться.
С моря резко дохнул ветер, и она поперхнулась соленым воздухом. Тлеющие угли погасли, кардиган упал на песок, ботинки были сняты, она шла вперед.
– Стой!
Но она уже не слышала. Перешагивая пену, вошла в воду. Дно в этом месте резко уходило вниз, и она вскрикнула, провалившись в холодную воду по бедра.
Ветер разбивал вдребезги волны, тусклое серое солнце отражалось в брызгах над ее головой. Ее волосы сбились, разметались кудрями по лицу. Вода и ветер сделали свое. Я улыбнулся. Я не мог не. Пока она не пропала.
Я оступилась, и вода сомкнулась над моей головой. Секунда на испуг, на попытку сердца выскочить, а тела – сопротивляться, но после – объятия моря. Темнота и тишина, ребра сдавлены заботливыми руками огромной массы воды. Небо уходит наверх, все не имеет значения. Я падала.
Погрузившись в море с головой, уже не боишься. Страшно только, когда заходишь: штормовые волны бьют и роняют, вода хлещет в лицо и щиплет глаза. Но в толще воды страх уходит – даже если ты тонешь, ты уже не боишься.
Из груди вышибло дух, из головы мысли, кровь не билась в ушах, ее вообще во мне не было. Время остановилось, я не понимала, сколько секунд прошло. Или минут? Или часов? Тусклый круг солнца по ту сторону серой волны стремительно удалялся, я тянулась к нему руками, но достать не могла. Боль отступала, уступая место святой пустоте. Блаженному ничему.
Глухой звук, круг солнца исчез. Стальная хватка цепких рук, сопротивление материи, абсолютная темнота. Боль. Белый свет обжигает сетчатку, вздох разрывает легкие тысячей игл, ледяной холод и страх. Так возвращаются из мертвых, так ощущается жизнь.
Ее било крупной дрожью, и она продолжала судорожно хватать воздух ртом. Не разбирая, где верх, а где низ, боясь, что она опять ускользнет и исчезнет, я цеплялся глазами за берег и просто тянулся к нему. Вода, три минуты назад казавшаяся игривой и ласковой, хлестала и била, толкала, топила, лишала оставшихся сил, но я не мог, я не мог ей позволить уйти.
Мы кое-как выползли на берег, сбив пальцы о гальку, колени стерев о песок. Двое испуганных и дрожащих лежали на берегу, пытаясь отдышаться, и не могли найти ни единого слова, чтобы сказать.
С волос капало на песок, все тело содрогалось. Я распластался на животе и повернул на нее голову: она лежала на спине, глядя в небо, и, казалось, почти не дышала, хотя я не мог восстановить дыхание до сих пор и с остервенением марафонца качал легкими воздух. От воды ее волосы казались абсолютно черными, беспорядочный узор локонов обрамлял бледное лицо, губы – синюшно-фиолетовые от холода – придавали ей вид поистине мертвецкий, что, тем не менее, красоты ее не портило, даже, кажется, напротив – очень ей шло.
– Зачем ты туда полезла?
Она не обратила на вопрос ровно никакого внимания. Качаясь, перевернулась на четвереньки, закашлялась. Села на колени и посмотрела на море. То, как она смотрела на воду сейчас, было совсем не похоже на то, как смотрела до этого. Без этого темного обожания, без горечи разлуки, без прежней любви. Смотрела: затравленно, с ужасом, сломано, преданная ему и им.
Потемневшая от воды, ткань ее одежды походила на камень, а сама она – на скульптуру. Я испугался, что она сейчас снова пойдет к воде. Я позвал ее.
Обернулась. Я видел, что она была напугана, но не тем, что чуть не утонула, а тем, что только что ей открылось, пока она смотрела на воду. Я чувствовал это, и мне было страшно, как ей. Она вся дрожала.
– Пожалуйста, поедем домой.
В город мы вернулись в густых сумерках. Серо-сливовые облака тяжело нависли над волнующимся морем и обещали вскоре разразиться грозой. Ехали молча. Она дрожала, кутаясь во все тот же кардиган, меня время от времени пробирал озноб, но в целом я держался. Изредка косился на нее, когда казалось, что она совсем уж слилась с креслом, ушла в себя и грозилась не вернуться.
Пока ехали, копался в памяти, вспоминая, есть ли дома хоть что-то, чем можно затравить в зачатке простуду – здоровье, что у нее, что у меня, оставляло желать лучшего, так что не было никаких сомнений, что завтра, если не предпринять никаких действий, мы оба проснемся больными. Безуспешные изыскания привели к выводу, что из медикаментов в квартире есть только водка и горячая вода.
Когда поднимались в квартиру, ветер уже во всю хлопал ставнями и потрошил деревья, срывая с них листья. По ее ушедшему глубоко внутрь взгляду, было понятно, что, если о ней сейчас не позабочусь я, она сама не станет этим заниматься, и это была еще одна вещь, в которой мы были до невозможного похожи.
Включил газ, поставил греться чайник, завернул ее в плед и велел выпить чаю, а сам ушел отмывать ванну – нам обоим нужно было согреться, и горячая вода для этого была лучшим средством.
Я открыл вентили, вода хлынула, пар медленно поднимался над ванной, заполняя комнату.
– Ну что, чай выпила? – Ее не оказалось в кухне. Я понимал, что из квартиры она уйти не могла, но сердце все равно сжалось от страха. На улице бушевал ветер, начиналась гроза, далеко над морем уже вовсю полыхали молнии, гром глухо расходился по облакам. Вспышка – лампочка на кухне замигала. Я зашел в комнату.
Ветер лениво хлопал шторой, выдувая ее сквозь узкую щель открытой двери балкона. Она стояла там, обнимая себя руками.
– Эй. – Она вздрогнула и повернула на меня голову. Стояла босая. – Пойдем, отогреешься. – Опять отвернулась, не слушала, на ее щеках тускло поблескивали слезы. Она стыдливо всхлипнула, стараясь не плакать, и зябко дрожала. Я обнял ее, она ткнулась в мое плечо и беззвучно разрыдалась. У нее подкосились ноги, и я еле успел подхватить ее – она была вся ледяная, я не без труда донес ее до ванной, раздел и усадил в воду.
