Боарикс
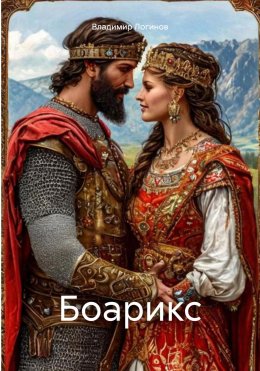
Глава 1. ВЫБОРЫ ВОЖДЯ
Вселенная в строгой устроенности своих холодных звёздных миров, чёрных дыр и гигантской, ни с чем не сравнимой, глубиной своей бездны, беззвучно поворачивалась над головами вечно спешащих куда-то людей. Люди же боялись, что не успеют сделать самое необходимое, а потом будут сами же себя корить. Зиму, на рыбе, да зайцах, кое-как пережили, а как мать Весна борьбу нешуточную с бабой злой, Зимой неуютной, затеяла – пригнала капель-месяц в городища вятичей, люди и зашевелились, забегали как муравьи, пригретые жарким Ярилом, золотым щитом Даждьбога, сына великого Сварога.
Мать Весна, прогнав злую старуху Зиму, растопила снега глубокие, призвав на помощь брата своего, Даждьбога с его золотым щитом. Мать Земля шалью зелёной, травой-муравой, покрылась, почка на берёзе проснулась, набухла, и деревья берёзовые подёрнулись сиреневым почечным инеем. Одуванчик вездесущий из прогретой земли вылез, головку свою жёлтую вслед за Ярилом поворачивает. Каждая былинка теплу, свету Божьему радуется, к небу синему тянется. А по небушку с юга, из стран полуденных, облачка белые бегут, будто овечки кудрявые, кудлатые, тоже куда-то торопятся. Синицы-зинзиверы затренькали весело, Весну-красну хвалят. Воробьи хлопотливые, драчливые, вече своё шумливое в ветках рябин сбирают, места для гнездований своих делят. Прилетевшие скворцы мать Весну звонко славят, коровок с овечками на широкий луг зовут. Коровы с овцами на луга чуть ли не бегом несутся, про степенность свою забыли, она у них потом появится, от сытости. На дворах петухи громко горланят, надрываются. Жаворонки высоко в небе задорно-звонко поют, на работы полевые ратаев кличут.
Только те не шибко-то весело в поле выходят, не то, что в прошлые вёсны. А всё потому, что кони-помощники заморены, овсы, что для них были с осени припасены по случаю работы тяжкой, весенней, сами хозяева, не от хорошей жизни, зимы долгой, поели. Отощавшие лошадки, сенной трухой кормленные, с большой натугой соху тянут, часто передохнуть останавливаются, но пахать, сеять жито надо, не то все зимой неприветливой с голодухи ноги протянут: и люди, и скотина, и птица. Да и распахать землицы надо побольше, чем в прошлом году, засеять, чтоб не знать нужды, да чтоб на продажу ещё осталось. А для этого надо отцу небесному Сварогу жертву содеять, по горсти зерна посевного другому сыну его, Огню, в костёр кинуть – вот и горели на каждой поляне, где ратаи хлеб сеяли, костры жертвенные.
Скиф Евл для посевных работ каждому ратаю из общинного амбара по бадье овса выдал. А ещё выдал, для посева же, пшеницы отборной, гречки, проса, гороху, да семян льна для отдельного клина. Жито для посева – табу. Никто посягнуть на него, не смел зимой. Каждому осенью был выдан его пай, а коли, не хватило, так иди, лови рыбу в омутах, зайцев в лесу, кабана промышляй или поднимай медведя из берлоги, а нет, так осину гложи, но про посевное зерно забудь. Община наделила Евла правом убить любого, кто позарится на общинное добро; секира за поясом скифа посверкивала жёстко, устрашающе.
В огородах бабы свеклу, репу сеют. А ещё сеют диковинную в здешних местах капусту и морковь, огурцы на навозных грядках. Семена эти привёз с юга грек Феофан. В городище грек этот давно прижился; Бога своего славит, о похождениях и житии его много чего сказывает диковинного.
Девки-невесты матерям помогают, землю грабельками пушат, приговаривают ласково: «Уж ты матушка-земелька милая, на нас обиды не держи, мы тебя холить, поить будем, а ежли Перун грозный сверху кормильца не даст, тако мы водички принесём ключевой, да тебя напоим!» Бог Перун вверху всё слышит, одобрительно с небес поварчивает, погромыхивает, облачка пузатые нагоняет, кормильца-дождичка сулит.
Пахари-ратаи на полях худо-бедно свою работу справили, а тут и жёлтые барашки на вербах повылезли, черёмуха в белый наряд оделась, берёзы зеленой кисеёй-дымкой покрылись. На земли вятичей пришёл долгожданный цветень-месяц и принёс в души ратаев умиротворение, а девушкам радость и трепет ожидания чего-то неведомого, но обязательного хорошего в жизни девичьей, потому что наступила пора вечорок и ухаживаний…
*****
Город вятичей все в округе называли Туманово городище или просто Туманово. Расположилось оно на высоком холме возле озера, окружённом мрачными еловыми лесами, и только прожилки дубов, берёз и осин с рябинником вносили разнообразие, ласкали глаз листом весёлым. С холма проглядывалось и второе озеро, а за ним на восток шла цепь озёр поменьше, переходящая в болото. Там вятичи черпали донные отложения, сушили их, прокаливали, а после спекали в глинобитных печах и выплавляли чугунные чушки, из которых потом кузнецы ковали железо на подковы лошадям, делали оси для телег, да и оружие ведь надобно, для обороны от ворога.
С озёр часто наползали туманы, потому и городище так прозвали. Проживало в нём около пяти тысяч человек, что по тем временам было очень много. Прозорливые деды обнесли место это с большим запасом, мудро рассчитывая на прирост населения. Мощная огорожа эта состояла из пятисаженных лиственниц, которые, будучи обожжёнными и промазанными с комля дёгтем, стояли в заборе, плотно вкопанные на сажень (2 м.), вот уже более полусотни лет.
Дома в городище рублены из листвянки, потому что крепче и долговечнее сосны. Сверху домы вятичей, да ещё из листвянки, покрыты дёрном, а потому дом такой поджечь невозможно. Маленькие окошечки по верху стен затягивались на зиму бычьими пузырями. Двускатная крыша из жердей в центре имела отверстие для выхода дыма от очага из глинобитного камня. Домочадцы спали на земляном полу, застланном медвежьими и волчьими шкурами. Мылись люди в трёх больших общих банях, обязательно в первую четверть луны. Так уж заведено было издревле.
Когда-то в этих местах жили скифы-фиссагеты, земледельцы те ещё. И это они выжгли и расчистили к югу от городища часть лесов под поля для жита. Вятичи, занявшие этот озёрный край, расширили поля, вырубив леса на свои избы, но на севере, за озёрами и рекой Окой лес стоял нетронутый, полный пушного зверя. Лосей, медведей, кабанов и зубров водилось в них во множестве, а попадались ещё и туры, которых даже опытные охотники побаивались за очень уж крутой, злобный нрав.
С давних времён в Туманове выбирали вождей из уважаемых людей племени, которые проявили себя властным характером и умением разбирать хозяйственные споры. На выборы съезжались делегаты из других городищ по пять человек от каждого. На выборы вождя верховный волхв племени отводил не больше трёх дней и обязательно в полнолуние. Здесь, в Туманове, вождь и должен был жить со своим семейством, для чего был построен большой дом с клунями, погребами, конюшней и огородом, да ещё отдельной баней, чтоб вождь чаще мылся, видом грязным своим людей не смущал. Вождю выделялся пай жита из общественного амбара и часть денег от продажи пушнины для закупа оружия, коней и содержания дружины в походах.
Верховного волхва тоже выбирали, но только одни волхвы из других городищ и родов, в Перунов день, на бугре бога Сварога, что в пяти поприщах от Туманова. Волхвов люди боялись, и вовсе не потому, что те проводили нужные, но иногда очень уж загадочные обряды, а потому, что наделены они, были такими правами, опять же издревле, которые не снились даже выбранному народом вождю. Предводитель племени мог лично казнить труса или предателя. Волхв же, всегда одетый в медвежью шкуру, мехом наружу, что сближало его с богом Велесом, ходил по городищу и высматривал, кто, как живёт, соблюдает ли каноны дедовы, как хозяйство правит. Увидев ребёнка, болезнью замученного, внушал матери, говорил и другим родителям, ужасом объятым, что им счастье выпадет, если их дитя помрёт, значит, подвиг свершит во имя верховного бога Сварога, отца небесного.
Волхв следил, чтобы все поля были засеяны. Не дай, не приведи, если у кого-то поле не вспахано и не засеяно. Волхву было наплевать, что хозяин заболел – он был обречён на жертву во имя Сварога. Одно могло спасти такого хозяина, если жена, домочадцы или сосед засеют поле, или, если хозяин даст быка-трёхлетка в жертву верховному богу. Таким образом, из общества выбраковывались лентяи и захребетники. В этом люди видели какой-то вселенский смысл. Это волхвы, ещё там, в глубине веков, сказали: «Худую траву из поля вон!» Это они о людях так выражались, о своих соплеменниках. Они, волхвы, знали многое о природе, жили ей, в лекарском деле им не было равных. Они знали языки народов-соседей, могли предсказывать погоду, и уж, конечно, были хорошими психологами. Они следили за здоровым духом общины. Это потом, много позже, христиане назовут их мракобесами, закоренелыми язычниками.
А между тем наступило полнолуние. С утра в Туманово городище начали прибывать делегаты из ближних поселений. К вечеру приехали и из дальних. Велика земля вятичей. От реки Жиздры, на заходе Ярила, за которой жили радимичи, до реки Цны на восходе, где обитал народ угров, а дальше буртасов. От реки Клязьмы и стран полуночных, где тоже обитали угры и славянское племя кривичей, до верховьев Дона, где были страны полуденные и Дикое поле. А жили там аланы, булгары, сарагуры и савиры, а ещё греки, да много разных народов. С ними вятичи были в дружбе и торговых отношениях.
На берегу озера, на высоком холме, где стояла деревянная статуя верховного бога Сварога с позолоченной бородой и усами, с золотыми волосами на голове, с глазами из рубинов, сверкавших грозно и таинственно, помощники верховного волхва поставили красивое резное кресло. Между двух костров, разведённых на подходе к этому креслу и статуе, должен был пройти будущий вождь. Такой обряд означал, что кандидат в управители племени очистился от всего дурного. За статуей Сварога горело ещё четыре костра. Шесть костров, шесть огней, означали связь с огнём небесным.
Делегатов от городищ набралось более пяти сотен. До избрания вождя кормить их, было не положено – ум оскудеет. В кресло уселся тумановский полудурок Юхна в лохмотьях и босой. Вообще-то он только прикидывался дурачком, а хозяин был справный, только вот по количеству малому едоков в его семье поле у него было маленьким, и считался он бедным.
После бурного обсуждения кандидатуры вождя, делегаты сошлись во мнении, что управителем в землях вятичей будет победитель буртасов в прошлом году Светозар. Имя его прокричали, и в расступившейся толпе показался человек в лохмотьях и тоже босой. Был он среднего роста, но широкоплечий, плотный и не совсем ещё старый – волосы на голове и лице его не были белыми. И всё-таки люди называли его «стрый», что означало матёрый, многоопытный.
Пройдя меж костров, и, встав возле кресла на колени лицом к собранию, Светозар низко поклонился людям и громко произнёс слова священной клятвы. Он клялся перед всеми хранить веру предков, защищать сирот и соблюдать справедливость, а если нарушит данное слово, то пусть его гонят взашей, куда подале, и пусть гнев Сварога обрушится на его главу.
Хлебопашец Юхна место в кресле освободил, а верховный волхв накинул на новоиспечённого вождя красный шёлковый паллий, обшитый по краям золототканой полосой в ладонь шириной. После чего вручил серебряный жезл верховной власти и надел на голову Светозара обруч из чёрной бронзы с тремя перекрещивающимися золотыми стрелами, символом воинственного бога Перуна. С этого часа Светозар стал военным вождём, князем в племени вятичей. Когда Светозар уселся в кресло, делегаты поклонились ему до земли и хором произнесли слова присяги, призывая в свидетели Отца небесного. Отныне князь мог казнить любого нарушившего сакральное слово присяги.
После этого верховный волхв по традиции, заведённой ещё прадедами, выступил с напутственным словом:
– Ведай, Светозар! Народ вятичей поклялся тебе в верности и не отступит от тебя, пока ты сам не нарушишь клятвы, иже дал пред лицом Сварога и люди своея! – волхв указал рукой в сторону статуи, которую в это мгновение осветила вылезшая из-за ленивой тучки полная луна. – Вседержитель вселенной и сын его великий Перун зрят с небес и внемлют каждому слову, што изрёк ты сё дни нам! Там! – волхв протянул руку в сторону севера, – за рекой Окой живёт дружественный нам угорский народ меря, а дале славяне кривичи! И мы ведаем, што с той стороны никто не посмеет ударить нам в спину! Но там! – рука волхва резко дёрнулась на восток, – где могущественная рука Даждьбога поднимает свой золотой щит Ярило, иже освещает и обогревает наши земли, обитают наши враги! А там! – волхв яростно развернул руку на запад, – куда Даждьбог со своим щитом, после дневных трудов здесь, отходит на другую сторону, земли радимичей! И хоша мы говорим на одном языке, и поём те же песни, и поклоняемси одним богам, замиренья по сию пору нет! А пошто? А по то, што хоша оне нам и союзны, да обиду на нас держут, за то, што, якобы, мы семь десятков годов назад больше добычи себе взяли посля разгрома гуннов сарагурами!
Волхв помолчал, собираясь с мыслями. Люди молчали, ждали продолжения речи верховного. И он продолжил:
– Не захотели радимичи внять, што сарагуры забрали себе часть римскова добра! А то, што наш вождь славный Карабор с дружиною ходил вместе с гуннами в поход на Великий Рим, вслед за остготами, оне такожде запамятовали! А ведь то добро, што он захватил тамо, есмь ево добыча! Егда мы вместях с сарагурами гуннов победиша взяли себе треть римских пожитков, по разделу праведному, радимичам тогда достался почти весь скот! Мы же взяли токмо коней и часть ромейскова оружья с телегами! Рази не тако? Рази, не сказывали вам о том ваши деды? По сию пору ромейски телеги нам служат, токмо колёса заменили! То, што радимичи дармовой скот поели, рази ж мы повинны? У них ныне воеводой Бранибор, а он росс, к грабежам приобыкший – вот и толкает радимичей на вражду с нами! Замиренье, Светозар, надоть содеять! Да без долгих раздумий! Мы из ромейских коней полсотни табунов, добрых лошадок, вырастили с тех далёких времён, а потому прямо спрошаю вас: десять табунов отдадим радимичам – не оскудеем?
Собравшиеся дружно возопили:
– Не оскуде-е-ем!!!
Волхв перевёл поднятую руку в сторону северо-запада и возвысил голос:
– Токмо кривичи есмь нам, вятичам, щит! Это они боронят нас от грабительских набегов росов! Помни об энтом, Светозар!
Заканчивая свою речь и сбавив голос, волхв сказал многим уже известное:
– Сожалею, вождь, што боевитой сын твой, Родий, по сию пору не завёл своей семьи, а ему ведь уже двадцатый годок пошёл! Пожилой уж парень! Ну да судьбу ему уготовил ещё при рождении Перун! Там, – рука волхва дёрнулась на юг, – в странах полуденных, найдёт он свою удачу! Но надо спешить! На Дону стоят два десятка лодий, пора загружать их товаром, да отправляться в Таматарху, Боспор и Себастоболис! Аланы, булгары и греки ждут нашу рухлядь пушную, дёготь, воск, да мало ли чево! А нам по осени надо привезти соль с Меотийского озера! Без соли нам не сохранить мясо и рыбу на зиму! Караван торговый пусть, яко обычно, ведёт Грива! Он говорит по-тюркски и толмачит по-грецски! А Родий должон караван сопровождать и быть каравану тому надёжным щитом! Он такожде толмачит по-грецки и по-тюркски. Не зря же ево обучал наш грек Феофан грецкому языку, а буртас Ахтыр, што в наших краях прижился, тюркскому! Я всё сказал люди….
Глава 2. ПОГОНЯ
В то время, как в Туманове шли выборы нового вождя взамен погибшего в бою с буртасами ещё осенью князя Бонивура, далеко на северо-западе, за рекой Нарой, по лесу пробирались двое.
Леса в тех краях, в основном, хвойные, непролазные, мрачные, с преобладанием лиственницы, зверьём всяким наполненные. Одному там бродить нельзя – сгинешь, и никто даже искать не будет. Лиственницы в тех лесах ростом в двадцать, а то и в тридцать сажен (65 м.), а люди внизу, что муравьи. Великаны эти, верхушками своими царапают плывущие над ними серые облака, из которых нет-нет, да и начинает сеять мелкий весенний дождик, больше похожий на осенний. Однако деревья уже покрылись светло-зелёной хвоёй и где-то вверху, от гуляющего ветра, глухо шумят кронами. Внизу же, из-за тесноты стволов в два-три обхвата царят сумерки и тишина. Продвигаться по такому лесу мучительно тяжело: сильно мешают вспученные основания корней, отходящих от комля лесных гигантов. Обросшие мхом, засыпанные прошлогодними иголками, скрытые огромными папоротниками, корни эти, задерживали путников. Нога утопала в мягкой подстилке, а через очередной корень, с кабана толщиной, не перешагнёшь. Приходилось то прыгать, то перелезать через такие препятствия, что задерживало движение.
Но вот путники выбрались к лесной речке и по пояс в чёрной холодной воде перешли на другой берег. Это была речка Нара. Упав на короткую ещё молодую траву и раскинув в стороны гудящие ноги, путники решили немного передохнуть. Это были два вятича, уходившие от преследования. Один выглядел постарше из-за короткой русой бородки и небольших усов. У второго же усы и бородка только ещё начинали пробиваться, зато ростом он был в косую сажень (2,14 м.), ширина плеч достигала почти полсажени. Однако, при такой громадности и приличном весе голос у него на удивление был ещё ломающийся, юношеский. Одеты оба в кожаные безрукавки, а широкие кожаные штаны заправлены в мягкие постолы, завязанные сыромятными ремешками на щиколотках. С широких поясов свешивались ножи с ножнами в локоть длиной, да ещё у большого парня был зажат в руке дротик. Саженной длины дротик у этого бугая смотрелся камышовой соломиной в кулаке, больше похожем на колоду для разделки бараньих туш.
Река, немного раздвинув теснину леса, дала больше света от серого неба, но погода всё равно не баловала. Мрачные облака, рваными клочьями задевая верхушки лиственных гигантов, ползли с запада. Временами из них сыпал мелкий, занудный дождик, охлаждая разгорячённые лица лежащих навзничь парней.
Но хоть погода в этот день больше напоминала осеннюю, а всё ж не осень. Ветер, гнавший по небу лохматые тучи, был довольно тёплым, а вокруг парней многолепестковыми мелкими звёздочками белели куртинки ветрениц. Над ленивыми струями реки Нары склонились жёлтые барашки цветущей ольхи. На одну из веток по-хозяйски уселась серенькая мухоловка и своим треньканьем заявила о своих правах на это место.
– Яко мыслишь, Родька, – заговорил, вдруг, большой парень, – второй день ведь бегём от росов! Чево им надо-то от нас? Смекай, аще б они хотели, тако давно бы уж догнали! Однако идут за нами неторопко!
Тот, которого назвали Родькой, повернул голову в сторону большого, насмешливо произнёс:
– А ты што, Бука, не докумекал? Им не мы надобны! Им путя к нам, вятичам, вызнать важно! По то и идут неторопко!
– Чево ж деять-то, Родя? Може бой принять? Их всево с десяток! Осилим!
– С нашим оружьем, Бука, – Родий привстал, оперевшись на локоть, – с ножами, ратоборство наше будет худое! У них же мечи, секиры, бронь добрая! Нам с тобой по секире бы – вот тады друго дело, мы бы с имя поздоровкались!
– Ну, тако чево деять-то будем?
– А мы их обманем, Бука! Не на полудень сей час пойдём, а на восход Ярила!
– Тамо же владенья мерян!
– То и добро! Вот к им и пойдём! Их вождь, Росомаха, зело меня ведает, поможет от псов энтих избавиться! Инако выследят оне, иде живут вятичи, приведут дружину свою, худо всем будет! Росы следопыты, охотники, зело опытны, а уж воины те ещё!
*****
За два дня до этого, Родий и его друг Бука были в верховьях Днепра, где давно жил род смолян племени радимичей. А привели их в эти края слухи. Будто бы здесь обретается великий оружейный мастер из росов, по прозванию Булат. Не зря же говорится, что язык до Царьграда доведёт. Родий с Букой и нашли этого знаменитого мастера в городище смолян. Встретились. Мастер, как мастер, обыкновенный кузнец, среднего роста, плечистый, борода с проседью, по-славянски говорит коряво, но словоохотлив.
Заночевали у него. Булат много рассказывал парням о разных видах оружия, показывал разные заготовки мечей, шестопёров, наконечников для рогатин и копий. Объяснял свойства и методы ковки того или иного вооружения. Видно было, что мастер очень любил своё дело, жил им, да и жил богато. Обидеть его, никто не смел, даже враги – гнева Перуна боялись. Везде считалось, что ковали, особенно оружейники, – это представители воинственного бога на земле. Обидеть оружейного кузнеца – обидеть самого Перуна. Кузнецы вообще считались наравне с волхвами колдованцами, посредниками между людьми и Отцом небесным Сварогом, покровителем всех ковалей, потому что профессия огненная, а Огонь – сын Сварога.
Друзья подобрали каждый по своему росту и силе заготовки черновых мечей. Целый год мастер будет ковать, закаливать, шлифовать эти заготовки, доводить до состояния пружинной стали. А ещё мастер тщательно обмерял плечи и головы парней для изготовления оплечий и шеломов; сказал, чтобы приходили на следующий год за готовым железом. Договорились о цене. Цена была велика: выложить нужно было столько серебра, сколько весил весь груз изготовленного оружия. Родий согласился. Ударили по рукам.
– Помните, ребята! – приговаривал мастер. – Меч – это символ власти, символ борьбы со злом! Легко владеть мечом будет тот, на ково с рожденья ляжет десница Перуна!
Спали друзья крепко в добротном доме кузнеца, а утром засобирались в обратный путь, домой. Сам Булат уже стучал молотком в кузне. Пока Бука складывал в заплечный мешок съестные припасы в дорогу, которые выдал молчаливый подмастерье, Родий вышел из дома на улицу. То, что он увидел, его насторожило. Шумная ещё вчера улица городища была пуста. Вокруг было как-то непривычно тихо, только где-то горланил петух, да мычали недоенные коровы в стайках. На берегу реки сиротливо стояли торговые и рыбачьи лодки, но не суетились возле них торговцы и рыбаки. Родий недоумевал: куда могли подеваться люди, ещё вчера озабоченные, шумливые, куда-то спешащие. Правда возле одной большой лодьи сгрудились вооружённые люди, возле них крутилась собака. Родий заметил, как в лодью усаживают связанных девушек. К парню подошли трое.
– Добрый трал получится из этого дикаря! – произнёс на плохом славянском один из троих и быстро накинул на шею Родия верёвку. Тот не успел сообразить, как двое других схватили его за руки. Но в это время из избы вышел Бука. Всё произошло молниеносно. Бука мигом оценил обстановку и ударом своего мощного кулачища сразу свалил с ног двух воинов, выронивших при падении дротики. Третьему, не успевшему вынуть меч, сломал шею. От лодьи к друзьям побежали люди, на ходу вынимая мечи.
– Бежим, Бука! – крикнул Родий. – Без оружья нам с ними не совладать! Глянь их много! Это росы!
Бука схватил, лежащий на земле дротик и друзья быстро скрылись в лесу. За ними увязалось десяток воинов с собакой. И вот уже вторые сутки за парнями упорно гнались, но, как ни странно, вовсе не пытались захватить, хотя могли бы.
*****
Полежав какое-то время на сырой траве, и отдышавшись, Родий прислушался. Где-то в лесу, который они прошли, послышался далёкий собачий лай.
– Окаянный пёс, – воскликнул, вставая Родий, – твоя глотка не предвещает нам добра! Будь проклята та сука, што породила тебя! Уже напал на наш след! Но поздно, подлая тварь: мы не пойдём на полудень! Вставай, Бука! Мы приведём росов туда, иде ждёт их погибель!
Лес по эту сторону Нары не был таким густым и непролазным, что тот, который они прошли. Идти по нему стало легче и друзья широким шагом направились не на юг, как должно, а резко на северо-восток. Двадцать поприщ, без устали, шли Родий и Бука, пересекая ручьи и мелкие болотца, заросшие осокой и хилым березнячком. Но вот местность стала повышаться, пошёл мощный сосняк вперемешку с елями. Наступал вечер – это было заметно по сгустившимся сумеркам. Усталость всё-таки дала о себе знать. Парни решили заночевать, понимая, что росы, идущие по следу, просто выслеживают их с целью вызнать путь в земли вятичей, чтобы уж потом сделать набег крупными силами.
Прежде, чем устроиться на ночёвку, Родий, как и в прошлый вечер, воскликнул, обращаясь в глубину поредевшего леса неведомо к кому:
– Пусти, хозяин, не век вековать, а одну ночку ночевать!
Прокричав свою просьбу трижды и бросив в ближайший куст ольхи, в уплату за ночёвку, горсть пшена, Родий улёгся на подстилку из наломанного лапника. Укладывающемуся рядом Буке, он заметил:
– Завтрева, Бука, будет вёдро! Ветер меняется!
И верно, ночью вызвездило, а полная луна залила холодным светом лес, мягко пронизав кроны деревьев. Родий, открыв глаза, увидел, что небо посветлело, и звёзды уже утратили свою обычную ночную колючесть. Он ткнул в бок спящего Буку.
– Подымайся, надо топать! Недалеко уже!
Пожевав сухого проса, и, запив его из протекавшего рядом лесного ручейка, друзья лёгким шагом направились в глубину леса немного под углом к посветлевшему зеленоватому небу в просветах крон елей на востоке. Примерно через два поприща Родий и Бука вышли на небольшую полянку. Прямо по ходу чернел густой подлесок. Монотонный шаг парней, вдруг, был прерван жёстким окриком:
– Стой! Хто таки? Следующий ваш шаг будет последним!
Окрик донёсся из тёмных кустов впереди. Следовало немедленно остановиться, иначе стрелы пронзят незащищённую бронёй грудь. Родий остановился, сзади замер Бука.
– Вятичи мы! Братья примите с миром! – крикнул Родий в ответ, догадавшись, что перед ними, невидимые в кустах, люди из угорского племени меря.
Из темнеющего подлеска бесшумно выскользнули четверо охотников с луками на изготовку. Один из них, говоривший по-славянски, подошёл, и, узнавая, воскликнул:
– Э – э – э, да то Родька! Чево энто ты сюды забрёл? Али в гости к нам?
Обнялись, как хорошие знакомые. Родий коротко объяснил, что к чему, попросил помощи:
– Помоги, Охта! Сведи с Росомахой, вождём вашим! Всем ведь будет худо, и нам, и вам! Неможно, дабы энти лазутчики ушли обратно, целёхоньки, да привели сюды цельну дружину! Оне ж яко волки! Упреждать нас, яко честны воины, не станут, нападут в ночи!
Угр посуровел, произнёс успокаивающе:
– Не надо Росомаху, Родька! Покуда мы бегаем туды-сюды, росы уйдут, время упустим! Нас тута два десятка с луками! На волчью стаю облаву деять затеяли, но коли двуногие волки пришли незваными, положим, и их! Не один не уйдёт! Давай сюды, в елошник, укрывайся!
Долго таились в зарослях подлеска люди Охты и Родий с Букой. Уже серые, предрассветные сумерки рассеялись. Неумолимо наступал рассвет. Лёгкие ленты тумана поползли, словно белесые змеи по лесной поляне. Вот и верхушки елей окрасились в медно-рыжий цвет от разлившейся по небу красавицы-зари. Проснувшееся солнце поцеловало землю угорского народа меря.
На поляну вышли, не приглашённые на пиршественный достархан, вооружённые люди, конечной целью которых было взять то, что другие приготовили для себя и уважаемых гостей. Выйдя на открытое место, непрошенные сюда, почуяли неладное. Столпившись, они стали озирать подозрительный подлесок, взявшись за рукояти мечей, но было уже поздно. С трёх сторон, в тёмном ещё подлеске угрожающе тренькнули тетивы луков, и все десять человек под свист стрел рухнули на проснувшуюся для жизни лесную траву, окропив её своей кровью. Это была очередная, и далеко не последняя, жертва Перуну, который одобрительно не замедлил где-то далеко прогромыхать, по-весеннему, радуясь, что его не забыли люди.
Угры высыпали на поляну, мигом собрали сухой валежник, сняли с поверженных всё вооружение и одежду, трупы сложили на кучу сушняка и запалили жертвенный костёр. По поляне пополз смрадный дым. Все встали в круг, низко поклонились страшному костру, прося прощения за насильственно отнятую жизнь у незваных пришельцев. После, не снимая шкуры, на раскалённых углях испекли двух кабанов, подстреленных ранее, уселись рядом с костром; каждый, отрезав по куску мяса от туш, кинул его в догоравший
костёр с просьбой к убитым не держать на них зла. Свершив, подобающий случаю, обряд тризны, люди принялись за еду.
– Ну, што, Родька! Выбирай себе меч под руку! – весело произнёс Охта, ткнув в бок сидящего рядом вятича. У тебя вон уже борода растёт, а ты ещё и меча-то доброва не имел!
– Я, Охта, не могу взять за просто так оружье, иже не захватил ево в честном ратоборстве! – мрачно заявил Родий.
– Дурень ты, Родька! – весело заметил Охта. – Это я тебе дарю любой из мечей! Мысли сам! И энтот, стоеросовая орясина, што сидит возле тебя словно гора, тоже пущай выбирает! Токмо мыслю, што не найдёт он для себя такова, иже гляжу я на ево и внять не можу, а надо ли ему меч-то ратный? Ему бы вон ту ёлку вместе с комлем – вот то было бы и оружье по ево могутности! Ха – ха – ха!
Повеселившись, Охта посуровел, заговорил назидательно, по-отцовски:
– Слушай, Родька! Зачем живёшь? Вон горят твои и мои враги! Сей час, мы их успокоили, но рано иль поздно росы всё одно сюды припрутся, иже живут грабежами. Вот и бери меч, коли, я дарю, да не кочевряжься! Жизня у тебя, я мыслю, будет ратная, ещё не один меч сменишь! Пока бегал ты здеся по лесам непролазным, твово отца вождём выбрали! Вчерась мы об энтом прознали….
Глава 3. ГЛЯЖУ В ОЗЁРА СИНИЕ…
Леде в эту весну, как раз в цветень-месяц, исполнилось семнадцать лет, и она уже прослыла у девушек Туманного перестарком. Синеокую красавицу с пышной светлой косой, гибким станом и певучим голосом замуж не брали по очень даже простой причине – она считалась невестой Родия. Почему так получилось, кто такой слух пустил, непонятно? Сам Родий, завидный из себя жених, к Леде внимания особого не проявлял, да и люди смотрели на него, уже как на пожилого. А тот, с четырнадцати лет занятый в ратных походах, на вечёрках и молодёжных посиделках бывал редко, песен не пел, в хороводах не участвовал, да и обряды не соблюдал.
Отца у Леды давно уж не было, погиб в битве с гузами, но зато был старший брат Бронивар, который пытался выдать сестру замуж. Да только мать, Дарёна, возразила: «Не трогай девку, Бронька! Богиня Лада, лучше ведает, яко устроить её судьбу!» Брат рукой беспечно махнул, мол, живите, как хотите. Сам-то он давно семьёй обзавёлся, и даже избу себе отдельную построил, да и поле отцовское обихаживал с прилежанием: пахал, сеял всё, что положено по воле городской общины и воле волхва, дяди Боко. А когда требовалось, выпадала, вдруг, лихая година, то отцовская секира, шелом и щит служили Бронивару исправно. По зову князя он одним из первых становился в ряды дружины вятичей.
Рано утром, Леда, проводив корову на выпас в общинное стадо, поднялась на высокий пригорок, где стояла деревянная статуя Вседержителя, посверкивая золотом и серебром. По пути на священный холм ей попались полевые гвоздики, что мелкими розовыми звёздочками весело подмигивали из молодой травки. К подножью статуи Леда положила ровно девять цветочков. Девять означало, как говорили волхвы, устойчивость мироздания и девять небесных сфер. Девушка с детства знала, что девятка является священной цифрой. Об этом не раз говорил молодёжи волхв, дядя Боко. Даже свою белую, льняную рубаху Леда зимой расшила по подолу девятью синими васильками. По древним преданиям эти полевые цветы считаются у славян символом чистоты помыслов любой девушки. Эти же цветы вплетает в свой венок богиня Лада. Василёк обязательно должен быть в букетике с ромашками, который добрая хозяйка кладёт на полочку в коровнике для покровителя скота, бога Велеса.
С вершины холма, где стояло изваяние Сварога, открывался чудесный вид на ближайшие два озера, за которыми темнели густые хвойные леса. С востока уже всходило розовое и свежее, будто умытое озёрной водой, Ярило, которое считалось у вятичей золотым щитом Даждьбога, скачущего на повозке с четырьмя белыми конями. Леда, как родному поклонилась ему, пожелала доброго утра. Ярило, незаметно смахнуло с поверхности озёр розовато-белую вату тумана, и они открылись взору Леды своей, какой-то пронзительной и глубочайшей, аквамариновой синевой. У девушки дух захватило от такой звонкой чистоты цвета. С севера и запада, как широко открытые глаза богини воды и земли Макоши, эти чудесные озёра обрамляли темные ресницы еловых лесов. Такую картину пробуждения родных озёр весной и в начале лета по утрам Леда видела и раньше, но всякий раз её поражала эта непередаваемая дикая краса. Когда же небо закрывали облака, эти озёра становились светло-серыми и манили к себе своей загадочной добротой. Озёра были красивы всегда, даже зимой, когда спали, прикрытые бело-голубыми веками снегов.
Вот и сейчас всё вокруг пребывало в состоянии самати: не было даже малейшего дуновения ветра, молчали птицы, стояла какая-то звонкая тишина. Так бывает по утрам. Но через минуту мир очнётся: мягко шевельнёт прядь волос на лбу девушки ласковый ветерок, то дыхание Стрибога, бога ветров, сына великого Сварога и Макоши. Нарушит тишину чистой, звонкой нотой пения голосистая красногрудка, а ей тут же ответит другая, что-то прошепчет Леде молодыми листочками ольха, растущая рядом с изваянием Вседержителя вселенной.
Очарованная девушка повернулась на полудень. Там на юге чернели обработанные поля вятичей вперемежку с колками берёз и дубов, покрытых светло-зелёными облачками весенней листвы. Леда вопросительно взглянула на статую Вседержителя вселенной. Золотые волосы на голове и бороде его были наполнены каким-то неземным светом, а рубиновые глаза горели яростно под мохнато-золотыми бровями, будто предупреждали девушку, что жизнь прожить, не поле перейти. Суровый взгляд покровителя вятичей вернул Леду в действительность и приглушил то очарование, которым она только что пропиталась от созерцания окружающего великолепия мира.
Леда спустилась с холма вниз, к озеру, ступила босой ногой на песчаную береговую кромку. Здесь, в прибрежной полосе, уже цвело много ромашек. Девушка быстро сплела из них венок, добавив к нему голубую незабудку, символ этого года. Тут же собрала и вплела в венок двенадцать трав по числу месяцев в году, и надела его на голову. Для своего гадания Леда сплела ещё один венок, но только из одних ромашек, прибавив к ним несколько незабудок. Встав босыми ногами на влажный, холодный песок, она низко поклонилась озеру и опустила венок на воду, слегка подтолкнув его от себя.
Ветер ещё толком не проснулся, а потому поверхность озера была спокойной, неподвижной. От воды поднимался реденький, легкий парок, будто это кто-то дышал, большой и добрый, – так Леде казалось. Подчиняясь приданному рукой движению, венок немного отошёл от берега, а девушка, умоляюще сложив руки на груди, обратилась к озеру, а вернее к богине воды и земли Макоши, с просьбой определить её судьбу в наступившем году.
Пятясь и беспрестанно кланяясь, Леда отошла от береговой линии, а после, повернувшись к озеру спиной, поднялась на холм. Хорошо, что она не видела, как прибрежная волна лениво вытолкнула её венок на песок. По поверьям вятских девушек это означало, что надежды Леды на какие-либо изменения в её жизни в этом году не сбудутся….
*****
На холме, у подножья статуи Вседержителя, Леда увидела стоявшего коленопреклонённым человека. В его согбенной фигуре было что-то очень знакомое. Девушка замерла на время, а когда человек выпрямился, Леда узнала в нём Родия. Вообще-то женщинам запрещалось не только присутствовать рядом, но и видеть, как мужчины общаются с богами. Здесь же всё произошло неожиданно, да и Родий оказался в одиночестве. Резко обернувшись и узнав Леду, парень смущённо поклонился девушке, заговорил сбивчиво:
– Вот! Пришёл! Проститься! Напутствия у Вседержителя прошу! Путь дальний, мне неведомый.
Леда молча смотрела, широко распахнув свои большие синие глаза, как будто впервые встретила этого могучего парня, хотя встречалась она с ним часто, с самого детства. Она, вдруг, увидела в нём сразу многое, чего вроде бы и не замечала ранее. Здесь, на священном холме, Родий показался ей скалой, которой не страшны ни ураган, ни огненные стрелы и громы Перуна, ни беспощадное время. Он, в этот миг, представился ей крепким домом, в котором не страшны зимние стужи, вьюги, дикие звери и всякая непогода. В доме этом тепло и уютно, в нём растут здоровые, весёлые и сытые дети. И этот родной дом за то и любят.
Родий же, устремив свой взгляд на девушку, осекся на полуслове. Он замер, боясь спугнуть это яркое и неожиданное наваждение в образе северной красавицы с венком из полевых цветов, одетой столь просто и в то же время так неповторимо. Парень поймал себя на мысли, что перед ним богиня Лада, явившаяся, вдруг, из ниоткуда, чтобы дать напутствие ему перед дальней дорогой. Глаза девушки излучали какой-то неземной свет, они притягивали, они гипнотизировали, они говорили как-то сразу и об очень многом. Неотрывно глядя в эти прекрасные глаза, Родий шагнул вперёд и коснулся рукой плеча Леды. Она, вздрогнув, прильнула к его широкой груди. Родий осторожно погладил её тёплое плечо и с каким-то, неведомым доселе, наслаждением вдохнул запах девичьих волос. И тут он услышал, или скорее уловил телепатически, такие простые слова, пронзившие его сердце:
– А как же я, милый?
Родий смутился, но всё-таки заговорил, и его слова показались ему чужими, корявыми, не к месту и не вовремя произносимыми:
– Я ведаю, Леда, што люб тебе! Люди говорят, што это большое счастье, егда дева любит парня, а не идёт за нево покорно. У нас ведь яко заведено? Лишь бы парень любил, а деву никто и не спрошает! – Родий с грустью добавил. – Но богиня Лада не одарила меня энтим богатством. Хотя дядя Боко поведал мне недавно, што парень, сердце которого не обожгла любовь к женщине и не мужчина вовсе, а так – перекати-поле. Вота я и есмь энто перекати…. Мотаюсь туды-сюды, ратоборствую, а свово угла тако и не обрёл, понеже не нужон он мне вовсе!
Леда, подняв голову, посмотрела на Родия. Взор его был устремлён куда-то вдаль, за озёра, был отрешённым, и в нем сквозила какая-то печаль. Она участливо и ласково погладила его плечо. Родий перевёл взгляд на её лицо, слабая улыбка легла на его губы, голос его потеплел:
– Помнишь, Леда, яко мы с тобой, ещё младенями ходили к греку Феофану, который учил нас ромейскому языку и толковал про свою веру?
– Помню, Родя, – тихо ответила девушка.
– Тако вот энтот грек, – продолжил Родий, – заронил тады в меня искру, иже тлеет во мне по сию пору, быдто моя судьба тамо, в странах полуденных! Наплёл грек сказок про народы те многочисленны, што тамо диковинно проживают, про верованья их странные, про деревья и плоды, што тамо произрастают. Сказывал, што скачут с мечами на конях средь гор высоких яки-то амазонки, к мужам беспощадныя. Грек-от уехал к себе в Кустантинию, а я, яко проклятый, всё думаю о странах тех полуденных, о народах тамошних. Ты ведь ведаешь, Леда, што кажну вёсну ездят в Таматарху, Боспор и дале наши торговцы. Возят туды рухлядь, да мазь тележну, да сами телеги, а привозят оттудова материю шёлкову, зело красну для вас, дев наших. Дядя Боко сказывал мне намедни, што аще отроку заронят в бошонку ево што-то чудное, мыслю дивную, то засядет она в ём, яко заноза и будет, определять ево путь дальнейший в жизни сей суровой….
– Я буду у тебя второй женой, милый! – вдруг заявила Леда.
Родий вскинул голову, как застоявшийся жеребец при виде меры овса, которую принёс конюх. Заговорил протестующее:
– Да у меня и мысли-то не было искать средь южанок тамошних себе жену! По воле великова Сварога мы не могем иметь двух жён сразу, токмо рази што окромя жены вдову с детя, аль наложницу, коль могутный такой. Просто хочу повидать края те и народы, познать мир обширный, диковинный!
– Ты-то об энтом не помыслил, да токмо тако и будет! – заявила прозорливая Леда. – Богине Ладе видней егда пробудить парня, а тамошние девы зело искусны, обольщать младых парней, се неразумных. Помяни моё слово! Любовь ко мне проснётся в сердце твоём, лишь бы ты был рядом, и пусть я буду не первой. В городище нашем многие имеют по две жены. Глянь хоша на брательника мово, Броньку! Посля тово, яко ево друг Соха сгинул в схватке с медведем в прошлом годе, он забрал жену ево Волю с младенцем в свою семью!
– Вдову, Леда, вдову! Хоша я и не мыслил об энтом, Леда, – перевёл течение разговора в иное русло Родий, – но еду в страны полуденные по воле отца свово, князя Светозара и общины нашей. Такожде и волю богов наших нарушить не могу. Тако изрёк дядя Боко.
Леда, слегка отстранившись, посмотрела в глаза Родию, твёрдо, но с нежностью произнесла:
– Яко бы не сложилось у тебя тамо, в красном далеке, ведай, милый мой, што в краю родном, отчем, я о тебе молить богиню Ладу быти! А дабы не коснулась тебя стрела калёная аль меч ворога, повелителю молний, громовержцу нашему, принести я должна в жертву козла чёрного, трёхлетка, в Перунов день….
От таких проникновенных слов девушки Родий содрогнулся, сначала отстранился, а потом, вдруг, подчиняясь неведомому для него порыву, с жаром поцеловал Леду в губы и в лоб, сказал горячо:
– Такова, зело доброва напутствия, не ожидал я от тебя, милая Леда! Внял я сердцем своим, што ты для меня боле, чем сестра, да видать не пришло ишо время, иже указует мне Вседержитель вселенной.….
Глава 4. СОБОР КОЛДОВАНЦЕВ
Ещё исстари, в землях славянских, всех волхвов, во всяком случае, многих из них, люди называли дядей Боко, что означало сбоку, обочь. Другим именем называть было нельзя, да и вряд ли кто помнил его истинное, родовое имя. По заведённому издревле обычаю, волхв должен жить отдельно от родового поселения. Но одиноким отшельником он не был. Вместе с ним жили помощники, которые постоянно заготовляли дрова для священного костра во славу верховного бога Сварога, поддерживали огонь в нём, и вообще у них было множество хозяйственных и обрядовых обязанностей. Они сопровождали волхва в городища и поселения, где тот проверял, насколько правильно соплеменниками соблюдаются обряды и обычаи.
Эти помощники собирали в рогожные мешки умерших младенцев для ритуального сожжения, и во всём помогали своему хозяину. Волхв также следил за тем, чтобы все вдовы с детьми, которых ещё не взяли в полные семьи, были наделены житом из общинного урожая. Волхву приходилось быть частенько и лекарем, несмотря на то, что в поселении всегда жили и оказывали посильную помощь своим сожителям два-три знахаря. Мало того он даже разбирал разные бытовые жалобы горожан и принимал какие-то решения, хотя это было прямой обязанностью вождя, который зачастую отсутствовал в городище, будучи лицом больше военным, а потому занятым совсем другими делами, для него куда более важными, чем всякие гражданские дрязги.
Волхв обязательно обзаводился учеником, преемником его дел в будущем. И это волхв объявлял людям по своим, личным приметам, какая будет зима, весна, лето. Он же привлекал людей к общественным работам, касающимся тех или иных обрядов, например изготовления похоронных горшков для праха умерших и рытья траншей для захоронений, потому как похоронными делами тоже занимался волхв. А уж организация и проведение праздников во славу того или иного бога, изгнание злых духов и хворей, особенно это касалось, злой богини Мараны по весне, когда её соломенное чучело сжигалось, свадебные обряды – это вообще его прямая обязанность.
Волхв одевался в длинную, до пят, белую льняную рубаху, без подпояски и в любое время года носил на плечах медвежью шкуру мехом наружу, чтобы скотий бог Велес признавал за своего собрата и не препятствовал лечению скотины. С шеи у него, как атрибут духовной власти над соплеменниками, свисало ожерелье из кабаньих и медвежьих клыков. Атрибутом власти был и посох с набалдашником в виде головы какого-нибудь бога, приверженцем которого он себя считал.
Люди в поселении, волхва боялись или уважали в зависимости от того мудр и учён он был, или самодур. Соплеменники часто называли его колдованцем и опасались, как бы тот не наслал проклятья. Прав у волхва было много, очень много, и уравновесить его силу мог только вождь племени, который опирался на своих людей, дружинников, уверовавших в слово князя, и сомневающихся в слове волхва по разным там личным причинам. Уже на этой разнополярности мнений в общине, вождь становился сильным, ну а уж при поддержке волхва любой вождь обретал статус великого князя. Мудрый вождь старался не потерять расположения волхва к себе, приглашал к совету, понимал, что дружина чаще доверяет больше волхву, чем ему, опять же из-за боязни какого-либо проклятья на себя или его семью.
На высоком лесистом холме, между двух озёр, в пяти поприщах от Туманного, было древнее капище. По призыву вятского волхва сюда съехались верховные волхвы славянских и угорских племён, чтобы обсудить кой-какие, накопившиеся за прошедшие годы, проблемы. Прибыли даже два волхва из угорских земель, племена которых издревле называли отморозками, ввиду того, что те жили далеко на севере, за большими озёрами (Карелия). И всё-таки кое-кого не хватало, из других, дальних земель. Помощников своих волхвы оставили возле лодок на Оке, а кто посуху сюда добрался, то оставил помощника возле телеги с лошадью, подальше от капища. Посторонних ушей быть здесь не должно. Обращались волхвы друг к другу по родовым именам или по племенной принадлежности.
Обросшие донельзя волосьями, в традиционных медвежьих шкурах с монистами из клыков и когтей на груди, все эти дяди Боки, сами-то больше походили на диких зверей. Но это только казалось, – так, поверхностно. Люди эти обладали знаниями и опытом многих поколений, были своего рода посредниками между богами и обществом. Без этих посредников общество давно бы зашло в тупик, перестало развиваться, выродилось бы во что-то неопределённое, самоликвидировалось бы, в конце концов. Скорей всего роды и племена просто уничтожили бы друг друга, не понимая, чего творят. Жрецы, волхвы, шаманы – это самое важнейшее звено в цепи человеческой цивилизации на определённом отрезке времени. Являясь носителями самой древнейшей профессии, эти ловцы душ и дирижёры духовной жизни в обществе, разработали со временем довольно стройную систему обрядов, различных запретов и табу, которые, можно сказать, и спасли роды и племена от самоуничтожения.
Люди нынешние даже представить себе не могут, или просто не знают, проводя, например, свои свадьбы, и иные, довольно странные иногда обряды, насколько они обязаны своим пращурам. Каким-то своим, странным подчас поведением, современники наши обязаны именно тем древним духовникам, волхвам и шаманам, которые уже тогда, в глубине веков, были твёрдо уверены, что дела их, огонь священный, жертвы, принесённые во славу богов, будут вечны. Деяния древних духовников, как давно замечено, сказываются, подспудно живут, а иногда и видны, да и просто происходят постоянно в повседневной жизни наших современников, только они этого не замечают.
Вот и сейчас славянские верховные жрецы племён собрались, чтобы утрясти некоторые противоречия в обрядах, обменяться каким-никаким опытом, наметить кое-какие планы на будущее. Да они бы и никогда не собрались, если б не настойчивость верховного волхва вятичей Ратибора, который разослал своих помощников за тысячи поприщ ещё с осени в разные концы земель всяких, далёких, необъятных.
Как исстари заведено, волхвы, склонившись, с почтением поцеловали деревянную статую Сварога, сами развели вокруг него шесть священных костров. Сами, без помощников, принесли в жертву любимому богу всех славян и угров рыжего бычка-трёхлетка, спалили его на этом костре, и, окутавшись смрадным дымом от таково действа, чинно уселись на лежащие, покрытые мягким мхом, коряги, вокруг центрального костра. Пока они вот так молча священнодействовали, наступил вечер, но никто из них не озаботился о своём ночном отдохновении или еде. Понимали, что не для пира и приятного ночлега сюда, так далеко, званы были.
Выпив ключевой воды из берестяной кружки, волхв вятичей, на правах хозяина и негласного председателя собрания, по разрешению равноправных, взял слово:
–– До нас дошли слухи быдто ты, Лось, пастырь душ овец древлянских, приносил в жертву Перуну молодых жёнок племени твово! А ведал ли ты, што Перуну вовсе не нужны жертвы женскова пола? Ты оскорбил нашего общего для всех словенов бога! Рази ти не ведал, што Перун примат жертву токмо мужеска пола, да токмо с оружьем в руках? Пошто тако поступашь, ответствуй нам всем, уши наши растворены?
С коряги, давно уж обросшей не только зелёным мхом, а даже какой-то лесной травой, бодро вскочил всклокоченный, с бородой до самых глаз, мелковатый на вид, волхв древлянского племени, и, стукнув посохом о землю, уронив при этом свою медвежью шкуру, возопил:
– Да што энто тако творится-то, Ратибор! Пошто сумленье-то ваше, братья! По то и сжигаю я таковых, жрец вятичей, и вы, люди словенски, што бесплодны те жёнки! Три года даю я им сроку, а толку-то нету! Я сполняю канон пращуров наших – худую траву из поля вон! Да и пожёг-то я всево двух, а шуму-то на весь белый свет!
Вятич, встав с пня, на котором сидел, заговорил увещевающе, но с определённой угрозой в голосе:
– А я говорю тебе, Лось, не твово ума дело то! Деторожденье в руце Вседержителя! Жёнки энти могут робить, пользу приносить! Пущай наложницами будут, а муж втору жену в дом свой приведёт, плодовиту! А с той, пустобрёхой, пущай богини женски Лада с Макошью разбор чинят! Нам-то дела до того нету! Што мыслите про то, братья? – Вятич обратился к поляне. – Реките, поразмыслив, слово своё!
Поляна зашумела, разноголосо загалдела, наконец, выдохнула единоутробно:
– Осуждам Лося! Одобрям слово Ратибора!
Вятич вразумительно изрёк:
– Ну, дак, што, внял, древлянин? Боле тако не делай! А пойдёшь наперекор решенья собора нашева, сам пойдёшь на костёр жертвенный! Помни, брат наш, надо завсегда бысть малость мудрей, аще ты есмь на самом деле!
Древлянский волхв, явно не согласившись, пристукнув о землю своим посохом, но, всё-таки, побоявшись при всех плюнуть на мать-прародительницу, Землю, опять же возопил:
– Хай, живут, да токмо не вижу в том толку! Нам народу поболе растить надобно! Неужто не углядел ты, вятич, в том провиденья Вседержителя?
– Всё зрю, древлянин! Но и милосердие проявлять волхву надобно к народу своему! Не то ведь обидишь Ладу и неможно знать, чем она тебя вознаградит!
Смущённый древлянин уселся на корягу, насторожённо поглядывая из-под густых бровей на других волхвов. Вятич же продолжил:
– Я за энту зиму принёс в жертву Перуну и пожёг две сотни младенцев, но то были детки, в которых Вседержитель не захотел вдохнуть огонь жизни и имён, родовых оне ещё не иметь быти! Ведаю, што и вы такожде поступаете! Однако прирост люда славянского идёт неуклонно, хоша и гибнут соплеменники наши, яко мухи от болестей всяческих, а паче тово в битвах и ратоборствах с иноземными народами, да и меж собою! Вон улич, дулеб, да и ты, кривич, не дадите соврать мне! Собрал я вас, братья, штоб решить, яко нам бы счесть сколь народу в племенах наших – энто зело важно дело!
Радимич, вскочив со своего места, вскричал:
– Да мыслимое ли энто дело, Ратибор?! Народу у нас, што гороху в куле! Рази, сочтёшь? Да и дело сие Сварогу угодно, но не нам!
– А можно ведь сотворить и тако! – заявил представитель дреговичей. – Пущай кажный тиун в городище, што выдаёт по осени жито семьям, кладёт в мешок палочки по числу едоков, а посля посчитает с волхвом местным, да и свезёт те мешки во двор князю – вот и будет общий счёт! Я тако мыслю!
– Ты прав, Суходрев! – в знак согласия вятич пристукнул своим посохом. – Давайте тако и поступим и вождям своим донесём решенье наше!
– Хай, буде тако!! – единодушно вскричала поляна.
Когда установилась тишина, вятич заговорил о наболевшем:
– Доколе, братья, драки меж собою допускать быти? Пошто словены ильменски на кривичей, аль на отморозков кидаютси, аще псы подзаборныя, а те на них? Чево поделить-то не могёте? Реки слово своё волхв отморозков, да и ты тож, волхв росов!
Отморозок первым встал, подал голос обидчивый:
– Росы в наших угодьях бобра, кунку, соболя промышляют, а словены ильменски им потворствуют, да и сами грабежом в наших землях не брезгуют!
– Да вы што?! – рассердился вятич. – В лесах ваших, непроходимых, столь дичи пушной, што хватит на кажнова, да ещё с избытком на сотни лет! Лови зверя, да продавай за море Варяжско! Гости торговые чистым серебром за рухлядь пушную платят, – живи, не хочу! А рыба! Рыба в ваших озёрах толпами ходит! Вам даже рожь сеять не надо, всё одно она у вас плохо родится! Вам же на одной рыбе, лосях, да ведмедях прокорму хватит! А грибов, а ягод-то хоша лопатой греби! Набирай, полны кадушки, да и ешь себе вволю зиму-то!
– Откель тебе, вятич, ведомы богатства наши, лесныя? – спросил отморозок.
– Не откель, а откуль! – поправил малограмотного отморозка Ратибор. – В молоди любознатство меня по миру толкало! Бывал я и в странах ваших полуночных, и в странах полуденных, и в землях на восходе Ярила, и в землях моравских на заходе светлова щита Даждьбога, иже хотел я увидеть очами своими земли предков, откуль мы, вятичи, произошли! Так-то!
– А я ведаю, – вернул разговор в прежнее русло Ратибор, – пошто вы себя тако драчливо ведёте! Жадность вас всех заела! Запомните! Запомните все! – вятич сурово посмотрел каждому в глаза. – Энто ещё предки наши сказывали: нет для человека меча боле опасного, чем его жадность и нет щита боле надёжнова, чем его бескорыстие! Энто в перворяд вас отморозки, вас росы касаемо, да и вас словены ильменски!
Долго шумели волхвы, вспоминая старые обиды. Каждый считал, что его племя притеснил сосед, на его угодья позарился.
Помолчав, послушав перепалку своих собратьев по вере, Ратибор протянул левую руку в сторону угорских волхвов, заговорил убеждающе:
– Вон тута сидят волхвы народа меря! Мы, вятичи, живём с имя бок о бок, в вечном дружелюбии, делить нам с ними нечево! Рази, их девушки не стали в избах наших парней жёнами? Рази наши красавицы не вошли в их домы хозяйками? Мало ли мы с угорским волхвом молодых пар округ ракиты и священнова дуба обвели, венки из дурман-травы, водрузив на них? Егда наши предки пришли в энти благодатныя края, тутошние скифы-фиссагеты, и народ меря не стали прогонять нас, а прямо указали, што простору хватит на всех! Вот в мире и живём, а времени с той поры утекло боле трёх веков….
На поляну, где заседали ещё с победья волхвы, незаметно спустились вечерние сумерки. Кто-то из волхвов подбросил в костёр сухих сучьев и от вспыхнувших языков яркого пламени по лицам собравшихся забегали красноватые блики, а чёрные тени только подчеркнули напряжённое сверкание их глаз.
На обросший мягким мхом пень, где сидел до того вятич, не спеша, влез большой уж, деловито свился в кольца и уставил головку в сторону горящего костра, беспрестанно щупая вечерний воздух своим раздвоенным языком. Такое странное явление напугало волхвов.
– Што энто, Ратибор?! – возопил волхв радимичей. – Пошто на сиденье твоё взгромоздилси сей гад, да ишо уставилси на священный огнь сына Сварожича?! Што энто за знаменье? Толкуй нам, волхв вятичей!
Ратибор глянул на пень, посохом своим спихнул змея и тот бесшумно ускользнул в ближайший куст верболозы. Посмотрев в напрягшиеся лица собратьев по вере, он неожиданно спросил:
– Сколь колец свил змий энтот? Кто углядел?
– Четыре! – ответил кривич.
– Четыре с половиною! – поправил дулеб.
Вятич устремил свой взгляд в ночное небо, что празднично сверкало мириадами колючих звёзд в прогалызинах среди крон мощных дубов, окружавших поляну, после чего, пытливо глядя в тревожно блестевшие глаза собравшихся, изрёк странные слова:
– Чрез четыре с половиною столетия придёт на земли наши вера ромейска, народы наши отринуть быти древнюю веру дедов наших за ненадобностью! Единобожие будет!
– Да ты што, Ратибор! – вскричал росс. – В своём ли ты уме?!
– В своём, братья! В своём! Оттуда! – он протянул посох в сторону юга. – Из стран полуденных придёт сюды, та нова вера! Из Кустантинии!
– Тако, а яко ж мы-то? – растерянно произнёс кривич. – Великий Сварог и сын ево Громовержец Перун рази, допустят то? Не могу я, вятич, поверить, што устои веры нашей, столь древней, пошатнуться быти!
Ратибор протянул руку к костру, заговорил пророчески:
– То не скоро ещё! Но хоша и пришагать быти та вера неотвратно на земли сии, в народы наши, а токмо одно промолвить хочу вам, братья! Наша древняя вера исчезнуть быти не могёт, яко снег по весне, яко листва по осени! Ей быти сидеть в головах, в печёнках, потомков наших вечно! Она неистребима, яко то Ярило, золотой щит Даждьбога, сына великова Сварога, иже скачет на колеснице своей по ясному небу с утра до ночи, егда уходит на другу сторону, дабы дать свет щита свово и тамо. Она впитываться быти в младенца с молоком матери! Верьте тому, братья. Многия обряды сохранятси покуда очи человеков глядеть быти, на мир сей с удивленьем, буркала свои вытаращив. Возьми хоша песни наши обрядовые? Сам дух песни неможно вытравить из сознанья человеков! А свадьбы? Рази ж можно забыть торжественный обряд свадьбы, што приносит в сердца людей неистребимый дух праздника, продолжения рода, вечный круговорот обновления природы? А яко мы встречаем рождение нового года, аще даёт нам надежду на новый урожай, на добро, на новых людей? Нет, не смочь потомкам нашим забыть древние обряды и обычаи, традиции и верования наши! Верьте, братья, тако и быть тому, аще я, верховный волхв вятичей, поставленный народом на пост сей, вовсе умы и души людей не ведаю, и гнать меня надобно отсюдова, куды подале, за тридевять земель, поганой метлой, дабы я боле соплеменникам своим головы не морочил….
Глава 5. СЛАВЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
– Вот, Родька, гляди на диво сие, понеже соорудили энто деды наши в незапамятные времена для пользы человеков!
На холме, по периметру большого круга были вкопаны мощные брёвна из почерневших от времени лиственниц высотой в три сажени (6,5 м.). Внутри круга, окружённого этими столбами, виднелась выложенная из камней разной величины замысловатая спираль. Вокруг холма разлеглось вычищенное от дикороса и лесной поросли поле, только вездесущие ромашки скромно украшали равнину, но на почти равном удалении от поля чёрной плотной стеной стоял неподвижный лес вековых елей вперемежку с огромными соснами.
Родий, с интересом рассматривая странное сооружение, недоумевал, что бы это значило, зачем оно здесь, в пяти поприщах от Туманного. Наконец спросил невпопад, стоявшего рядом волхва Ратибора:
– Яко ж энти столбы не сгнили за давностью лет, дядя Боко?
Седые усы волхва шевельнулись, скрывая ироничную улыбку, но ответил:
– Брёвна энти, Родька, сделаны из вековых листвянок, и, первым делом, их пять лет вымачивали в озёрной воде, понеже приобретают они твёрдость и долговечность камня! Посля комель бревна обжигают на костре и вымачивают цельный год в дёгте, дабы гниль не могла сожрать древа сего! То деяли пращуры наши на века, твёрдо ведая, што потомки их высоко оценят великий труд их! А вот пошто ты не пытаешь меня, зачем деды содеяли городьбу энту?
– И зачем же, дядя Боко? – поинтересовался Родий.
– А затем, сынок, дабы я сообщал вам, неразумным, што наступил такой-то месяц и пора приступать к тем или иным работам! Вот гляди, тень от энтова столба коснулась вот энтова камня, значит, наступил цветень-месяц! А егда тень от тово вон столба дойдёт до тово камня, наступит месяц изок и пора приступать к сенокосу! А тамо вересень, серпень, листопадник наступят! Внял ли?
– Внять-то внял, дядя Боко, – с долей сомнения заговорил Родий, – да токмо старики наши и по приметам разным, природным, познают месяцы энти!
– Познают, да не совсем точно! Зри, круг из городьбы энтой вытянутый, яко курье яйцо! Острым концом он, круг сей, направлен на земли полуночныя и тень от тово вон столба доходит до головного камня улиты, что означает равновесие между днём и ночью. Наступает равноденствие, а уж посля, чрез три, месяц капель и новый год приходит. Вот столб, иже даёт самую длинную тень! Он указует на месяц студень! Сооруженье сие чисто наше, у ромеев зовётси чудным словом – календарь! Округ холма сего всегда должно бысть чисто! Помощники мои следят за тем…. Слышь, Родька тишина яка? Место сие любой зверь поприща за два стороной обходит, ни одна птица сюды не залётыват, древо не скрипнет без воли Отца небесного, Великова Сварога! Небо здеся завсегда чисто! А улиту энту по то и выложили предки наши, што прилетел с небес камень, ударил в холм энтот и лес, што тута рос, сгорел начисто и боле не растёт здеся! А камень тот небесный в землю ушёл, но не совсем! Зри, навершие виднеетси! С него и начинается глава улиты. Видать большой силой Перуна, старшева сына Сварога, обладает энтот камень! Смекай, сынок!
Родий зябко поёжился, но любопытство перевесило:
– Зело интересно ты сказываешь, дядя Боко! А пошто улита энта в центре городьбы тако замысловато закручена? Для якой-такой надобности?
Глаза волхва из добродушных мгновенно превратились в суровые, чёрные, они стали жгучими, как угли, пронзительными, как иглы. Несколько другим голосом он заговорил:
–– Лучше бы ты, Родька, и не спрошал про сие, да уж коли спросил, утаивать от тебя не буду, да и привёл я тебя сюды, дабы вопросы свои ты задавал без боязни! То есмь самое загадочно, што содеяли предки наши, а може и не они вовсе! Може то фиссагеты сложили, што жили здеся допрежь нас! Дед мой, по прозванью Карабор, што означает Чёрный лес, был вождём вятичей и ходил с гуннами на Великий Рим во главе дружины своея! Тому прошли немалые года, семь десятков, а то и боле годов! Многажды чево сказывал он нам про земли те и народы тамошни, да и добра всякова диковинного немало привёз он оттудова….
– Я ведь пошто волхвом-то содеялси? – продолжил старец. – По свету походил, земли разны повидал. Лет мне было уж довольно, егда дед привёл меня к улите энтой. А привёл он меня в тако время летом, егда шибко коротка, ночь выдалась. Гляжу я, а в ночи, из главы улиты, столб света слабенький виднеетси, ну, такой, егда в глубокой яме костёр горит, огня не видно, дыма нету, а свет от горенья тово идёт вверх, зеленоватый, такой, быдто берёзка светится по весне, егда лист проклюнулси. Дед посылает меня в голову улиты, приговариват, што, мол, познаешь суть времени, да ещё много чево. Аще што, тако, мол, выдерну тебя оттудова. Я и стал в главу ту. Што тута содеялось, Родька!? Глава моя закружилась, чую, што в другом мире я очутилси! Музыка яка-то чудна, да замысловата заиграла. Узрел я умом своим, яко Перун цельными народами себе жертву берёт, да не сам берёт, а люди-дураки чуть ли не силком пихают ему в костры громадныя, страшныя, собратьев своих! Ужаснулси я, а поделать ничево не могу, быдто руки мои связаны сзади вервием зело крепким. Много чево узрел я, сынок! Внимал я музыку дивную – у нас тако-то и не играют, а понять не могу. Ум за разум у меня зашёл. Страх меня зело великий обуял, а ведь я николи никово не страшился во все времена! Чую, што ухожу, в мир сей навсегда, а возврата в свой мир не хочу. Благо, а може и нет, токмо дед выдернул меня из столба света тово чуднова! Сказывал, што пробыл я тамо совсем мало, а мне показалось, што прожил я тамо цельну вечность и много чево познал….
– Вот с той поры, Родька, ведомы мне языки ромейски, арабски и иные! Познал лекарско дело, травы разны от болестей человеков и скотины, погоду предсказать могу на десятину дней вперёд, а то и боле! Колдованцем люди меня прозвали, клудом, знахарем! По то и стал с той поры верховным волхвом всего племени вятичей!
Родий завороженно слушал рассказ старика и мыслями унёсся в какие-то миры. Наконец очнулся, несмело спросил:
– Сколь же лет тебе, дядя Боко?
Старый волхв положил невесомую руку на плечо Родия, ответил просто:
– Про то один Вседержитель ведает, Родька! Я не считал! Твой отец, Светозар, самый младшой в семье нашей был, мне уж летов где-то пятнадцать, а може боле, стукнуло, егда он народилси! Сей час он вождь, а посля ты будешь….
Родий обомлел:
– Яко ж то можно? Рази мало у нас мужей достойных? Ково уж народ изберёт, тот и возглавить быти племя наше!
Волхв жёстко глянул в глаза наивному парню, сказал твёрдо:
– Не твово ума энто дело, Родька! Яко скажу, тако и будет! Аще б ты ведал, сынок, сколь люда нашева я от болестей всяких избавил! Моё слово тяжелей всево железа, што в городище нашем имеетси! Вот понеже и посылаю тебя с караваном торговым в страны полуденные, на Кавказ далёкий, в Таматарху и Боспор, дабы познал ты, народы тамошни! Завязал бы дружбу с вождями племён кавказских, понеже говоришь по-гречески и по-тюркски, а и делу ратному зело хорошо обучен отцом своим! Завтрева и отправишься! А сюды привёл я тебя, дабы ведал ты место сие удивительно и загадочно, понеже окромя меня, да помощников моих, здеся никто не быват! Страшатся люди места сего…. Заповедно оно….
Родий ещё раз посмотрел на священный холм, спросил, вдруг, совсем не о том, о чём думал:
– А яко ж зимой-то? Камни сии снегом ведь заносит?
– Не заносит! Ветер, дыханье Стрибога, среднего сына Сварога, не даёт! Всё, што случайно сверху нападает, ветер божественный сносит в одночасье! Тута, на холме энтом священном и трава-то не растёт, птица не свистнет, зверь не рыкнет! Ты давай, хоша и полудень, не время ещё быдто, а всё одно становись в главу улиты сей!
После всего, что здесь рассказал старый волхв, Родий, со смешанным чувством некоторого опасения и любопытства, вступил в каменный лабиринт улиты.
– Смелей, Родька! – раздался сзади подбодряющий голос волхва. – Говорю же силы в ём на сей час нету, не то што будет потом, в коротку ночь, в месяц вересень, да и день ведь покуда ноне! Ну, вот ступил в главу? Повернись на восход Ярила! Повторяй за мной священные слова три раза! Хай пай бо! Всё! Теперя закрой очи и молчи!
Родий закрыл глаза. Через мгновение он почувствовал, как ноги его налились непонятной тяжестью, а голова, наоборот, стала свежей, будто её промыло внутри чистой родниковой водой. Где-то внутри, в мозгу, зазвучали удивительные, мелодичные аккорды какой-то неземной музыки. Ничего подобного Родий в своей жизни никогда не слышал. Хотелось слушать эту божественную музыку вечно, а ещё хотелось взмыть в синее небо, в глубочайшую даль и медленно парить, парить куда-то, словно орёл. Родий и поплыл в стихии величайшего, ни с чем не сравнимого, блаженства, в волнах космической музыки…. Откуда-то из далёкого далека настойчиво пробивался голос. Он был слабым, как шелест листьев при слабом порыве ветра, да и доносился откуда-то, будто из-под земли, но в нём слышался приказ:
– Ступай в сторону! Ступай в сторону, сынок!
Родий, безвольно подчиняясь этому, такому далёкому, приказу, кое-как отодрал одну ногу от тверди камня и с величайшим трудом переставил её в сторону. Вторую ногу переставить было уже легче. Родий открыл глаза и мир показался ему тусклым, серым, хотя вокруг разливался яркий весенний полдень. Душа его яростно сопротивлялась этому возвращению, хотелось оставаться там – на вершине блаженства…. Непонимающе он посмотрел на стоявшего рядом улыбающегося волхва, лицо его излучало, невиданное ранее, сияние. Он заговорил каким-то возвышенным, торжественным голосом:
– Поздравляю тебя, сынок!
– Што энто было, дядя Боко? – деревянным голосом спросил Родий.
– Ты общался с вечностью! Тебя приласкал сам Вседержитель вселенной! Это большая честь для смертного! Пошли скореича отсель, не то будешь быти умом яко младень о трёх годах!
Родий послушно пошёл за волхвом. Откуда было знать парню из раннего средневековья, что он почти минуту стоял на вполне обычном метеорите, госте из космоса, в столбе гамма-излучения и подверг свой организм, своё сознание, хоть и на короткое время, мощному удару космических сил. И в результате получилось так, что, если его иногда и посещали некоторые сомнения в силе славянских богов, то теперь он, как говорится, на собственной шкуре убедился в их неограниченном могуществе.
На окраине леса стояла пустая телега, запряжённая всего одной лошадью, на которой Родий с волхвом сюда и приехали. По пути к этой повозке волхв проникновенно внушал задумчивому парню:
– Одному тебе токмо доверил я тайну улиты! Даже отцу твоему, моему младшому брату, славному Светозару, я не показывал чуда энтова, понеже зрю в тебе великое будущее! Теперя где бы ты ни был, в какие бы земли, куда бы не забросила тебя по воле богов судьба, душу твою всегда будет тянуть в родные края…. Нияки соблазны, нияки богатства мира, лжа и наговоры, не смогут удержать тебя на чужбине! Тако-то вот, сынок….
Уже возле телеги, бросив разбирать вожжи, Родий, давно мучимый любопытством, спросил старого волхва:
– А яко твоё родовое имя-то, дядя?
Волхв Ратибор строго посмотрел на парня, раздельно, чётко и твёрдо произнёс:
– Дядя Боко!!!
*****
Глава 6. ТАНАИС, ТАМАТАРХА
На огромных просторах, от рек Угры и Оки на севере, до верховьев рек Дона на юге и Цны на востоке располагались владенья вятичей. И повсюду леса, леса и леса. Хвойные и смешанные, непроходимые, заваленные буреломом, дикие эти леса давали вятичам всё, что им было нужно для безбедной жизни: мясо и шкуры зверья, которого в этих лесах больше, чем людей, материал для постройки изб, не говоря уж о ягодах и грибах, которых хоть косой коси. Многочисленные реки и озёра давали столько рыбы, что ею одной можно было прокормиться. Да какой рыбы? О такой сейчас приходится только мечтать: осётр, севрюга, сёмга. Какого-нибудь окуня с чебаком, карася, и даже щуку, за рыбу-то не считали – так сорная рыба. Но без пышного каравая хлеба, без каши овсяной, гречневой или просяной, вятичи считали себя голодными, а потому постоянно расчищали, отвоёвывали у леса, участки земли для выращивания жита. А сеяли на этих полянах овес, рожь, пшеницу, гречку, просо, и ячмень с горохом. Неприхотливые, росли эти злаки в здешних местах хорошо, а потому, собрав урожай себе на еду, даже на продажу южанам, или уграм на севере, или буртасам на востоке, оставалось немало. Но больше всего южане любили пушную рухлядь, но пшеница им тоже была нужна, также как тележная мазь и сами телеги. Вот торговые операции и сближали народы. Обмен товарами развил ремесленное производство. Мало того, именно торговля породила племенные союзы и государства.
От Туманного до судоходного русла Дона надо проехать не менее стапятидесяти поприщ с тремя, а то и больше, с ночёвками в лесу, с обязательным разведением костров и варкой каши, да и уставших за день лошадей напоить, накормить надо.
Караван из пятидесяти телег с поклажей растянулся по извилистой лесной дороге чуть ли не на полпоприща. Сзади караван сопровождала сотня вооружённых всадников. Это был обычный торговый караван, который вятичи каждую весну отправляли на юг по Дону к черноморским портам Таматархе и Боспору. Товар был простой: зерно в кулях, медвежьи и лосиные шкуры, мёд, воск и тележная мазь в бочонках, телеги и колёса, льняное полотно в рулонах, резная деревянная посуда, берестяные туеса и кружки. Но самый важный товар был зашит в кожаных мешках. То была драгоценная на юге пушнина, за которую греки и арабы, да и иные народы, платили серебром в слитках или серебряной посудой, золотыми византиями, шёлковыми, шерстяными и хлопчатобумажными тканями.
Всё это добро, прибыв к реке, вятские торговцы перегрузят на большие десятисаженные (23 м.), многовёсельные лодьи. Освободившиеся повозки торговцы отправят в обратный путь домой, а сами, принеся жертву духу воды и богине всей земли Макоши в виде пригоршни пшеницы в реку, пойдут на этих лодьях по Дону до самого Танаиса, что расположился в устье реки, впадающей в Меотийское озеро (Азовское море).
Охранная сотня будет сопровождать караван лодий обязательно по правому берегу реки до прибытья на место торжища, в город и порт Танаис. Лодьи на ночь пристают к берегу на известных уже стоянках, где их дожидается охрана с костром. Хотя опасность грабежа по сравнению с далёкими прошлыми годами значительно снизилась – без охраны всё равно нельзя. Раньше, ещё сто и больше лет назад, торговцам было совсем худо: в Диком поле бесчинствовали остготы. Но после того, как пришедшие с востока гунны в изнурительной войне оттеснили племена алан далеко на юг и вышибли остготов за Дунай, самих гуннов, союзных вятичам, через несколько лет после гибели их вождя Атиллы разгромили и рассеяли сарагуры с Северного Кавказа. Дикое поле надолго осталось пустым, и даже относительно безопасным. Печенеги придут много позже. Нападения грабителей можно было ожидать только с востока. Иногда в большой излучине Дона и ниже по течению на караваны наскакивали буртасы и гузы, а ближе к Танаису промышляли грабежом шайки разбойников из аланских и булгарских кочевых племён.
Пограбить торговый караван на воде дело далеко не простое. Таких безумцев с кривыми кончаками в зубах, плывущих наперерез, расстреливали в воде из луков с лодий торговцы и гребцы, сами в кольчугах и шеломах больше походившие на воинов, да, по сути, они ими и были. Безумцы среди кочевников всё-таки находились, поэтому надо было держать ухо востро. Важно добраться до Танаиса, где уже патрулировала береговая охрана византийцев.
Сплавиться вниз по реке обычно хватало десяти дней, а то и меньше. Весной, когда полноводный Дон несёт перегруженные лодьи быстро, гребцы отдыхают, но и когда возвращаются осенью – тоже не шибко тяжко, потому как течение реки совсем слабое, а лодьи почти пустые. Весь груз – это выручка за проданный товар, соль в мешках, ткани в рулонах, масло оливковое в амфорах, подарки для женщин, да дорожная еда для себя и коней охраны. Основная работа для гребцов на море, но и там помогает парус.
Настоящие опасности подстерегают торговцев на стоянках во время ночёвки на берегу – вот тут-то значение охраны очень велико. Окольчуженным конникам при сопровождении водного каравана приходится тяжелее всех. Скинуть железо с себя нельзя, иначе свистнет стрела, и ты уже покойник. А весенняя жара, обильный пот и проклятые слепни с мухами доводят до изнурения, как всадников, так и их коней. Искупаться бы в Дону, да отстанешь от каравана. Заросший густой верболозой, камышом и осокой берег, не даёт хорошего обзора реки, а рядом подступает лес, откуда в любое время жди нападения грабителей.
Леса в те времена, бескрайние, густые, ещё не вырубленные человеком, тянулись почти до середины нижнего течения не только Дона, но и других рек поменьше, стекающих в Азовское и Черное моря. В основном, леса эти состояли из дубов с берёзовыми перелесками; из сосновых боров вперемежку с елью и лиственницей, не считая разношёрстного подлеска из рябин, березняка, дикого ореха и верболозы. Ближе к воде теснились заросли черёмухи, среди которой возвышались громады ясеневых деревьев. В данном случае лес заканчивался после большой излучины Дона, дальше южные суховеи не дают ему роста.
Обычно больше всего в походе страдают кони. Поесть сочной весенней травки они могут только рано утром, когда лодьи ещё не отошли от берега, ну, может быть, ещё ночью. Правда, вечером, на общей стоянке, коней кормят овсом, но рассёдлывать нельзя. Спит охрана по очереди, в пол-уха, выставляя конные дозоры далеко к востоку, откуда могут подобраться степные разбойники. Уж очень соблазнительно пограбить торговый караван.
Вечером, на очередной стоянке, старшина каравана, не сходя с лодьи, уткнувшейся в берег, крикнул охране:
– Эй, Родька! Ходи на тот берег! Хоша выспитесь в спокое!
Охранники загасили разгоревшийся, было костёр, сняли с себя железо, сложили на лодью, и в пропотевшей одежде поплыли с конями на правый берег. Там уже горело несколько костров, разведённых гребцами, пахло просяной кашей из больших общинных котлов и мясом дикой свиньи.
Развесив мокрые подштанники и рубаху на рогатый кол возле костра, Родий нагишом уселся на брошенное тут же седло обсохнуть после невольного купания в холодной воде. Насмешливо спросил старшину, сидевшего рядом:
– Где поросёнком-то разжились? Неужто с собой в таку-то даль везли?
Старшина, седоватый, но крепкий ещё мужчина, коротко хохотнув, ответил:
– Тхе, да оне тута, свиньи энти, толпами ходют! Окромя ромеев из Танаиса кабанов энтих никто не трогает! Для булгар и алан кабан – священная животина! Гунны, иже здесь ране обретались, тако за своево предка кабана почитали! Тако-то вот, паря!
Родий, согласно кивнув головой и посуровев, заговорил о другом:
– Ты, дядя Грива, всерьёз, похоже, мыслишь, што буртасы аль булгары на энтом берегу нас не достанут?
Старшина, указав пальцем на кожаные штаны, висящие на втором колу рядом с мокрыми подштанниками, снисходительно заметил:
– Ты, Родька, молод ишо, меня учить! Хозы свои повесь вон туды, на ракиту, подале от огня, пущай ветерком обдует, не то по утру в их и не влезешь, тако заскорузнут, што и не согнёшь их! А што касаемо воров тех, степных, тако малым числом оне на нас не пойдут, понеже нас тута три сотни! Сам помысли – энто яку рать надобно собрать, дабы нас врасплох, яко кур в ночи, застать? Я ведь, младень, уже двадцато лето к ромеям с товаром общинным хожу, всякова навидалси! На энтой стороне Дико поле давным-давно впусте стоит! По то и кабанов здеся развелось, видимо-невидимо!
Помолчав, Грива добавил:
– Ты вот што, Родий! На ту сторону боле не ходи! Завтрева к вечеру в город придем, а тамо я твою сотню на другой берег переправлю! В городу спросишь, где сыскать словена Гриву, торговца телегами, тебе любой скажет! Посля пойдёте вы степью через булгар до самой Фанагории и Таматархи, а мы на вёслах, да где под парусом, вдоль берега тоже туды придём, тамо и встретимси! Давай поспите подоле! До восхода Ярила спите! Опаски противу грабителев не имей!
Неожиданно Грива обратился к Родию по-гречески:
– Знай, Родион, спать положено ровно треть суток, так говорят ромейские мудрецы. Мозг человека во сне исправляет всякие неполадки в организме, болезнь зарождающуюся, выгоняет шлаки и яды. Кто мало спит, того вскоре одолевают всякие недомогания и болезни, и он уже непригоден для дальнейшей жизни. Так что надо хорошо выспаться, коли есть возможность.
Перейдя на славянский, Грива с усмешкой заметил:
– Внял, сынок? Не забыл ещё ромейский язык-от? Гляди, теперя, он тебе надобен будет кажный день! А булгары и горцы по-тюркски говорят! Ну, энтот язык ты ведаешь! Всё, спать!
Утром, старшина торгового каравана вятичей Грива напутствовал отбывающую в Танаис сотню, назидательными словами:
– Вот, Родька, – Грива подал сотнику белый шёлковый треугольник, на котором красными нитками было вышито несколько знаков и крест, – энтот лоскут покажешь византийскому патрулю, егда прискачешь к Танаису! Скажешь, што мы идём следом по воде! Хоша мы ране тебя придём в город! Пошлину я уплачу ихнему коммерциарию сам! Вона с десяток кабаньих туш, подсоленных, на энтот случай имею! Ромеи зело рады будут свежатинке! Да гляди, младень! – Грива нахмурил седеющие брови, глаза его посуровели. – Своих богов в уме токмо держи, а не то вам там мигом укорот сотворят! В чужих землях держи себя строго, яко гость, не лезь, куды тебя не зовут! Чужих богов уважай, тады и тебя уважат, но держи себя достойно! Помни, што ты есмь представитель могущественнова народа вятичей! В энтом случае ты можешь врать всяко, мол, и земель у нас немеряно, оком не окинешь, и зверья пушнова не счесть, и жита, хоша заглонись им! Люди про чужое богатство слушать любят, рот-от разинув от удивленья! Тута чем больше наврёшь, тем больше веры!
Старшина хохотнул, и, погладив, сидящего уже в седле Родия, по колену, продолжил:
– Народы тамо разные, особливо в Таматархе: и греки, и булгары, и тюрки, армяне, грузины, албанцы, и горцы всяки. Нахваливать будут свою родину, а ты слушай, языком пощёлкивай, главой покачивай, мол, о, яко здорово! Иной наврёт с три короба, а ты делай вид, што веришь. У нево может и земель-то, што под ногами, богатства-то с гулькин нос, с херову душу, а наплетёт чёрт-те што, глядишь весу-то себе и прибавит! А тебе-то начхать – пусть врёт, мели Емеля – твоя неделя! Зато он и тебя уважит в чём-либо, надо ж ему пыль-то в очи напустить чужеземцу, особливо егда тот слушает со вниманьем!
Помолчав, Грива ещё раз одобрительно окинул цепким взглядом конников, прощально добавил:
– Ну, да ладно! Одеты вы справно, ремни новы! Кольчужки, шеломы на вас добры! У их таковых-то нету, не умеют ихние мастера таки кольчужки делать! Токмо гляди, Родька! Буркалами-то не моргай! Оружьем зря не бряцать! Помни, за рукоять меча схватилси – энто уже угроза! Вас тамо живо сомнут! Но и рот-от не разевай – прохиндеев всяких везде хватает! Всё! Давай правь вдоль берега! Перун с тобой!
*****
Танаис, куда к вечеру прибыл конный отряд Родия, поразил молодых вятичей, никогда не бывавших в чужих землях, своим разношёрстным населением. Кроме греков, основателей этого поселения, в городище обитало немалое число и других народов. И, пожалуй, больше, чем греков здесь было булгар и алан, но встречались и выходцы из Закавказья. Весной, как обычно, люди съезжались сюда, да и в другие города и порты Византии, на торги. Здесь, в Танаисе, в людском многоголосом шуме и днём, и ночью всюду преобладала тюркская речь. А ещё много воды, много всяких лодок, каких-то баркасов, лодий и лёгких морских галер. Сотни, а может тысячи их сгрудились на берегах Дона и по морскому побережью. И везде многолюдье, и как тут отыскать нужных тебе людей.
Хорошо человеку, владеющему языками: он чувствует себя среди иноземцев как рыба в воде. Родий обратился к торговцу кожами с вопросом, где сыскать словена Гриву, продавца телег, и тот охотно указал, в каком направлении ехать. Пробираясь со своими конниками через всё это базарное многолюдье, Родий удивлялся такому мирному сосуществованию разных народов, которые в других условиях обычно чаще враждуют меж собой. Здесь же люди, нахваливая свой товар, получали обоюдную выгоду, были довольны, дружески шлёпали друг друга по плечам и договаривались о поставках тех или иных товаров на будущее. Не зря же говорится, что уговор дороже денег: хлопнув по ладоням, стороны свои обещания неукоснительно исполняли. Не выполнить слова уговора у всех народов считалось огромным бесчестьем. Такому плевали вслед, с таким никто больше не заключал торговых сделок, он разорялся, на нём незримо лежала печать презрения.
Родий нашёл стоянку вятичей по телегам, уже выгруженным с лодий. Этих телег было более семи десятков, с уже надетыми на оси колёсами, смазанных тележной мазью и готовых к продаже. Каждая лодья вятичей вмещала, кроме груза пшеницы, льняных тканей, мёда, воска и тележной мази, по шесть-семь телег без колёс, сложенных и увязанных в два пакета. Колёса к ним укладывались отдельно. А ещё были мешки с подковами и гвоздями к ним, берестяная и деревянная посуда, да много всякого, чего не было на рынках византийских городов. Весь этот груз вполне помещался в лодье, ширина которой достигала трёх метров, а в длину она была до двадцати метров.
Обычно телеги и тележную мазь, по договору со степняками и главой города, Грива продавал в Танаисе. Почти наполовину облегчённые лодьи шли потом по мелководью Меотийского (Азовского) озера до Таматархи (Тамань). Рынки Боспора, были тут же, рядом, через довольно узкий пролив, который, кстати, во время отлива, можно было перейти по грудь в воде. Здесь цены на вятскую пшеницу, мёд, воск и льняные ткани были значительно выше. А ещё хорошо продавалась всякая мелочь в виде тех же подков и гвоздей, ременной упряжи и верёвок. Ну и, конечно, нарасхват шли берестяные кружки и туеса, богато украшенные затейливым орнаментом, не говоря уж о резной деревянной посуде и ложках.
Чего Грива не возил в Таматарху, так это глиняную посуду, по одной простой причине: здесь издревле работали свои искусные мастера гончарного производства и славянские горшки с чашками не пользовались спросом, а весили всё-таки много при перевозке.
Основной же товар – пушнину, Грива сбывал только богатому покупателю и уже за большие деньги. Запрашивал не менее фунта серебра за две шкурки бобра или два десятка шкурок выхухоля. А уж за шкурку соболя, куницы, норки, Грива требовал два золотых византия. Для сравнения, в те времена, а именно в начале 6 – го века, за один византий можно было купить стадо коров или табун рабочих лошадей в сорок голов. Медвежью шкуру Грива обменивал на штуку шёлка в двадцать саженей (45 м.), или на серебряный с золотым тиснением кувшин, блюдо или кубок. Иногда он соблазнялся на диковинный по тем временам стеклянный кубок, но чаще брезговал такой посудой из-за её хрупкости и недолговечности.
Одним словом объём торговли у Гривы был гигантским, а потому он и держал при себе такую мощную охрану. Хотя, надо сказать, за двадцать лет его торговой деятельности никто не посмел покуситься на вятское добро. Все в здешних местах знали, что обиды славяне не простят никогда. Знали, и твёрдо верили, что придёт из полуночных земель орда варваров и ничто, и никто тогда не уцелеет, ни в Танаисе, ни в Таматархе, ни в Боспоре. Камня на камне не оставят. Будучи язычниками, добрые от природы славяне, в городах христианской Византии, мстили за обиду, нанесённую их торговцам, может быть даже и нанесённую-то случайно довольно жестоко. Так иногда тоже бывает. Да и вообще, рынок – это табу. За грабёж на базаре вырежут весь род грабителя. Где-нибудь по дороге к рынку этот грабёж и может случиться, что бывает нередко, но то уж забота самого торговца охранить свой товар. Во всяком случае, византийские велиты, хартулярии и коммерциарии давно уж для себя усвоили, что славяне люди щедрые, платят хорошую пошлину и всегда готовы дать бакшиш от всего сердца, от широты своей души, и ведь что интересно – давали ….
Богатые торговые гости, прибывающие по весне на рынки византийских городов со всех сторон, надо заметить, были не только представителями своих народов, но и, как правило, являлись, по сути, послами своих земель. И уж конечно главы администраций, протевоны и местные архонты, по богатству и обилию товаров, по цене подарков, подносимых им, определяли вес и значимость племени, от лица которых разворачивал торговлю этот купец. Такого торговца приглашали к протевону, искали дружбы, просили рассказать о своём народе, завязывали с ним торгово-экономические отношения….
Старшина вятских торговцев Грива пользовался у протевонов городов наибольшим почётом. Ему и торговую пошлину-то снижали до минимума, лишь бы привозил побольше товаров, особенно стратегических, таких как дёготь, тележная мазь, да и сами телеги. Высоко ценились на византийских рынках легкие телеги из берёзы, но не менее высоко, из-за их неимоверной прочности, ценились и телеги из дуба, для тяжёлых грузов в виде камня и железа. Любая телега, сработанная искусными славянскими мастерами, даже при самой интенсивной эксплуатации, служила не менее двадцати, а то и тридцати лет. Этим тележным изделиям, резной посуде, не было равных на рынках Таматархи и Боспора. Да можно сказать и вообще на всём побережье Понта.
Грива, налаженные за двадцать лет торговли дружественные связи с протевонами, предводителями булгарских и аланских орд, использовал умело и давно уж сделался опытным дипломатом. Здесь, на юге, имя Гривы стало нарицательным. Стоило только сказаться, что ты от него, как перед тобой распахивались любые двери и объятья. Сам старшина об этом знал, а потому жестко инструктировал своих помощников, как себя вести в тех или иных условиях, что сказать и где промолчать. Лучшего представителя вятичей в этих краях трудно было себе представить – вот когда о человеке можно было сказать, что он незаменим.
Когда Родий со своей сотней нашёл торговое становище Гривы в Танаисе, тот накормил людей и велел отсыпаться. Сам же, в своей палатке имел с Родием следующий разговор:
– Отвори свои уши, Родька, да запоминай! – Грива слегка приоткрыл вход в палатку и понизил голос. – Завтрева пойдёте через степь на Таматарху! На энтот путь у тебя уйдёт трое, а то и пять суток! Торопко скакать ни к чему!
Красноватые вечерние лучи заходящего солнца мягко ощупали озабоченное лицо вятского старшины. Он вложил в руку Родия тяжёлый кожаный мешочек, в котором звякнул металл.
– Што энто, дядя Грива?
– Энто деньга, сынок! – Грива жёстко глянул в глаза Родию. – Ромейски деньги! Я ж телеги с мазью уже продал! Не все конечно, кое-што и для Боспора оставил! А ты, упреждаю тебя, энтими деньгами перед ордынцами не тряси! Человек он от природы завистлив, а нечиста сила токмо и ждёт случая сподвигнуть ево на бесчестно деянье! Блеск золота ослепляет даже сильного духом человека, лишает его разума! Тако што спрячь кошель куды подале!
Родий распустил сыромятную завязку мешочка, там таинственно сверкнули золотые византии вперемежку с серебряными милиариссиями, но были среди них и тусклые медные фолла.
– На один милиариссий, Родька, – продолжал наставления Грива, – ордынцы пригонят тебе полсотни баранов! Да возьмёшь вон мешок пшена, да овса коням! Хоша весна и степь ещё не выгорела, тако лошадки пущай травку едят. А с другой стороны кони у вас строевые, им без овса неможно. Телегу одну возьмёшь, сложите на неё лишнюю амуницию, жратву, да мёд для протирки спин коням.
Вот тебе ещё мешок рухляди, но гляди, сынок, меха пользовать токмо в случае крайней нужды…. В Таматарху мы придём раньше тебя, а ты егда придёшь, спросишь Гриву – тебе любой укажет, где меня найти! А покуда выспись – потом не до того будет!
Родий согласно кивнул головой, и задал вопрос совсем не тот, что хотел:
– А ты пошто, дядя Грива, бороду свою подрезаешь? Даждьбога ведь обидишь! Волосья на главе словена принадлежат богам!
Грива усмехнулся, но ответил:
– Даждьбог не обидится, Родька, понеже я в ево честь добываю золотые византии, иже они отражают божественный свет ево лика! А потом в здешних местах все тако-то бороды укорачивают, аль не примечал? Понеже жарко, да и с короткой бородой мне красно, кажется! Ладно, спи, давай! Утре я выйду на берег морской, подброшу ввысь горсть муки Стрибогу, повелителю ветров! Он подарит нам попутный ветер, и понеже окажусь я ране тебя в Таматархе!
Нет для человека меча более опасного, чем его
жадность, и нет для него щита более надёжного,
чем его бескорыстие.
Народная мудрость.
Глава 1. ТАМАТАРХА – БОСПОР
В мужчине всегда присутствуют две силы. Ему не приходится их будить, расталкивать, тормошить – они сами заявляют о себе. Одна сила – это жажда постоянной деятельности, а другая – это тяга к размышлению. Мужчина утром очнулся от сна – прикидывает в уме, что ему нужно сделать в этот день, и уж только потом начинает свою кипучую, или не очень, деятельность.
Присел или прилёг отдохнуть – размышляет, философствует, а зачем ему вся эта канитель? Глядишь и приходит к выводу: надо делать, – если не для себя лично, так для детей, семьи, или для людей, так уж обстоятельства сложились.
В женщине тоже сидят две силы: та же жажда деятельности, но чаще всего не для себя, а для мужа и детей, иногда, в силу тех же обстоятельств, для общества. Встав с постели, она без каких-либо размышлений себя обиходит, наведёт какую-никакую красоту на личико, и начинает хлопотать по хозяйству. В своём доме она полновластная хозяйка. И такой порядок сложился ещё с каменного века у всех народов.
Мужчина сначала мудро, хозяйственно осмотрится и уж только потом приступает к делу. Женщина же всё начинает делать бездумно, сразу, автоматически, по раз и навсегда заведённому порядку. Так её приучили с детства матери и бабки.
Зато вторая сила у женщины – это не философствование, не размышление, а созерцательность. Она смотрит на мир широко открытыми глазами, любуется им, чего-то ждёт от этого мира, обязательно хорошего. В ней всегда тлеет надежда на это хорошее. В женщине подспудно таится, живёт любовь, о которой она поёт, иной раз целыми днями. Это уж зависит от её внутренней энергии, от темперамента.
И вот, вдруг, это, тлеющее где-то внутри чувство, прорывается и расцветает прекрасным цветком, вспыхивает ярчайшим пламенем, обжигает и её, и того, или тех, кого это пламя коснётся. Если этот огонь горячий, то обожжёт любого, а если это пламя только видимость, то причинит женщине боль, но не затронет другого…. Так бывает, часто бывает….
Женщина без огня любви – цветок, так и не успевший распуститься, незажжённый костёр. Её, тусклую, печальную, озабоченную бытом, или крикливую, часто без причины плачущую, сразу видно. Ей обязательно надо кого-то любить, такова её природа. Без любви она пустое место, так – рабсила, у которой всё из рук валится, да и песни-то она поёт тоскливые, заунывные, больше похожие на стенания…. И всё-таки в ней тлеет какая-то искра надежды….
В поступках мужчины почти всегда просматривается расчёт, подкреплённый определённой степенью меркантильности. У женщины же в основе поведения и характера лежит порыв, эмоции. Обычно гормональный взрыв мужчина, особенно парень, принимает за любовное чувство, что его вполне и устраивает. В душе же девушки всегда присутствует эмоциональный фон и на гормональную вспышку в ней обязательно наслаивается романтическая мечтательность….
Там, далеко, в начале У1 века, на настроение девушки, кроме подруг, никто из мужского населения внимания не обращал. Лишь бы парню приглянулась. Да и то, чаще всего, отец семейства на пристрастия сына поплёвывал и женил его на какой-либо девушке по своему усмотрению. Её чувствами не интересовались. Хочешь, не хочешь – выдавали замуж, а там стерпится – слюбится.
В четырнадцать лет мальчишка становился воином или самостоятельным пахарем, мог в одиночку срубить себе избу, а в пятнадцать лет обязан был жениться. В таком возрасте кроме насторожённости и любопытства к противоположному полу могло ли быть всепоглощающее чувство любви? А проснувшаяся любовь у молодой жены взвивалась куда-то ввысь и падала, если не на мужа, так уж на детей – так она становилась взрослой.
Прелюбодеяния жёстко пресекались волхвами и замысловатыми обычаями. Мужу полюбить чужую жену – табу, нельзя, зато он имел все права, а волхвами даже поощрялось, ввести в свой дом вторую жену, погибшего друга, а кроме неё ещё и молодую вдову с ребёнком. А вот жене и полюбить чужого мужа нельзя, и уйти от своего мужа к другому тоже нельзя, можно только тайно вздыхать, да песни жалостливые петь….
Надел пахотной земли многожёнцу община увеличивала, но при условии, что мужчина мог справиться с такой прорвой тяжёлой работы, так что много жён, большую семью и сам не захочешь иметь. Всё в древнем языческом обществе было направлено на увеличение населения, потому что убыль его, по естественным причинам, была очень велика. Часто мальчишка, только что, женившись, погибал в очередной сече, и заботу о молодой вдове с ребёнком этого дружинника брало на себя общество, пока её не брал кто-нибудь замуж. Покалеченному, полагался раб из захваченных в плен врагов, который и обрабатывал надел этого израненного дружинника, пока не подрастёт наследник у калеки. Потом раба отпускали домой, если он хотел, а мог и остаться. Тогда он становился полноправным членом общины. Так было вплоть до конца тысячелетия. Христианство положило конец славянскому, вынужденному многожёнству, у восточных же народов, соседей славян, ислам наоборот закрепил его законодательно.
Хотя семейные обычаи в славянском обществе соблюдались строго и неукоснительно, а всё ж и в нём бывали сбои.
Воевода вятичей Светозар, постоянно занятый в походах особенно в последние годы, не успел вовремя женить сына Родия. Тот же, смолоду пребывая в седле с оружием в руках, участвуя вместе с отцом в битвах, незаметно перешагнул жениховский порог. Светозар заматеревшего сына насильно поженить уже как-то не решился, а тот рвения к семейной жизни не проявлял, сбрасывая иногда гормональную энергию на вдовушек, которых кругом было в изобилии. Тем же было уже всё равно, кто их иной раз осчастливит из дружинников, лишь бы пригнал на двор с пяток баранов или подарил шёлковый отрез на сарафан.
А с Ледой получилось ещё проще. Люди раньше не раз видели Леду с Родием вместе, когда те бегали на учёбу к греку Феофану. И даже после, когда они уже подросли и Родий частенько надолго уезжал из Туманного, людская молва поженила их. Неважно, что никакой женитьбы на самом деле не было, считалось, что Леда принадлежит Родию и всё тут. Естественно Леду никто не беспокоил, и оказалась девушка в каком-то подвешенном состоянии: ни сестра, ни невеста, ни жена и не вдова….
без причины ечальную, озабоченную бытом, или крикливую, часто плачущую но не затронет другого…ком, вспыхивает я
*****
У Родия, проснувшегося утром в своей палатке, первой мыслью было одно – осмотреть эту Таматарху, и, расположившийся за узким проливом, Боспор. Об этих византийских городах он был немало наслышан ещё с детства. Теперь, прибыв сюда, к своему торговому каравану, его разбирало любопытство. А прискакала его сотня только вчера вечером, разбили уртон возле гостевого колодца, наскоро поужинали, да улеглись спать, не обращая внимания на шумливый город, который располагался ниже их стоянки, ближе к проливу.
Родий ткнул в бок спящего ещё рядом Буку. Тот, не открывая глаз, промычал:
– Чево, Родь?
– Подымайся! Коней надо напоить, да самим хоша перекусить!
– Куды едем-то спозарань?
– Оглядеться надо в городу, да дяде Гриве доложиться, што прибыли!
Бука привстал с конской попоны, потянулся, отогнул край полога, закрывающего вход в палатку, выглянул наружу и заворчал:
– В уме ли ты, Родя? Мать-Заря ещё ланиты не красила, волос медных не чесала, а ты уже меня растышкал! Ведал бы ты, яки мне сны Кикимора приятны навеяла, тако не посмел бы меня в бок толкать!
– Ну и што тебе за сны Кикимора в башку твою нечёсану вдолбила?
– А вота приснилось мне, – мечтательно заговорил Бука, – быдто шагаю я по широкому лугу, иже весь в ромашках белых. Впереди речка ракитами обросоша, из ракит тех соловьи заливаютси, дивно щёлкают, а на руках у меня лежит дева красы неописуемой, за шею меня обнимат…. Гляжу, а из дубравы, што сбоку, ворон вылетел, чёрный, яко головёшка, большой, яко поросёнок-трёхлеток, да прям на меня летит, буркалами красными злобными меня сверлит. Похотел тот ворон клювом медным меня ударить, а когтями кривыми деву ту уцепить. Я деву десницей придерживаю, а шуйцей яко ворона того вдарю по башке! Он, было, закаркал, да, вдруг, заржал, яко жеребец стоялый, иже кобылу узрев. Посля рассыпалси углями чёрными, а угли энти хором возопили хулу мне зело пакостну…. Тако я и не познал, што дале-то должно быти…. К чему бы всё энто?
Родий усмехнулся, посерьёзнев, заметил:
– Познаешь ещё, Бука, посля! Заватрева може! Много спать тоже плохо воину! Вон Спок на ногах уже!
– Тако энто ево очередь уртон сторожить! По то и не спит!
Стоянка сотни Родия находилась на возвышенности, возле колодца с журавлём и длинным дубовым корытом, из которого поили коней, верблюдов и овец, прибывающие на торг кочевники. Пока Бука доставал из колодца воду большой деревянной бадьёй и наливал её в колоду, Родий с любопытством разглядывал открывшуюся ему панораму утренней степи, моря и города. Неподалеку с аппетитом щипал, не успевшую ещё выгореть на южном солнце густую траву, конский косяк сотни. Вниз от стоянки вятичей до самого пролива располагались дома, домики и кудрявые сады Таматархи. А сразу за проливом, который по ширине равнялся небольшой речке, виднелись дома и курчавились сады Боспора. Они, эти дома и сады, уступами поднимались вверх, где в утренней дымке просматривалась Митридатова гора.
Внизу, у пролива, сгрудился большой табун разных по размеру лодок, лодий и небольших галер. И за проливом, где уже во всю ширь синел Понт, уткнулись в берег лодки, а чуть дальше, на рейде, стояли на якорях большие морские галеры. Рядом возвышался многовёсельный военный дромон. Это на них будут грузить меотийскую соль в кулях и рабов, привезённых из Танаиса.
Молодые и крепкие рабы пойдут гребцами на дромоны, военно-морские огненосные суда византийцев. Тех, что постарше, да похуже продадут торговому флоту. Женщин и девочек купят богатые греки для работ в садах и по дому в качестве служанок и наложниц. Хотя недавний эдикт императрицы Феодоры запрещал куплю-продажу женщин и девочек, мало кто из торговцев соблюдал этот запрет. «Кодекс Юстиниана» предусматривал суровое наказание – вплоть до ослепления и конфискации имущества. Мальчиков же покупали для военных школ.
Из этих мальчиков, после многолетнего обучения, формировались военные легионы. Самая лучшая в мире византийская армия более чем наполовину состояла из бывших малолетних рабов, давно забывших уже свою родину, язык и обычаи. Вскормленные, обученные военному делу ветеранами и уже вольные, эти закалённые велиты легионов были беспощадны к врагам Византии. В основном это были дети восточных и горских племён. Но попадались среди захваченных в плен детей, хоть и редко, белокурые славянские дети, которых продавали грекам росы. Из них, воспитанных в христианской вере, византийские менторы формировали экскувиторов, личную гвардию императора. Это была военная, хорошо оплачиваемая элита, самые стойкие в бою, хладнокровные убийцы любых врагов, посягнувших на престол империи, глухих к заговорам и подковёрной борьбе придворных комитов.
Вятичи с незапамятных времён относились к коню трепетно и заботились о нём так же, как о собственном ребёнке. Впрочем, такое отношение к личным лошадям и детям было у всех народов. Уважающий себя воин, да и пахарь, делал всё, чтобы его конь был вовремя накормлен, напоен, вымыт и вычищен, копыта обработаны и подкованы, грива и хвост расчесаны. Сам с голоду помирай, но коня и ребёнка накорми – таков древний обычай. Вообще мужчиной того времени конь, и ребёнок, как ни странно, ценились гораздо выше любимой жены, и женщины его понимали.
Всё утро провозились со своими конями Родий и Бука. Настоящие витязи, они не хотели, чтобы иноземные плебеи в городе указывали на них пальцами и издевательски похохатывали. Коней они помыли и причесали, накормили овсом и напоили, бронзовые нашлёпки, и пряжки на конской амуниции вычистили до блеска. Сами почистились, надели белые рубахи до колен, а на головы войлочные подшлёмники, чтоб солнышко не напекло. А тут и оно божественное взошло. Парни упали на колени, до самой земли поклонились Ярилу – то считалось у вятичей, что свой сияющий щит милостиво показал Даждьбог, выехавший на своей повозке с белой четвёркой коней по небесному своду на целый день.
Обычно горожане свои рубахи и туники подпоясывали цветными кушаками или простыми верёвками. Только христиане обтягивали свои чресла чёрными поясами, в знак своей принадлежности к вере Христа. Администраторы, члены городского совета, коммерциарии и протонотарии свои белые трабеи не подпоясывали совсем, показывая городскому плебсу, что облечены властью, что являются лицами более высокими, чем остальные.
Наши парни опоясались широкими, в ладонь, ремнями, с которых свешивались прямые, в два шибра длиной, кинжалы, более похожие на византийские пехотные мечи, акинаки. Такой толстый широкий ремень, покрытый лаком, надевался в знак того, что человек принадлежит к благородной касте ратника, воина. Человек невоенный права носить такой пояс не имел – это табу, могли и убить за оскорбление профессии.
По сути, кушак, ремень или верёвка – это древний документ, паспорт, указывающий на принадлежность человека к той или иной социальной группе.
Без подпояски могли быть только люди высокого ранга, нищие и лица духовного звания.
Сотня уже поднялась, и уртон вятичей копошился, словно небольшой муравейник. Люди занимались привычными утренними делами. Родий, садясь в седло, наставлял Скопа:
– Остаёшься за меня, Скоп! Вот тебе серебряная деньга, – Родий протянул Скопу блеснувшую чешуйку, – греки называют её милиариссий! Купишь вон у булгар полсотни баранов, да мешок соли! Освежуете с десяток, а остатние пущай пасутся вместе с нашими конями, прозапас будут! Отправишь десять ратников во – он туда! – Родий показал рукой вниз. – Гляди подле пролива стоят наши лодьи! Отдыхайте, варите кашу с бараниной! Я вернусь к вечеру!
Распорядившись, таким образом, Родий, в сопровождении Буки, стал спускаться вниз, к проливу, где уже вовсю шумело разноголосое торжище. Спускаясь по кривым улочкам Таматархи, вятичи несколько подрастерялись, не ожидая такого скопления народа, телег и лодок, уткнувшихся в песчаный берег. Огромное торжище растянулось вдоль морского побережья и пролива на добрый десяток поприщ. Весь этот шумливый, копошащийся базарный уртон со стороны больше походил на гигантского дракона припавшего к воде и жаждущего прохлады. Утреннее солнце и впрямь уже припекало изрядно.
Разноязыкий говор продавцов и покупателей окружил вятичей, навязчиво лез в уши, временами оглушал и подавлял своей необычностью. На каких только языках не переговаривались меж собой сгрудившиеся здесь люди, но всё-таки везде преобладал язык великого Гомера. В те времена греческая речь была языком международного общения.
Пожалуй, человеку, впервые попавшему в это базарное скопище, трудно найти нужную ему вещь. Но оказывается всё довольно просто: надо только назвать предмет торговли и тебе тут же огласят имя торговца, укажут направление.
Чем здесь только не торговали. Здесь можно было найти всё: от кожаных подмёток к постолам до вместительных лодок и морских, многовёсельных галер. Продавцы скота оставляли свои стада и гурты овец там, в степи, на подножном корме. Здесь же, на торге, нужно было только найти покупателя, сопроводить его к стаду и получить договорную плату. А там хоть трава не расти, делай с этим стадом, чего хочешь: хоть гони его сразу на ближайшую скотобойню и соли мясо в бочки, хоть гони его к себе домой или вези на галерах за море, если есть в этом нужда.
Сверху Родий определился, как проехать к своим лодьям, а вот попав в водоворот базарной толпы, в это скопище разнообразных товаров и людей, телег, арб и верблюдов с ослами, он потерял направление. Но стоило только произнести имя старшины вятичей, как ему тут же указали куда двигаться, восторженно крича:
– О-о-о, Грива! Вон туда надо! – вскричал один. – О-о-о, словены! – возопил другой. – Каким молоком вас вскормили, таких могутных? Верно, вас кормили мясом вурдалаков, особенно вон того, похожего больше на глыбу в степи, а то и на здоровенную колоду для разделки бараньих туш! Как его лошадь-то держит? Почему он всё ещё не раздавил свою бедную скотину? А может вас поили кровью тех ослов, на которых ездят ваши лесные колдуны и ведьмы?
Окружившие всадников люди, поражённые громадностью Буки, покачивали от удивления головами и восхищённо цокали языками, приговаривая:
– Мне бы такого бугая в охрану! Я бы тогда с ним одним не побоялся отправиться даже в далёкий Хинд за чаем!
Пробираясь через торжище, Родий обратил внимание на то, что всюду люди расплачиваются за купленный товар деньгами. В родных краях торговля в основном меновая: привезут угры на рынок в Туманном пушнину, да и меняют её на славянские телеги и зерно. Здесь же , даже женщины покупая утром свежую рыбу на завтрак своей семье, расплачиваются за неё мелкой медной деньгой. Об этой особенности местного рынка Родий и поведал Гриве, когда добрался, наконец, до своих лодий. Старшина снисходительно улыбнулся, но растолковал наивному парню тонкости южного рынка:
– Здеся, Родька, деньги испокон веку в ходу! Но и меновый торг случается!
Энто егда идут в ход крупные партии товара! К примеру, косяк строевых коней в сорок голов меняют на среднюю торговую галеру, или один химль (240 кг.) перца меняют на два десятка возов пшеницы! А якой-нибудь хозяйке на што менять? На свой передник штоли? Ей всево-то одново осетра надо, дабы семью утром накормить – вот и суёт рыбаку мелку медну деньгу, фолла прозываетси. Оне утречком наедятся рыбы, да и до вечера одну воду пьют, а уж егда Ярило на щите Даждьбога на отдых уходит, кашей перебиваютси. А вот кто побогаче, днём, в жару, чай, из Хинда привезённый, пьёт, а вечером, сарацинское пшено с баранинкой ест. Небось, приметил яко пузо-то толстое у здешних тиунов, протевонов и хартуляриев?
– Мы, дядя Грива, желаем Боспор оглядеть! – заявил, вдруг, Родий.
Старшина, коротко бросив взгляд на парней, согласно кивнул головой, заметив при этом:
– Дело доброе, езжайте! Сей час отлив – энто егда море отступает с пролива по веленью Стрибога. Снимайте сапоги, пролив пройдёте бродно, по грудь в воде, а на той стороне Ярило порты ваши и рубахи в одночасье осушит! Жрать захотите, тако базар вас накормит. Токмо гляди, Родька, штоб туша баранья свежак была! Чево мне тебя учить? Торговцы норовят тухлятину с рук сбыть, мол, огонь злой дух от мяса старова спалит. Пущай на твоих очах торгаш мясо отрежет, да при тебе кебаб зажарит! Перцем штоб мясо не посыпал, а вот вином пущай польёт! На вот тебе горсть пшена, кинешь в воду, егда чрез пролив пойдёшь! То будет жертва Сварогу, да Макоши….
*****
Перебравшись через пролив и отжав морскую воду из рубах, друзья обулись в сухие сапоги. Усевшись на мокрые сёдла, они не спеша, поехали между низких рыбачьих хижин по наезженной пыльной дороге в гору.
Впереди виднелась заросшая диким орешником полуразрушенная стена крепости. Дорога, по которой рыбаки возили на городские рынки свежую рыбу, а теперь двигались вятичи, шла прямиком через пролом в стене. Городские ворота, которые и воротами-то назвать нельзя по причине отсутствия тяжёлых створов, находились несколько в стороне от пролома, но так уж человек устроен, всегда ищет, где бы проехать попрямее, да покороче. Эта давно уже проторённая рыбаками и торговцами другая дорога вывела вятичей на широкую центральную улицу Боспора, которая предстала перед ними, по сути, сплошным рынком.
Двух, а где и трёхэтажные дома вдоль улицы, где семьдесят лет назад гунны пронеслись всеразрушающим смерчем, хозяйственными греками были восстановлены и побелены известью. Новые жители Боспора не стали особо-то утруждать себя, и, недостающие каменные блоки, в полуразрушенных домах, заменили кое-где саманными кирпичами. Всё равно под побелкой не видно, какая здесь кладка, а под разросшейся лозой винограда стены домов выглядели даже нарядно. Солидные торговцы коврами, шёлком, ювелирными изделиями и жили-то в этих домах. Только и надо было выставить столы с товаром, да соорудить навесы из льняной ткани от палящего солнца. Торговцы с более скромным товаром обходились и без навесов, энергично зазывая покупателей. Со стороны казалось, что все здесь торгуют чем-нибудь, а кто покупатель, непонятно.
Отпихивая с высоты сёдел ногами надоедливых мелких торговцев дратвой и подмётками, Родий с Букой проехали уже почти половину центральной улицы, когда, вдруг, их изумлённому взору предстала во всей красе христианская базилика с позолоченным крестом на небольшом куполе. Было видно, что каменные блоки, позеленевшие от времени, хорошо сохранились ещё с античных времён. Но основное тулово собора с апсидой и барабаном наверху было построено, по всей видимости, недавно из шлифованных камней, до сих пор, ещё валявшихся кое-где на пустырях.
К паперти и большому арочному входу в храм вело внушительное, в две сажени (4,3 м.) шириной, крыльцо с широкими каменными ступенями из тесанного красного гранита. С боков это крыльцо окаймляли шлифованные мраморные плиты парапета. Вся эта многоступенчатая, длиной в пять саженей (11 м.) лестница плавно вела к паперти и была рассчитана на медленное движение верующих, чтобы те, не торопясь, успели проникнуться благоговением, молитвенным созерцанием лика божьего и общением с ним внутри храма.
Вятичи остановились, но с коней не сошли и с любопытством уставились на странный по их понятиям дом. Заутреня давно уж закончилась, и никого из прихожан вокруг не было, да и торговцев тоже, а то бы язычникам, скорей всего, не поздоровилось. Обычно, уважающие чужую веру язычники деловито проходили мимо, а причисляющие себя к вере Христа, накладывали на себя крестное знаменье и кланялись в сторону собора.
На одной из ступеней сидел старик с седой гривой волос на голове и белой бородой. Сморщенное загорелое лицо его цвета спелых оливок резко контрастировало с синими глазами. Когда-то белая рубаха на старике со временем превратилась в серую от пыли и грязи. Голые ноги его, по-видимому, давно забывшие обувь, выглядели заскорузлыми и обросшими какой-то чешуёй. Эти ноги с загнутыми вниз жёлто-фиолетовыми когтями больше походили на куриные лапы, да и руки старика мало, чем отличались от его ног.
Под пристальным взглядом старца, парни, не соображая, что делают, сползли с сёдел, и, приблизившись, уселись рядом на тёплый уже камень ступени. К ещё большему удивлению друзей старик скрипучим голосом заговорил по-славянски, мало того ещё и на их родном наречии:
– Я зрю, младени, вы вятичи, да ишо и ратники!
– А яко ты угадал, дедо? – изумлённо вопросил Родий.
Старик вскинул кустистые седые брови и также скрипуче ответил:
