Отдых
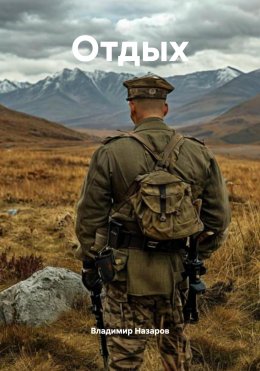
Отдых. А дальше …
Не жизни жаль с томительным дыханием,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.
Афанасий Фет
В тот вечер мы собрались в кино. И по обычному нашему небрежению к деталям попросили таксиста «куда-нибудь в центр, в кинотеатр». И попали с улицы Тургенева прямиком в Центральный парк. Пока ожидали машину, за одним из столиков уличного кафе подвыпивший мужичок тонко и хрипло выводил «надену я черную шляпу, поеду я в город Анапу».
– И зачем в горячем южном городке черная шляпа?! – сказал я. С очевидным намеком на изящный юмор. На что получил снисходительный взгляд; «с твоим интеллектом только и шутить!». Что и говорить – строгая у меня супруга. Хотя по сути я прав. Носили в Анапе в июле легкое и белое, или легкое и цветастое. И было видно, как трусики, очаровательно маленькие, врезались в полное белое гладкое женское тело.
Кстати, совсем недавно, мы вчетвером, еще была Надина племянница с дочкой, загорелой брюнеткой лет двенадцати, дышали морским воздухом в прибрежном ресторанчике. И наблюдали как в морской воде плескались две человеческих особи. Она уплывала, он догонял. Она, вся в золотистых брызгах от полуденного солнца, с крепкими ногами и широкими бедрами. Из-за рубчатого краешка узеньких плавок выглядывала обильная плоть; рыжие упругие завитки волос не помещались в плавках. Она отбивалась, звонко шлепала ладошкой по воде. А он разгоряченный, седой даже на загривке, хватал ее за бедра, за низ живота, запускал пальцы ей в промежность. Давалось это ему с большим трудом; как только руки начинали свое любимое дело, непослушное тело начинало тонуть. Впалая грудь учащенно вздымалась, сердце пробивалось свозь ребра.
– Ах, – жеманно лепетала молодая женщина, незаметно удерживая почтенного кавалера на плаву. – Ну и делайте это, мне и приятно, только трусики с меня не снимайте. А так можете касаться.
Взгляд карих глаз на широкоскулом лице был скучен и утомлен. Что и говорить – работа не из веселых.
– Тетя Надя, – сказала Оля, – пойдемте на водяные горки. Аннушка заскучала. Правда, лапа моя!
Оля обняла дочь за плечи и потерлась щекой о жесткие кудрявые волосы девочки. Позднее, когда Надя с Аннушкой шли чуть впереди нас по набережной, Оля тихо сказала:
– неужто деньги стоят так дорого.
***
Водитель-армянин много и раздраженно говорил. О Баку, о хорошей прошлой жизни. Как пришлось в Россию бежать, как с ничего семья стала подниматься, и теперь вроде бы все наладилось. В машине пахло немытым телом, разогретыми сиденьями, бензином. Время от времени водитель запускал короткие толстые пальцы в черную густую шерсть в проеме расстегнутой рубашки и ожесточенно скреб грудь судорожными почти болезненными движениями.
– Господи! – шепотом воскликнула моя рафинированная женушка, – я сейчас сдохну!
– А ты в окно смотри, – тихо сказал я, – на огни вечернего курортного города. Отвлекайся от пошлой обыденности.
Жара уже спала, солнце клонилось к темнеющему горизонту. Но от размякшего за день асфальта, сверкающих стекол витрин, стали и пластика автомобилей; от самой цветастой полуголой толпы; жующей, пьющей, курящей … – от всего этого в вечеряющем воздухе зримо стояла раскаленная прозрачно-оранжевая дымка.
Уже на подходе к основной зоне парка мы поняли, что крепко ошиблись. Полупьяное многолюдье заполнило аллеи, кафе; а на небольшой площади вокруг фонтана негде было яблоку упасть.
– Володя, – тихо сказала Надя, – кинотеатр-то открытый, а рядышком – матерь божия! – танцевальная площадка … Под моей рукой затрепетала и забилась горячая жилка на ее правом запястье. Тонкий и нежный запах духов моей спутницы смешался с горьковатым запахом жасмина и акаций. Кроны деревьев стали выше и массивней и смутно различались там, где не доставал свет внезапно вспыхнувших фонарей.
С большим трудом отыскались свободные места на скамейке в окружении можжевеловых кустов. И в этом густом остром и удушливом аромате мы перевели дух.
– Ах как душно! – раздраженно сказала Надя, и после мечтательно добавила, – и как хорошо было в море на парусной яхте. Ты еще так упорно сопротивлялся, говорил, что дорого и будет скучно, а было прелестно, правда?!
Попробуй не согласиться, подумал я, но безопаснее об огорчительном не упоминать. Впрочем, отнесемся с юмором, будет что вспомнить.
Грустный худой матрос с мальчишеской русой челкой сидел на носу маленькой яхты, обхватив колени руками. Капитан, толстый, до черна обгоревший, пил из горлышка местный дрянной коньяк, складки его живота обвисали на красные плавки. Ветер посвистывал в снастях, парус ритмично хлопал. В отдалении над зеленоватой прозрачной водой, изгибаясь дугой и от солнца влажно-стальные, играли дельфины. Стояла живая тишина: в небе три белоснежных пушистых облачка обрамили ослепительно яркое солнце.
– Давайте искупаемся в чистой воде, – сказала Надя, – это так здорово, вдали от берегового дерьма.
И черт меня дернул согласится! Ну, да ладно. У этого корыта, вместо туристической лестницы оказался морской трап, с узкими перекладинами, плавно огибающий крутые бока посудины. Когда я спускался в воду, проклятые раскаленные перекладины резали и жгли мои бедные ноги – и я, дурак дураком решил спрыгнуть. Задача на понятливость; рост – метр девяносто, вес – сто, прыжок ногами вниз с двухметровой высоты. Кроме того, этот обалдуй еще и в очках. И при входе в воду я, как всякий очкарик, обеими руками ухватился за очки. Небесный свет от моей запрокинутой головы стал уходить стремительно … и мне мучительно захотелось сделать вдох. Вокруг прохладное и тягучее, а подо мной море гостеприимно расступалось, приглашая без промедления на вечное упокоение. Потом я опомнился и судорожно размахивая руками выбрался на поверхность.
А как же страховочная веревка, она и была, только ветхая и старая, и видать не рассчитанная на мой вес и прыжок в воду, и оборвалась сразу. Алкаш-капитан виновато отвел глаза, а я не стал нагнетать, жив и ладно, чего Надю нервировать.
Надя нежно поцеловала меня в щеку.
– После морской прогулки ты милый выглядел посвежевшим и отдохнувшим. Шли бы вы отсюда подобру-поздорову!
Именно так моя любезная женушка отреагировала на попытку вторжения в нашу зону отдыха. Надя стояла, вытянувшись в струнку и троица агрессоров, невнятно огрызаясь, отступила. В шортах, бирюзовых майках, на лысо бритые, в крестах и серьгах. И только по обиженным визгливым голосам я догадался, что это барышни.
И на фоне сбежавшего унисекса как удивительно хороша была Надя; за ее спиной освещенный разноцветный фонтан, черное красивое платье, перехваченное в талии золотистым поясом, необыкновенно изязящно окутывало ее худенькую фигурку. Хотя все познается в сравнении; мою благоверную назвать красавицей можно только с большой натяжкой; хотя для меня конечно да, я уже давно научился смотреть вглубь человека, минуя внешность.
Бывает со мной иногда нечто странное, когда вдруг ломается настроение и в груди, возле сердца, разрастается тоска. А внешне ничего не изменилось. Все также фланировала праздничная разряженная толпа, звучали громкие мелодии, пахло жасмином и вечным анапским запахом – подгнивающими водорослями.
– Володя, кури пожалуйста поменьше! – сказала Надя. – Ну сколько можно!? Или выдыхай в другую сторону. И сам травишься и мне спасу нет.
– Так воздух стоит, – сказал я. – Тут уж дыши не дыши.
Необходимо понять причину мучительной нервной дрожи. И нарастающей головной боли. Потому что это предчувствие. Кто-то развернулся и поднял оружие, и жить мне осталось доли секунды, но я не на войне, я в маленьком курортном городке, но беда рядом.
***
Я всегда был книгочеем. И в те ранние почти болезненные годы, когда меня многогрешного мотало от одной крайности к другой, только книги, пожалуй, и были единственными островками душевной стабильности и другой, пусть иллюзорной, лучшей реальности.
Районная библиотека, куда я был записан лет с восьми, располагалась на первом этаже деревянного двухэтажного здания по улице Кирова. И это было очень удобно: и школа, где я учился, и дом, где я жил – все в семи-восьми минутах ходьбы до библиотеки. После окончания школьных занятий я скидывал учебники, подхватывал книги и вскорости уже рылся в книжных стеллажах. Разумеется, поначалу сказки, затем фантастика и приключения, потом Вальтер Скотт. После пятнадцати лет я влюбился в Наташу Ростову. И с этого времени Толстой, Достоевский, Франс, Роллан, Хемингуэй, Фолкнер – и многие другие – но эти навсегда! стали излюбленными моими собеседниками. Страшно подумать, но если бы я с ними не встретился, то не было бы той лучшей настоящей жизни, глубоко сокровенной красивой и яркой. И эта потаенная жизнь имела для меня огромную ценность. Именно она была главной и основной – а реальность? – да так! погулять вышла.
Я выходил из дома, со Слесарной улицы поворачивал на улицу Ершова. Слева, за чахлым школьным садиком, просторные «венецьянские» окна моей школы. Пересекал улицу Ленина с ее знаменитой булыжной мостовой – и справа кинотеатр «Художественный», одноэтажный из темного дерева, с покатой крышей из ржавой жести. Господи! как я любил его. Особенно зимой в морозы. Или летом, когда идет безгрозовой дождь. Зимами, во время сеансов, обязательно протапливали две огромные печи, обитые железом. Они стояли по обеим сторонам задних рядов. И вот бегом из фойе – и в кресло рядом с печью. В зале шум, гам, смех – третий звонок, медленно гаснет свет. Нелюбимый скучный журнал «Новости дня». Бог с ним! Рядом у правого плеча, в глубине за сталью и кирпичами, сопит, похрустывает, постреливает, даже и сладко постанывает живой уютный огонь. Тепло входит в меня, и я счастлив на полтора часа.
А летом я любил августовские дожди. В них не было утомительной влажной жаркости, а в ленивом прохладном падении капель уже ощущалась близкая осень. Дождь долго-долго, ровно-ровно постукивал по крыше, и я сидел в сладком оцепенении; впереди прямоугольный светящийся экран, мерцающий луч над головой, усыпляющее постукивание сверху. Дежурные распахивали двери и мокрые слабые фонари в темноте расплывались радужными неясными очертаниями. Я выходил из зала и позади оставались Красная Москва, Шипр, Душистая сирень, чеснок, сало, пот – и перехватывало дыхание от прохладной и нежной свежести. Вода, стекая по сливным трубам с крыши, булькала, вздыхала, всхлипывала и, наконец, с шумом выплескивалась в темные лужи.
Каждое деревцо, каждый кустарник под дождем звучали и пахли по-особенному. У березки звук четкий и резкий, она словно ракетками отбивала листочками дождевые капли и запах был ясный и твердый. В кустарниках звуки дробились, дрожали натянутыми струнами и запахи травы, воды, земли, сгнившего среди выгнутых веток.
Но я всегда прикуривал папиросу у осинки, стоявшей в отдалении от остальных деревьев. Она под дождем поникшая, с опущенными плечами, листочки ее шепотом принимали дождевые капли. И пахла она … ну с чем можно сравнить этот слабый горьковатый запах? Наверное, с юной застенчивой женщиной, когда она в открытом летнем платье нечаянно вскидывала руки, поправляя волосы.
Есть такие улицы, казалось бы, ничем не примечательные, даже совсем убогие, но играющие в жизни роль особую, определяющую. Для меня это улица Горького. Я до сих пор помню ее запах: гнилостный, как от перебродившей мертвечины. Из серых облупленных стен местного пивзавода прямо в речку входила широкая ржавая труба, из которой мутным нескончаемым потоком лилась дурно пахнущая жижа.
По обеим берегам речки, заросшей водяным тополем, стояли несколько десятков одно и двухэтажных зданий. Они все казались мне одинаковыми; были перекошены в разные стороны, кривые распахнутые ворота, почему-то вечно не распиленные темные бревна, на бревнах угрюмые небритые мужики в фуфайках, мужики сидели просто так, не разговаривая. Дымился «Север», у ног стояли распочатые бутылки «Хрущевки». А чуть дальше переполненные помойки и несчастные костлявые собаки.
Однажды ранним октябрем, на удивление теплым и уютным, около семи часов вечера, а значит в глубоком сумраке, я шел из библиотеки домой. Тополя уже опали, листья шуршали и пружинили под ногами. Уличные фонари не горели, в окнах домов почти нигде не было света. И только в одном угловом окне на втором этаже сияла люстра. Занавески отдернуты и девушка с распущенными черными волосами в тонком изумрудном платье, красиво и элегантно облегающем ее стройную фигуру … играла на скрипке. Эти давнишние воспоминания?! Где в них правда, а где фантазии? Одно перетекает в другое и теперь уже не отличишь вымысел от реальности. Была ли девушка в освещенном окне так уж очаровательна и так уж восхитительно смотрелось ее платье, и скрипка … ну нет! Скрипка была определенно. И конечно была рябина. Мой взгляд сместился влево за потоком света из окна, и я увидел ее, украшенную ярко алыми ягодами, скромно стоявшую среди однообразных тополей, волшебно закутанную в электрический свет. Как это так случилось что среди вонючей темноты улицы Горького я встретился с ожиданием чуда. Но чуда не случилось! девушка провела смычком по струнам. Вы слышали, что получается, когда проводишь чем-то железным по стеклу? Зубы от этого звука ноют, в глазах слезы, руки холодеют. Право, можно впасть в отчаянье. Все, все было испорчено – ожидание нежности и очарования, нежданного подарка осеннего вечера – все стало пошлым и бессмысленным.
Девочка просто училась играть на скрипке.
Совершенно обессиленный я опустился на какую-то лавочку. И очень долго сидел в угрюмом оцепенении. И как внезапное озарение! А если эту унылую картину исправить. Пусть девушка играет очень хорошо, нет гениально! И пусть будет Моцарт.
Итак: обнаженная рябина, украшенная алыми ягодами, окутанная светом, красивая девушка в изумрудном платье, играющая Моцарта.
В дальнейшей моей жизни всякое бывало. И скрипка Моцарта всегда выручала.
***
Кажется, у Куприна встречались подобные типажи; огромный шелковый платок – лиловые розы на блестящем зеленом фоне – был накинут на жирные обвисшие плечи. Под длинный грязно-красный сарафан поддета серая вязаная фуфайка. Ступни ног почти мужского размера одеты в черные туфли с тупыми носками на низком каблуке. Туфли украшены кокетливыми золотистыми завитушками. Но самое вкусное было повыше к вечернему подсвеченному фонарями небу; там находилось лицо: тяжелые линии, бугристая желтоватая кожа, под низким лбом, по обеим сторонам крючковатого носа, располагались маленькие круглые немигающие глазки, в которых, время от времени, вспыхивали искорки животной злобы вперемешку с умной хитростью. Но украшением этой замечательной физиономии были конечно губы, пухлые, неестественно красные, сложенные бантиком, с постоянными капельками слюны, которую слизывал темный острый язык быстрыми змеиными бросками. Голова женщины была в движении: лента, перехватившая на затылке косичку иссиня черных волос, с желтыми треугольниками на концах, совершала круговые взмахи как бы размечая территорию.
Она стояла спиной к разноцветному бульварному фонтану и была своеобразным центром бурлящего людского пространства. Именно она и послужила причиной моего странного духовного срыва. Точнее … не она сама, … а те девочки, которые выныривали из толпы, словно повинуясь какому-то болезненному импульсу, в строгой очередности, с разницей до тридцати минут. Каждая из них останавливалась под немигающим взглядом, бросала в полураскрытую сумку деньги, получала бумажку, читала ее, исчезала в переменчивом сумраке.
Я же хорошо помню шестидесятые годы. Мы веселой гурьбой после экзаменов шли по утренней улице и на наших девочках коричневые платьица, белые фартуки, белые воротнички, белые гольфы и белый пушистый бант над детской тонкой шеей.
Эти барышни внешне походили на наших милых подружек, но порочность сквозила в плавном покачивании бедер, в особенном прищуре из-под наращенных ресниц.
Ну конечно, подумал я, взрослые распутные особи, для пущего шарма рядящееся под подростковую невинность. В общем понятно. И почувствовал облегчение. Ненадолго, правда. С соседней скамейки высветились голоса (так кстати и бывает обыкновенно; когда на чем-то или на ком-то сосредотачиваешь внимание, то информация сама начинает к тебе слетаться).
– Нет, нет! Ты вон туда посмотри – пошла конопатенькая!
– Чего в ней доброго, костлявая, и ноги двигает как на шарнирах. С такой только и можно после литра водяры. Да и то если лицо платком прикрыть.
– Балда! Знаток выискался. Помнишь я тебя занимал. Так вот все денежки вбухал в эту сучку. А вплюхался точно, сдуру. После ресторана, в хорошем подпитии, иду по Лермонтовской, вижу, в беседке под зонтиками, дует чай паучиха.
– Метко сказано. Плотоядная штучка. Ишь губехи распустила … Тьфу!
– Подхожу к ней, я же знаю, кто она и чем промышляет, так мол и так, девочку бы на вечерок. Думал на халяву подешевле: вон ту, говорю, тощенькую. Паучиха ухмыльнулась, и заломила такое!
Я говорю, дура что-ли, она с прищуром, доволен-доволен будешь. На трезвяк никогда бы не согласился, но не пейте юноши вина, дал добро. Привел домой тощенькую в конопушках, женушка в отлучке. И вот эта говорит, как ее, Люся, Люда, Лида – короче что-то на Л. Дяденька, лепечет она, я вся такая умелая, будете довольны, только попку не трогайте, а то вчерась трое азиятов раздолбили ее напрочь.
– Понятное дело, ты у нас добренький мужчинка, пообещал, что в заднюю дырку не полезешь.
– Само собой. Только обещания даешь для чего?
– Чтобы послать их на хер!
– В точку! Вместо грудок два кукиша. В подмышках и на лобке волосиков наперечет. Я еще тогда подумал, больная что ли? Кувыркались мы с ней целый вечер, от и до. Старалась, пыхтела, стонала, вся в поту. А потом я не утерпел, потраченных денег стало очень жаль, а злоба не к паучихе, а к этой тощей и конопатой; давай-ка на животик – она серыми глазками на меня и тихо заплакала, кровь ведь пойдет дяденька, измажешься.
– А ты?!
– Да нет, мне уж хватило. И там, между ягодиц, бахрома одна, будто материю рвали, противно стало. А эта дурочка радостная такая, всего меня обцеловала; это, шепчет мне на ухо, подарок мне на день рождения. Спрашиваю, а сколько тебе? сегодня тринадцать исполнилось, отвечает, сама все улыбается, только губы дрожат. В руках комкает розовые трусики, спасибо вам дядечка. Ты чего молчишь?
– … Пойдем, выпьем.
Я слушал и смотрел на острый змеиный язык, слизывающий слюну с мясистых красных губ. Потом поднялся. Мне показалось, что одно из коричневых школьных платьиц сбросило очередные деньги в сумку Паучихи и обернулось ко мне серыми беспомощными глазами. И я сделал шаг. В голове, как это бывало и раньше, возник ослепительно-сияющий огненный шар. Сейчас я видел только зеленый платок с ядовитыми розами. И я сделал еще шаг. Но худенькая женская рука ухватилась за мою рубашку и тонкий знакомый голосок тревожно зашептал:
– Володя, не надо, пропади они пропадом! Поедет домой, я куплю водочки, креветок, посидим, выпьем.
Когда такси, лихо развернувшись, исчезло в темноте, мы остались на ночной Тургеневской улице. Справа тускло светил уличный фонарь, за железными воротами нашего отеля красиво пели протяжную осетинскую песню.
Я обнял Надю, прижался лицом к ее дымчатым волосам и тихо сказал:
– Скрипка Моцарта не появилась. Не сработало.
– Что ты говоришь? О чем ты говоришь?! Я боюсь, когда ты начинаешь говорить о скрипке. Надо успокоиться и просто забыть. Постараться забыть.
– Нельзя исправить, – сказал я, – то, что нельзя исправить. Или можно. Если бы я сделал еще несколько шагов.
***
Мне всегда казалось, что ночь в южных широтах наступает почти мгновенно: щелчок – и от слабого свечения позднего дня к «хоть глаз выколи». Но, то ли Анапа не совсем уж на южных широтах, как и само Черное море, то ли этот вечер случился как выход из болезненного состояния прошлого дня.
К анапской балюстраде нас подвез уже знакомый таксист армянин. Мы попросили – чтобы не очень людно, но красиво. Он на минутку задумался: «мол, не дурачки ли эта четверка? В Анапе вечером, и чтоб не людно!», но потом утвердительно кивнул. Балюстрада со стороны автомобильных подъездов была затенена деревьями и кустарниками. Остро и пряно пахли невидимые сейчас цветы. Редкие фонари сосредоточились в основном возле торговых павильонов.
Зато за перилами, насколько хватало взгляда, небо охватило море, на горизонте сливаясь в розовые облака. И ветер приносил за собой необыкновенную свежесть и чистоту, шумы прибоя об огромные угловатые прибрежные камни и всего того что жило в воздухе и на неспокойной поверхности моря.
Окончание дня словно бы замерло в неясной призрачной дымке.
– Ой, еей! – сказала Аннушка, очаровательная брюнетка, такая живая и непосредственная в свои двенадцать лет. – Даже холодно стало. Мам, а ты взяла ветровку?
Оля нарочито сердито хлопнула дочку по плечу. Каждый раз, когда я смотрел на них, то понимал, что генетика выкидывает порой такие штуки, что диву даешься. Аннушка будто только сейчас из Иерусалима. Настолько ярко и резко в ней проявились самые типичные черты древней и умной расы. Оля? Как выглядит украинка с обложки рекламного проспекта; полная и крепкая, широкие славянские скулы, кареглазая, очень большая грудь, предмет ее постоянных огорчений.
– Значит ветровку, – сказала Оля. – И кто же должен озаботится? А?! холодно ей! В платье с таким декольте, чтобы все прелести наружу. Было бы что показывать!
– Мама! чего ты, очень даже … Ай!
– Ольга! – вмешалась Надя. – Не распускай руки, а то заработаешь. Ишь ты, строгая мамаша, довела ребенка до слез. Не беспокойся деточка, я взяла твою вещичку. Да, да и молнию до подбородка. Вон как славно, да уютно.
Я не вмешивался в их милую женскую болтовню. Слушал, а внутри возле сердца оттаивало, и дышать стало посвободнее. Мои женщины ушли чуть вперед и еврейский голосок Аннушки все приставал то к матери, то к бабушке Наде.
– И что ты думаешь? – надоедала противная девчонка. – Уже вечер и от моря холодный ветер. И вы обе нарочно говорите, что тепло. Правда, Володя?
Это ко мне. Ну уж нет! В полемику о погоде я встревать не стал. Неопределенно махнул рукой; да, да; нет, нет. А кому да, а кому нет разбирайтесь сами.
Два мальчика в синих джинсовых костюмах и девочка в светлой кофточке и (ах, как здорово!) длинной белой юбке, зауженной к низу, стояли над самым обрывом. Бриз, который только сейчас начинал усиливаться ерошил их волосы. Особенно у девочки: они у нее были тонкие, длинные и шелковистые и частой каштановой сеточкой падали на лицо. Она морщила аккуратный маленький нос и музыкально хихикала. Понимала проказница, что нравится и своим спутникам и зачем-то остановшемуся около них большому немолодому мужчине в некрасивых роговых очках. Она вскинула головку, посмотрела снизу-вверх каким-то очень быстрым грациозным движением. Им было лет по восемнадцать-двадцать, а девочка, тоненькая и хрупкая еще и кокетничала. Было бы перед кем.
