Объект №4. Амурский артефакт
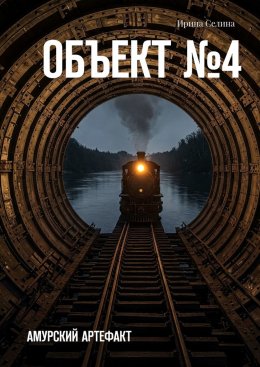
© Ирина Селина, 2025
ISBN 978-5-0067-0785-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
Ночь обволакивала широкую реку. Вдали, словно призрачное видение со старой пятитысячной купюры, мерцающий ажурной вязью огней, вытягивался Амурский мост. На песчаной косе левого берега, у самой кромки тёмной воды, уютно потрескивал костёр. Рядом, около катера с небольшой палаткой-тентом, расположились два рыбака. Молодой Санька, со спиннингом в руках, жадно втягивал свежий, пахнущий речной прохладой воздух, зачарованно следя за медлительным скольжением тёмной воды. Подле него Василий сосредоточенно очищал от серебристой чешуи упитанную спину крупного сазана. В ведре рядом сонно плескались ещё несколько пойманных серебристых рыбин.
– Эх, благодать-то какая, – прошептал Санька, залюбовавшись дрожащими в ночи огнями моста. – Только вот, глянь, опять вода поднимается. Не ровён час, снова левый берег начнёт топить, острова скроет.
Василий коротко кивнул, не отрывая взгляда от своей работы.
– Ничего не поделаешь. Из года в год одно и то же половодье. А рыбалка… тут и впрямь душа отдыхает. Тишина, природа вокруг… своя философия, неторопливая. Главное – клёва дождаться, хотя, признаться, иногда приметы попадают в точку.
– Да ну их, эти приметы, – лениво махнул рукой Санька. – Вроде как говорят: июнь-июль – на рыбалку плюнь. А мы круглый год рыбу таскаем. Может, чаю? В котелке вон уже дымится.
– Чайку – всегда с удовольствием, – отозвался Василий, проворно потроша сазана, искоса поглядывая на величавый силуэт моста, прочерчивающий тёмное небо. – Эх, вот если бы ауха поймалась, ухи бы на костре с дымком сварили из неё… аромат – закачаешься.
Внезапно ночную тишину распорол странный звук. Сперва он показался вздохом, глубоким и тягучим, словно сама река, устало вздохнув, пропустила под своими стальными арками очередной поезд. Звук донёсся будто из самой глубины, пронзая негромкий плеск волн о берег и монотонное стрекотание ночных насекомых. Затем повторился, окрепнув и став отчётливее, – низкий, утробный гул, от которого по спине Саньки пробежали мурашки. Василий замер, держа распоротую рыбу, и его взгляд оторвался от далёких огней моста, скользнув к чёрной поверхности реки.
– Что это было? – тихо проговорил Санька, нервно оглядывая безмолвную гладь воды, словно ожидая увидеть источник странного звука.
Василий, обычно невозмутимый и спокойный, нахмурил густые брови, напряжённо вслушиваясь в ускользающий звук, непохожий на привычный гул проходящих по мосту поездов, долетающий издалека.
– Не баржа… и не поезд. Словно… из самой земли.
Затем гул затих, растворившись в тихом плеске воды и слабом эхе далёкого состава. Рыбаки обменялись тревожными взглядами. В глазах Саньки обозначилось явное недоумение, а на обычно невозмутимом лице Василия промелькнула тень необъяснимого беспокойства, нарушив его привычное созерцание ночного пейзажа с мостом.
Прежде чем они успели перемолвиться словом, из тёмной глубины реки донёсся новый звук. На этот раз это был не просто гул. Это был отчётливый ритм. Монотонный, настойчивый стук, словно кто-то или что-то мерно ударяло во что-то твёрдое под толщей воды. Тук… тук… тук…
Рыбаки застыли, напряжённо прислушиваясь к этому странному подводному пульсу, нарушившему ночную тишину.
Глава 1
Дальняя дорога
Ярославский вокзал в Москве гудел, как растревоженный улей. Глубокая полночь не остудила его пыла: огромный, словно сказочный терем, он пульсировал жизнью, вбирая и выплёвывая потоки людей. В воздухе висела густая смесь запахов: едкий дым локомотивов, крепкий кофе из привокзальных кафе, сладковатый сигаретный смог, терпкий аромат шпал и едва уловимая нотка тревожного ожидания. Под сводчатыми потолками, где застыли рельефные гербы городов – Москвы, Архангельска, Ярославля, – сновал пёстрый людской поток.
Среди этого калейдоскопа Марина энергично двигалась по перрону, ловким движением огибая зазевавшихся пассажиров, катя за собой большой чемодан на колёсах. В её цепком взгляде, скользящем по лицам и деталям, читался профессиональный интерес столичной корреспондентки. Эта семидневная командировка в Хабаровск, на самый край страны, обещала стать не просто рабочей поездкой, а погружением в неизведанное. Её ждала долгая дорога через всю Россию.
Привыкшая к бешеному ритму Москвы, Марина инстинктивно считывала типажи, каждый из которых мог стать героем или свидетелем истории: деловой мужчина в костюме, нервно сверяющийся с часами, хохочущая компания студентов с необъятными рюкзаками, пожилая пара, вцепившаяся друг в друга руками. Её журналистский мозг, ненасытный к человеческим историям и городским тайнам, собирал пазл вокзала – этого бурлящего микрокосма, отражения всей огромной страны, полной нерассказанных историй.
Поезд №002Э «Россия» плавно, почти неслышно тронулся, не желая потревожить спящий город. Ярославский вокзал отъезжал, его огни таяли в черноте ночи, оставляя после себя лишь гулкое эхо в груди и лёгкое ощущение оторванности от привычного мира. В уютном купе СВ Марина заняла место у окна. За стеклом поплыла ожившая кинолента: мелькающие огни уходящей Москвы, тусклые фонари станций, расплывающиеся силуэты деревьев, погружающихся в бескрайнюю темноту. Купе было небольшим, но комфортным: мягкие сиденья, приглушённый свет, чистый столик – идеальное пространство для долгих часов пути, располагающее к уединению или, наоборот, к неожиданным разговорам по душам.
В купе сидел её попутчик – пожилой мужчина с аккуратной серебристой бородой, чей проницательный взгляд из-под тонких металлических очков словно видел насквозь. В нём чувствовались покой и некая внутренняя упорядоченность, неброская интеллигентность: на откидном столике лежала раскрытая книга с тонкой закладкой, скромная кожаная сумка тихо ютилась в углу, не привлекая внимания.
– Добрый вечер, – с открытой улыбкой поприветствовала Марина, устраиваясь и бросая быстрый, профессиональный взгляд на книгу. «История промышленной инженерии России. XIX век» – прочла она золотое тиснение на корешке. Тема серьёзная, не для любителя.
Мужчина поднял голову, чуть склонил её в вежливом поклоне.
– И вам добрый вечер, барышня. Василий Сергеевич. Рад знакомству в столь дальней дороге.
– Марина, – представилась она.
Утром, когда проводник принёс ароматный, терпкий кофе в гранёных стаканах с фирменными подстаканниками, между попутчиками завязался лёгкий, непринуждённый разговор, который мог случиться только в поезде. Сначала – о долгой дороге, о меняющихся за окном пейзажах. Затем – о целях их путешествия.
– Вы по делам в Хабаровск, Марина? – спросил Василий Сергеевич, аккуратно, словно ставя точку в важном рассуждении, закрывая книгу и отодвигая её в сторону. В его движениях не было суеты.
– Да, командировка. Пишу для журнала о развитии Дальнего Востока, – кивнула Марина.
– Весьма похвально, – в голосе Василия Сергеевича прозвучала искренняя заинтересованность. – Хабаровский край – земля с глубокими корнями и, смею вас заверить, с многообещающим будущим. Надеюсь, наш город вас не разочарует. Я, собственно, тоже в Хабаровск, возвращаюсь домой. Профессор кафедры промышленной инженерии в местном университете. Кандидат технических наук.
Марина почувствовала укол профессионального азарта. Вот он, неожиданный источник информации и экспертного мнения – случайный попутчик, оказавшийся специалистом по региону и его инфраструктуре, да ещё и такого высокого ранга. Они увлечённо заговорили: о промышленном потенциале, о науке, об особенностях жизни на краю страны. Время в купе летело незаметно, под мерный стук колёс, уносящих их на восток, навстречу восходящему солнцу.
Очередной день сменился вечером, за окном сгущались сумерки, переходящие в бархатную черноту ночи. Размытые огни далёких поселений сменились тёмными полотнами полей и угрюмыми силуэтами лесов. Они сидели напротив друг друга за столиком, согревая руки о стаканы с крепким, ароматным чаем.
– Знаете, Василий Сергеевич, – задумчиво произнесла Марина, делая небольшой глоток, – меня всегда манил Дальний Восток. Кажется, за его просторами скрыто столько неразгаданного, столько тайн… Я люблю такие истории, городские легенды.
Профессор тихо усмехнулся, поглаживая бороду. В его проницательных глазах мелькнула тень, похожая на понимание.
– У каждого уголка нашей земли свои секреты, Марина. И Хабаровский край – не исключение. Некоторые лежат на поверхности, как камешки у реки, другие – глубоко сокрыты.
Он сделал небольшую паузу, взгляд скользнул за тёмное стекло, словно пытаясь разглядеть в ночи что-то невидимое.
– Вот, к примеру, Амурский мост, – небрежно начал он, словно речь шла о чём-то совершенно обыденном, но в его голосе появилась особая интонация. – Визитная карточка нашего города, символ. Но мало кто из тех, кто ежедневно проезжает по его стальным пролётам, догадывается, что совсем рядом, в тёмных глубинах великой реки, покоится кое-что другое… «Объект №4».
Марина мгновенно напряглась. Её журналистское чутьё, тонко настроенный радар на всё необычное и таинственное, уловило в этих словах нечто большее, чем просто упоминание забытого объекта. Внутренний тумблер переключился в режим «расследование».
– «Объект №4»? Что это? – нетерпеливо спросила она, подавшись вперёд.
Василий Сергеевич помедлил, словно решая, насколько глубоко стоит погружаться. – Подводный железнодорожный тоннель. Строили в глубочайшей тайне, ещё до войны. Прямо под руслом Амура.
– Подводный тоннель? Железнодорожный? Я… я никогда не слышала об этом! – Марина искренне изумилась, отставляя чай. В её глазах горело удивление и вспыхнувший интерес – тот самый азарт охотника за историями.
– И неудивительно, – с понимающей улыбкой кивнул профессор. – Информация о нём никогда не разглашалась. После переноса ветки на новый мост тоннель законсервировали, входы надёжно замуровали. Но… среди старожилов, особенно среди старых железнодорожников и жителей прибрежных районов, до сих пор живы любопытные слухи и предания, связанные с ним.
Он снова замолчал, понизив голос почти до шёпота, словно делясь секретом, который сама ночь подслушивает за окном.
– Ходят слухи, Марина… странные слухи, которые окутывают этот заброшенный тоннель…
Марина подалась вперёд ещё больше, сгорая от журналистского нетерпения. Ночь за окном сомкнула свои объятия, и теперь лишь тусклый свет купе высвечивал её взволнованное, заинтересованное лицо и задумчивый, таинственный профиль пожилого хабаровского профессора.
– Какие слухи, Василий Сергеевич? Что-то мрачное, зловещее? – выдохнула она, чувствуя, как внутри зарождается предчувствие большой истории.
Василий Сергеевич вздохнул, словно вороша в памяти давние воспоминания, которые не дают покоя.
– Разные слухи ходят, Марина. Самые невероятные и порой пугающие. Но самые живучие связаны со странными, необъяснимыми звуками, доносящимися… из самой утробы Амура. В районе моста. Особенно часто их слышали рыбаки, да и некоторые жители, чьи старые дома стоят у береговой линии.
– Звуки? Какие именно звуки? – с возрастающим интересом, граничащим с одержимостью, спросила Марина.
– Описывают по-разному, – пожал плечами профессор, подбирая слова, чтобы передать всю странность этих рассказов. – Кто-то говорит о глухом нарастающем гуле, словно вздыхает сама река, или о низкочастотной вибрации, проникающей до костей. Кто-то – о странных, ритмичных ударах, словно кто-то упорно работает под толщей воды, забивая сваи или дробя камень. А некоторые, особо впечатлительные и склонные к мистицизму… утверждали, что слышали нечто похожее на приглушённые человеческие голоса – неразборчивое бормотание или тяжёлые, мучительные вздохи, поднимающиеся из самой глубины.
Сердце Марины забилось чуть быстрее. Это звучало не просто как городская легенда, это была загадка. Необъяснимая аномалия. Как журналист, привыкший искать рациональные объяснения, она видела в этом вызов. Внутри созрело твёрдое намерение: как только она окажется в Хабаровске, то обязательно постарается разобраться в этом.
– И этому есть какое-то рациональное, научное объяснение, Василий Сергеевич? – спросила она, возвращаясь к логике. – Может, это связано с гидродинамикой реки или с конструкцией тоннеля?
Василий Сергеевич отрицательно покачал головой. Взгляд стал серьёзным и задумчивым, как у человека науки, столкнувшегося с необъяснимым.
– Я, как инженер, всегда пытался найти такое объяснение, Марина. Резонанс от поездов, взаимодействие вибраций с грунтом… Но звуки, по свидетельствам, не совпадают с графиком движения поездов. Возникают внезапно, исчезают так же. Без чёткой логики или периодичности, которую можно было бы объяснить обычной механикой или гидродинамикой. У меня, признаться, никогда не было возможности провести полноценное исследование этих акустических аномалий.
Он посмотрел на Марину с еле заметной, чуть загадочной усмешкой, словно предлагая ей принять эстафету.
– Вот вам и местная хабаровская тайна. Никто толком не знает, что это. Слухи то затихают, то вновь вспыхивают с новой силой.
Марина задумалась, машинально постукивая пальцами по гранёному стакану. История о заброшенном тоннеле и необъяснимых звуках манила сильнее любой статьи о промпроизводстве.
– Василий Сергеевич, – с внезапно загоревшимися азартом глазами спросила она, отбросив усталость, – а вы сами когда-нибудь слышали что-нибудь подобное?
Профессор на мгновение отвёл взгляд, погружаясь в прошлое.
– Было такое однажды, лет двадцать назад, – медленно произнёс он. – Поздним летним вечером гулял по набережной. Стояла необычайно тихая, безветренная погода, река – зеркало. И вдруг… донёсся слабый, глухой гул, похожий на отдалённый звук мощного, но как бы приглушённого механизма. Но вокруг не было ничего, что могло бы его издать. Потом стихло так же внезапно. Тогда списал на что угодно – воображение, далёкие шумы. Но после рассказов других людей, описывавших нечто похожее… начинаешь думать, сопоставлять факты, искать зерно истины. Только вот руки так и не дошли до полноценного исследования этого феномена.
Поезд мерно покачивался на стыках рельсов, монотонно отсчитывая километры, унося своих случайных попутчиков всё дальше на восток, навстречу не только восходящему солнцу, но и неразгаданным тайнам великого Амура и секретам, возможно сокрытым под его тёмными безмолвными водами. За окнами вагона проплывали уже совершенно ночные пейзажи: редкие огни далёких поселений сменялись бескрайними тёмными массивами лесов, казавшихся в лунном свете призрачными стражами неведомых земель.
Марина машинально достала блокнот. «Подводный тоннель… Объект №4… странные звуки… местные легенды… Профессор, который сам слышал нечто необъяснимое… кандидат технических наук… Акустические аномалии, не совпадающие с графиком поездов… Почему он рассказал это именно мне? Случайность? Или…» – быстро записывала она, стараясь не упустить ни детали, ни собственные интуитивные прозрения. Её журналистское чутьё кричало: за этими случайными словами кроется нечто гораздо большее и сложное, чем просто местная байка.
Василий Сергеевич, заметив её увлечённость, с лёгкой, уже не просто понимающей, но почти заговорщицкой улыбкой наблюдал за молодой журналисткой. Он словно почувствовал её искренний интерес и готовность нырнуть в эту давнюю местную загадку, которую он сам не смог или не успел разгадать. В его глазах читалось не только желание поделиться старой историей, но и надежда: возможно, именно этот «свежий взгляд» из столицы, вооружённый современными возможностями и неуёмным азартом, сможет пролить свет на тайну, которая долгие годы оставалась сокрытой.
– Знаете, Марина, – вновь заговорил профессор, его голос звучал теперь более доверительно, как у старшего коллеги, делящегося сложной задачей, – на кафедре геологии в нашем университете есть очень увлечённый молодой доцент. Он уже несколько лет занимается изучением гидроакустических явлений в Амуре. Возможно, по прибытии в Хабаровск я смог бы вас с ним познакомить, если решите заняться этой легендой. У него могут быть какие-то свои соображения на этот счёт, возможно даже какие-то записи странных звуков, сделанные с помощью специального оборудования, а данные есть данные.
Глаза Марины вспыхнули ещё ярче. Такая возможность казалась чрезвычайно ценной для её потенциального расследования. Научные данные! Это выводило историю на совершенно иной уровень.
– Василий Сергеевич, это было бы просто замечательно! Я была бы вам очень признательна за такую помощь. Мне кажется, чтобы разобраться в природе этих звуков, необходимо подойти к вопросу с разных сторон – и с исторической, и с научной. Это то, что мне нужно.
– Совершенно с вами согласен, Марина, – кивнул профессор. – Именно такой комплексный подход может дать наиболее полные и объективные результаты. История хранит ключи к пониманию прошлого, а наука помогает объяснить настоящее.
Разговор между случайными попутчиками продолжался ещё долго. Они говорили о Хабаровске, о его истории и культуре, о промышленности и науке, но нить беседы то и дело возвращалась к загадочному подводному тоннелю и странным звукам, окутывающим его тайной. Марина чувствовала, как её первоначальный план командировки постепенно меркнет перед лицом этой новой, неожиданно возникшей интриги.
За окном поезда мелькали редкие огни станций, на которых состав делал короткие остановки, выпуская и принимая новых пассажиров. В купе царила тёплая, дружеская атмосфера, словно два единомышленника, случайно встретившиеся в долгой дороге, обнаружили общие, пусть и таинственные, интересы.
– Знаете, Василий Сергеевич, – в один из дней сказала Марина уже перед сном, устраиваясь на своей полке. – Мне кажется, эта история с «объектом №4» и странными звуками – это не просто местная легенда для туристов. В ней чувствуется какая-то недосказанность, какая-то правда, которая ждёт, чтобы её раскрыли. И тот факт, что вы, человек науки, тоже слышали нечто подобное… это очень важно.
Профессор, захлопывая свою книгу, тихо ответил:
– Возможно, вы правы, Марина. Возможно, Амур действительно хранит тайны, которые ждут своего часа, чтобы быть поведанными миру. Иногда нужен лишь кто-то, готовый услышать…
В купе погас свет, и лишь мерный стук колёс нарушал ночную тишину. Но в душе Марины уже зрело твёрдое решение: как только она прибудет в Хабаровск, она обязательно постарается узнать больше об этой загадочной истории. Её журналистское любопытство, усиленное предвкушением настоящего приключения, было окончательно разбужено, и далёкий Хабаровск теперь манил её не только перспективой новых репортажей, но и тайной, скрытой под тёмными водами реки.
Глава 2
Прибытие и первые шаги
Когда поезд №002Э «Россия», проделав долгий путь через бескрайние просторы страны, плавно замер у перрона хабаровского вокзала, Марина почувствовала отчётливое волнение. Шагнув из ставшего почти родным купе, она вдохнула свежий, бодрящий воздух Дальнего Востока. Он был иным, чем в Москве: чистый, пронизанный речной прохладой Амура, с примесью ароматов влажной земли после недавнего дождя и тонкой терпкости незнакомых деревьев с раскидистыми кронами на привокзальной площади. Вдали сквозь лёгкую вечернюю дымку пробивались последние лучи клонящегося к закату солнца, окрашивая небо и верхушки зданий в золотистые и розовые тона.
Прямо у выхода из вагона её ждала энергичная женщина с приветливой улыбкой и табличкой, на которой значилась её фамилия.
– Марина? Добро пожаловать в Хабаровск! – воскликнула женщина, крепко, по-деловому пожимая ей руку. Её глаза лучились дружелюбием и искренним интересом. – Елена, местная редакция. Рада наконец-то встретиться лично. Как дорога? Не слишком утомились?
– Спасибо, Елена! Доехала отлично, даже не заметила, как время пролетело, – ответила Марина, оглядывая оживлённый перрон, наполненный многоголосием встречающих и запахом свежей выпечки из вокзального буфета.
– Ну и замечательно! – улыбнулась Елена. – Сейчас поедем в гостиницу, сможете отдохнуть, привести себя в порядок. А завтра за чашкой кофе обсудим план работы. У нас тут жизнь кипит, много всего интересного. Город строится, развивается, новые предприятия запускаются. Конечно, есть и сложности… например, отток населения, особенно молодёжи. Но мы все надеемся на перемены к лучшему с подъёмом промышленности. Думаю, эта тема может быть вам интересна для статей.
Пока Елена быстро вела Марину через вокзальную суету к служебной машине, они миновали здание вокзала и вышли на просторную привокзальную площадь. Здесь, встречая всех прибывающих, на гранитной скале возвышался могучий, отлитый из тёмной бронзы памятник Ерофею Хабарову, первопроходцу и основателю города. Его взгляд был устремлён вдаль, словно он всё ещё изучает новые земли. В левой руке он держал свиток, а правая поддерживала тяжёлый, ниспадающий с плеча тулуп, в напоминание о пронизывающих здешних ветрах.
Елена успела вкратце обрисовать круг предстоящих встреч: от посещения современного авиастроительного завода, гордости региона, до интервью с представителями краевой администрации о перспективных экономических проектах и развитии инфраструктуры. Марина внимательно слушала, её журналистский мозг уже структурировал информацию, подмечая возможные углы и акценты для будущих публикаций.
Несколько дней пронеслись в стремительном ритме встреч и интервью. Марина побывала на впечатляющем авиационном заводе имени Гагарина. Под сводами огромных цехов пахло металлом и машинным маслом, воздух вибрировал от гула механизмов и голосов рабочих. Она с неподдельным интересом наблюдала за сложным процессом сборки современных лайнеров, слушая увлечённый рассказ молодого инженера Андрея.
– Для нас это не просто работа, – говорил Андрей, вытирая масляные пятна с комбинезона, его глаза горели энтузиазмом. – Это будущее нашего города, нашего края. Если завод будет развиваться, появятся рабочие места, и молодёжь останется здесь, будет видеть своё будущее.
Марина встречалась с представителями местной администрации в просторных кабинетах, откуда открывался захватывающий вид на синий простор реки. От чиновников пахло дорогим одеколоном и уверенностью. Они с энтузиазмом рассказывали о новых инвестиционных проектах, особых экономических зонах, призванных привлечь капитал.
– Без сильной экономики невозможно решить социальные проблемы, – объяснял помощник губернатора по экономическому развитию Виктор Петрович, пожилой, но удивительно энергичный мужчина. – Поэтому поддержка промышленности – это вопрос будущего региона, сохранения нашего человеческого капитала. – Его голос звучал веско и убедительно.
В перерывах между встречами, во время коротких поездок по городу Марина наблюдала за повседневной жизнью Хабаровска. Широкие улицы с добротными сталинскими зданиями, зелёные парки, неспешное, более размеренное по сравнению с московской суетой течение жизни. Она видела объявления о наборе рабочих, замечала спешащих на работу молодых людей и пожилых, неторопливо прогуливающихся по ухоженной набережной Амура, где пахло свежестью воды и цветами.
Вечерами, возвращаясь в тихий номер гостиницы, Марина чувствовала приятную физическую усталость от насыщенного дня, но мысли её, словно их тянуло магнитом, всё чаще возвращались к загадочному рассказу случайного попутчика. Подводный тоннель… странные, необъяснимые звуки… Эта тайна, бросившая вызов её журналистскому чутью, не давала покоя. Она машинально просматривала местные новостные сайты, краеведческие форумы, архивы онлайн-изданий, пытаясь найти хоть какое-то упоминание об «объекте №4» или акустических аномалиях. Тщетно. Официальной информации не было, лишь туманные, разрозненные упоминания о старых легендах. Тайна действительно оказалась «за семью печатями».
Однажды вечером, после особенно утомительного дня, когда город за окном уже утонул в мягкой вечерней синеве, Марина, решившись, набрала номер Василия Сергеевича.
– Василий Сергеевич? Добрый вечер, это Марина, ваша попутчица из поезда. Надеюсь, не помешала звонком?
– Ах, Марина! – в голосе профессора послышалось искреннее радушие. – Очень рад слышать ваш голос. Как вам Хабаровск? Работа продвигается? Успели составить своё мнение о городе?
– Спасибо, всё идёт хорошо. Город мне очень понравился, люди здесь открытые и приветливые. Но знаете, ваш рассказ о подводном тоннеле… он просто не выходит у меня из головы, – призналась Марина, её голос невольно стал тише, обретая оттенок азартной увлечённости. – Я пыталась найти хоть какую-то информацию, но безуспешно. Это какая-то тайна за семью печатями.
– Так я и знал, что это зацепит ваше журналистское любопытство, – с мягкой, понимающей усмешкой ответил профессор. – Это действительно одна из местных загадок, которую не так просто разгадать. Официально об этом мало кто говорит. Но если ваш интерес серьёзен и вы действительно хотите разобраться, я готов помочь. У меня самого до этого руки не дошли, но если у вас получится, то отлично. Чем смогу – помогу. Завтра после обеда у меня будет свободное время. Как насчёт чашки кофе в уютном кафе недалеко от университета? Или могу заехать за вами в гостиницу, как вам будет удобнее.
– О, это было бы просто замечательно, Василий Сергеевич! – Марина не смогла сдержать восторга. – Я с удовольствием встречусь с вами завтра. Заедете за мной в гостиницу? Так будет удобнее.
– Договорились. Буду у вас около трёх часов. До завтра, Марина.
– До завтра, Василий Сергеевич. Спасибо вам большое!
Марина повесила трубку, в груди разливалось тёплое чувство предвкушения. Рабочая командировка, посвящённая развитию дальневосточной промышленности и проблемам демографии, неожиданно приобретала совершенно новый, захватывающий оборот. Дверь в мир старых тайн и неразгаданных загадок, скрытых в самом сердце Хабаровска, начинала приоткрываться.
Глава 3
Встреча с экспертом
В три часа дня Марина уже сидела за небольшим столиком в уютном кафе «Старый город», что неподалёку от университета. Атмосфера здесь была тихой и неторопливой. Пахло свежемолотым кофе и чуть уловимым ароматом старой бумаги с дизайнерских книжных полок у стен. Приглушённый свет создавал ощущение уюта, но лёгкое волнение всё равно щекотало нервы. Василий Сергеевич уже ждал её, сидя напротив, аккуратный и спокойный, как и в поезде. Перед ним стояла чашка с остывающим напитком, рядом лежали его очки и тонкая записная книжка.
– Марина, добрый день. Рад видеть вас не в купе, а в более… городской обстановке, – улыбнулся профессор, когда она подошла.
– Василий Сергеевич, здравствуйте. Спасибо, что согласились встретиться. – Марина опустилась на мягкий стул, чувствуя, как усталость последних дней смешивается с предвкушением. – Я надеялась, что у вас найдётся время.
– Для интересной темы время всегда найдётся, – его взгляд из-под очков был внимательным. – Как прошли ваши официальные мероприятия? Удалось собрать материал для журнала?
– Да, очень насыщенно. Завод впечатляет, встречи с администрацией тоже прошли продуктивно. Много цифр, планов… – Марина сделала паузу, глядя в глаза собеседнику. – Но, честно говоря, все эти цифры меркнут перед историей, которую вы рассказали в поезде.
Василий Сергеевич кивнул понимающе.
– Так я и предполагал. Журналистское чутьё не дремлет.
– Оно просто кричит! – Марина невольно наклонилась чуть вперёд. – Я пыталась искать информацию об «объекте №4», об этих звуках… Но ничего нет. Полная тишина.
Профессор на мгновение задумался.
– Но легенды… они живучи, если в них есть хоть доля истины.
– Именно так, – подтвердил Василий Сергеевич. Он сделал ещё один глоток кофе, словно собираясь с мыслями. – «Объект №4» был частью грандиозных предвоенных планов по развитию инфраструктуры на востоке страны. Время было непростое, секретность – обычное дело. Многие подобные проекты тех лет окутаны тайной. Но этот… он особенный. О тоннеле знал очень узкий круг специалистов. И после войны, когда построили новый мост и проложили ветку по нему, про этот тоннель постарались забыть окончательно. Документы либо уничтожили, либо перевели в глухие архивы под грифами «совершенно секретно».
Марина слушала затаив дыхание. История оживала, наполняясь мрачной атмосферой предвоенных лет и государственной тайны.
– То есть даже сейчас найти что-то официально практически невозможно?
– Практически, – кивнул профессор. – Но иногда, в старых отчётах, в личных записях инженеров того времени могут попадаться крупицы. Если знать, где искать и что искать. Моя специализация в промышленной инженерии, конечно, напрямую не связана с тоннелями тридцатых годов 20-го века, но принципы проектирования, логистика, подходы к строительству… они имеют преемственность. И понимание эпохи помогает понять мотивы тех, кто принимал решения о секретности.
– Вот именно доля истины меня и интересует! – Марина понизила голос, оглядываясь по сторонам, хотя посетителей в кафе было немного. – Василий Сергеевич, в поезде вы упомянули, что звуки доносятся с левого берега, из района моста. Но левый берег там довольно протяжённый. Есть ли какое-то более конкретное место, о котором говорят местные? Может быть, ближе к предполагаемым входам в тоннель?
– Конкретное место есть, примерное, – ответил Василий Сергеевич, задумчиво помешивая ложечкой остывший кофе. – Местные легенды и редкие очень старые упоминания указывают на левый берег, да, но не просто на весь берег. Речь идёт об участке напротив того места, где главный пролёт моста пересекает русло Амура. Там, на левом берегу, как раз расположен небольшой посёлок… Уссурийский.
Он посмотрел на Марину, оценивая её реакцию.
– По логике строительства вход в тоннель должен был находиться где-то в этой зоне. Не слишком далеко от русла, но и достаточно высоко от уреза воды при нормальном уровне реки, чтобы избежать затопления на этапе строительства и эксплуатации.
– Посёлок Уссурийский… – Марина задумчиво повторила название. – Значит, местные жители там живут буквально над тоннелем? Или рядом с ним?
– Скорее рядом с предполагаемыми входами. Сам тоннель уходит под русло, на приличную глубину. А вот подходы к нему… возможно, они где-то в районе этого посёлка. – Профессор извлёк из записной книжки сложенный вчетверо лист и начал схематично рисовать карту района. – Видите? Вот здесь мост, вот русло, а вот этот изгиб берега с посёлком.
Он подвинул карту к Марине.
– В любой исследовательской работе, Марина, будь то журналистика или наука, местоположение – это первый и самый важный ключ. Легенды и слухи часто привязаны к конкретной местности не случайно. Люди замечают аномалии там, где они происходят. А наша задача – взять эти разрозненные «народные приметы» и наложить их на карту, на известные факты, на инженерную логику. Понять, почему именно там слышат, а не где-то ещё.
– И вы думаете, эти слухи о звуках… они могут быть связаны именно с тоннелем? Не просто эхо стройки? – спросила Марина, возвращаясь к самому необъяснимому.
– Вот это и есть самая большая загадка. – Василий Сергеевич снова протёр очки, его взгляд стал ещё более сосредоточенным. – Если бы это был просто гул реки или вибрация от поездов по мосту – это одно. Но ритмичные удары? Приглушённые голоса? Ни один известный мне акустический феномен, связанный с реками или подземными сооружениями, не даёт такой картины. Гидродинамические шумы имеют другой спектр. Сейсмическая активность проявляется иначе. Работа механизмов? Но каких? В заброшенном и замурованном тоннеле? Если только там что-то происходит сейчас. Или… если тоннель не совсем заброшен. Или если источник звука не механический вовсе. Именно поэтому нам нужны объективные данные.
Марина представляла себе эти звуки – стоны из глубины, ритмичные удары… Мурашки пробежали по коже. Это не просто легенда, это что-то живое, активное. Что-то, что скрывается под тоннами воды и грунта.
– Это звучит как огромный объём работы, – задумчиво произнесла Марина, переваривая услышанное. – Свидетельства очевидцев… их нужно найти, разговорить… Но вы упоминали, что у вас на кафедре есть специалист, который занимается гидроакустикой Амура? Мне кажется, научные данные могли бы подтвердить или опровергнуть эти слухи гораздо убедительнее, чем любые рассказы.
– Ах да, молодой доцент с геологической кафедры, – кивнул Василий Сергеевич. – Сергей Иванович. Очень увлечённый малый. Он занимается мониторингом акустической среды реки, её подводных звуков, вибраций. У него есть современное оборудование – высокочувствительные гидрофоны, спектральные анализаторы… Как раз то, что нужно для точной регистрации и анализа подводных звуков и вибраций в конкретном месте. Показания приборов – это объективные данные, Марина, их нельзя списать на игру воображения, местные легенды или слуховые галлюцинации.
Профессор снял очки и протёр их платком, словно очищая не только стёкла, но и обдумывая следующий шаг.
– В любом серьёзном расследовании, Марина, будь то журналистика, история или наука, показания свидетелей – это лишь отправная точка, начальная гипотеза. Важная, бесценная, но гипотеза. Чтобы превратить гипотезу в факт, нужны доказательства. В нашем случае – объективные физические измерения. Если эти странные звуки реальны и имеют физическую природу, Сергей Иванович с его аппаратурой сможет их зафиксировать, определить их точные частотные характеристики, даже локализовать источник с высокой точностью. Это именно та «вторая часть работы», о которой я говорил в поезде. Сочетание «народных примет», собранных вами, и точной науки, которую представляет Сергей Иванович.
– Это было бы просто невероятно! – Марина почувствовала новый, мощный прилив азарта. Возможность получить научные данные вносила в расследование весомость и серьёзность, выводя его за рамки простого сбора баек. – Вы могли бы нас познакомить? Мне кажется, его данные критически важны для понимания природы этих звуков.
– Конечно, я с ним свяжусь, – подтвердил Василий Сергеевич. – Думаю, он сам заинтересуется этой историей, хотя по натуре он, как всякий хороший учёный, скептик. Возможно, стоит вам сначала собрать первые, наиболее убедительные свидетельства от жителей Уссурийского. Уточнить у них примерное время суток, когда звуки слышны отчётливее всего, и с какой стороны от посёлка или моста, по их ощущениям, шёл источник. Это даст нам более чёткое представление о том, когда и где искать аномалии с помощью аппаратуры Сергея Ивановича, сократит время его работы. А я тем временем попробую поискать старые городские планы, инженерные отчёты или какие-то архивные документы, связанные со строительством тоннеля. Вдруг сохранилось что-то, что может указать на точное местоположение входов, особенности конструкции или даже на незапланированные инциденты в ходе строительства.
Они одновременно взяли свои остывшие чашки, словно скрепляя невидимой печатью только что намеченный план. В воздухе витало ощущение начинающегося, пока ещё неясного, но уже захватывающего приключения.
– Итак, – подытожила Марина, чувствуя, как шестерёнки её журналистского и теперь уже детективного ума встают на место, – мой первый, неотложный шаг – поездка в Уссурийский, сбор свидетельств очевидцев, попытка понять локализацию слухов и, соответственно, звуков. Ваш – поиск в архивах и разговор с Сергеем Ивановичем, чтобы договориться о его участии.
– Именно так, – кивнул профессор, его взгляд стал тёплым и одобрительным. – Разделение труда. У каждого из нас есть свои инструменты и сильные стороны. У вас – острый взгляд журналиста, умение слушать и задавать правильные вопросы, упорство. У меня – знание города, его истории и доступ к некоторым теоретическим или архивным источникам. У Сергея Ивановича – точные научные приборы и методология объективных измерений. Соединив всё это, мы сможем если не разгадать тайну полностью, то хотя бы понять её истинную природу, отделив факты от вымысла.
Василий Сергеевич мягко улыбнулся.
– Забавно, да? Случайная встреча в поезде, разговор о старых легендах, и вот мы уже планируем целое исследование. Настоящее приключение для учёного и столичного журналиста.
Марина рассмеялась, и звонкий смех на мгновение нарушил тишину кафе.
– Похоже на начало книги. Только вот что будет дальше, пока никто не знает. И это самое интригующее.
– В том и прелесть неизведанного, Марина. Но помните: в любой, даже самой запутанной и пугающей тайне есть рациональное зерно. Даже самые невероятные слухи могут оказаться лишь искажённым отражением реальных событий или физических явлений. Наша задача – отделить зёрна от плевел, факты от фантазий. И быть осторожными. Не все тайны любят, когда их ворошат. Особенно те, что скрыты глубоко под землёй или водой… или намеренно забыты.
Его взгляд на мгновение стал серьёзным, даже немного тревожным, напоминая Марине о тени грусти, которую она видела в его глазах ещё в поезде. Но тут же профессор снова улыбнулся, возвращаясь к своему обычному спокойному виду. Они допили остывший кофе и поднялись из-за столика, готовые сделать свои первые шаги навстречу тайне под водами Амура. Солнце за окнами кафе уже клонилось к горизонту, окрашивая небо над городом в предзакатные тона.
Глава 4
Голоса жителей
На следующее утро, следуя намеченному плану, Марина отправилась в посёлок Уссурийский. Она знала, что именно здесь, на левом берегу Амура, напротив моста, по свидетельствам местных жителей, чаще всего слышали странные звуки. Ранний час обещал тишину и возможность поговорить с теми, кто живёт у реки давно.
Переехав через мост на рейсовом автобусе, Марина вышла на тихой остановке. Утренний воздух был свеж и пронизан речной прохладой. Отсюда открывался панорамный вид на ажурные конструкции Амурского моста, величаво возвышающегося над широкой рекой.
Прохладный речной ветер приятно освежал лицо, а панорамные виды на Хабаровск, виднеющийся на противоположном берегу, и на спокойные воды Амура, казалось, замедляли спешку начинающегося дня. Улочки посёлка Уссурийский петляли среди буйной зелени садов, палисадников и огородов. Здесь царила атмосфера неспешности и умиротворения, словно ритм жизни замедлился, отдалившись от городской суеты и спешки. Ароматы цветущих яблонь и вишен смешивались с запахом влажной земли и свежескошенной травы, создавая ощущение уютной провинциальной идиллии.
Следуя указаниям Василия Сергеевича и ориентируясь по помеченной им карте, Марина начала обход. Улочки посёлка петляли среди зелени, каждый дом прятался за забором или калиткой. Она осторожно стучалась в покосившиеся деревянные калитки, за которыми угадывались ухоженные дворики. Представляясь журналисткой из столичного журнала, собирающей местные истории и предания, она с волнением ждала отклика.
Поначалу жители, непривычные к вниманию извне и, возможно, настороженные, встречали её сдержанно. Ответы были уклончивы. Они охотно говорили о реке – рыбалке, разливах, характере Амура, о своих огородах и повседневных заботах. Но о странных звуках – ни слова. Ничего необычного, что доносилось бы из-под воды, нарушая привычный покой берега. Лёгкое разочарование начало закрадываться в душу Марины. Неужели профессор ошибся? Неужели это просто старые байки?
Она уже подумывала сменить улицу, когда на пороге старенького, но крепкого домика с резными голубыми наличниками и горшками герани на окнах её встретила пожилая женщина – сухонькая, с удивительно живыми и добрыми глазами. Это была Анна Петровна. Узнав, что Марина собирает истории о жизни у Амура, она улыбнулась и радушно распахнула дверь.
Дом дышал уютом и теплом. Пахло свежей выпечкой и душистыми травами. Анна Петровна пригласила её за стол, накрытый кружевной скатертью, и, словно старую знакомую, угостила чаем с ароматным вареньем из лесных ягод и домашним печеньем.
– Ох, милая, историй у нас тут всяких накопилось за долгие годы, – задумчиво произнесла Анна Петровна, бережно удерживая старенькую фарфоровую чашку в своих дрожащих ладонях. Её взгляд был устремлён куда-то в прошлое, за пределы уютной кухни. – И про нашу реку-кормилицу всякое говорят… Амур – он ведь живой, со своим характером. То ласковый да щедрый, то суровый да непредсказуемый. А уж что под его водами таится… кто знает?
Марина внимательно слушала её неторопливую речь, стараясь не перебивать.
– Бывало, летними ночами, когда тишина такая стоит, что слышно, как комар над ухом звенит, слышали мы… будто кто-то стонет издалека, из-под воды. Тихо так, еле-еле, словно сама река вздыхает устало, жалуется на что-то. Муж мой покойный, Сергей, царствие ему небесное, всегда отмахивался, говорил, что это ветер так в прибрежных камышах шумит или баржи далеко по фарватеру идут, гудят. А мне всё казалось, что это сам Амур вздыхает, тоскует о чём-то своём, речном…
– И другие жители посёлка тоже слышали что-то подобное? – осторожно спросила Марина, стараясь не спугнуть хрупкую нить воспоминаний.
Анна Петровна медленно кивнула, её взгляд стал более сосредоточенным, словно она вновь переживала те моменты.
– Бывало, милая. Особенно старые люди замечали, те, кто чутко ко сну относился да к природе прислушивался. Молодёжь сейчас мало на что внимание обращает, всё в своих телефонах да компьютерах сидят, им не до речных вздохов. А вот раньше… Помню, соседка наша, тётя Груня, рассказывала, как однажды ночью её разбудили странные удары, будто кто-то тяжёлым молотком под водой стучал. И так ритмично, словно работу какую-то подводную вёл. Тук-тук… и снова тишина, словно кто-то спохватился и замер, прислушиваясь.
Марина почувствовала, как внутри неё что-то щёлкнуло. Эти разрозненные рассказы, полные личных интерпретаций, начали вырисовывать картину, удивительно похожую на слова Василия Сергеевича о странных акустических аномалиях. Он говорил о низкочастотном гуле, ударах и даже голосах. Источник, по его предположению, находился где-то у моста. Слова Анны Петровны стали первым подтверждением, что это не единичный случай и не фантазия одного человека.
Продолжая обход по тихим, утопающим в зелени улочкам Уссурийского, Марина стучалась в другие дома, расположенные ближе к реке. Жители по-прежнему отвечали сдержанно, но, услышав, что Анна Петровна уже поделилась воспоминаниями, некоторые становились разговорчивее.
– А помимо Анны Петровны, кто-нибудь ещё из соседей говорил о чём-то необычном, связанном с рекой? – осторожно спросила Марина.
Одна женщина средних лет, у которой окна выходили прямо на тёмную гладь Амура, помедлив, кивнула:
– Ох, милая, тут всякое рассказывают… А я вот сама слышала, бывало, по ночам… Такой гул, низкий, протяжный. Идёт откуда-то со стороны реки. Будто что-то тяжёлое двигается там, внизу. Окна старые аж дребезжали, тревожно как-то становилось.
Заядлый рыбак, проводивший на берегу большую часть своей жизни, на вопрос о странностях у реки прищурился:
– Река – она разная бывает… Но иногда вот сижу с удочкой ночью на своём местечке у самой воды… И чувствую – вибрация какая-то. Прямо через землю идёт. Словно там, внизу, что-то огромное гудит и дрожит. Непонятно что. Не похоже на баржу.
Самым поразительным оказалось свидетельство старого рыбака Николая. Его лицо, изрезанное глубокими морщинами, хранило житейскую мудрость.
– Профессор, который рассказал мне об этой истории, говорил, что некоторые даже слышали нечто похожее на голоса… Невероятно, конечно, но всё же… Вы не сталкивались с таким? – прямо спросила Марина, глядя ему в глаза.
Николай усмехнулся краешком губ, словно услышал давно знакомую, но всё ещё будоражащую историю.
– Голоса, говоришь? Было дело… Сам слышал. Не то чтобы прямо слова разобрать, нет. Но… будто шепчется кто-то там, в глубине. Тихо так… Непонятно что. Непонятно кто. Жутко, скажу тебе. Мурашки по коже бежали.
Это свидетельство вызвало у Марины особый интерес. Подземные голоса… Василий Сергеевич тоже упоминал их. Это выводило историю за рамки просто механических вибраций или природных явлений, намекая на нечто иное, возможно связанное с деятельностью или даже… присутствием.
К концу дня блокнот Марины был исписан. Разрозненные, порой туманные, но удивительно похожие свидетельства вырисовывали общую картину: странные, необъяснимые звуки действительно исходили из-под тёмных вод Амура, преимущественно в районе, хорошо просматривающемся от моста. Гул, удары, вибрация, шёпот… Каждая история была фрагментом большого, пока несобранного пазла.
Первый, самый важный шаг в её неофициальном расследовании был сделан. Теперь Марине не терпелось вернуться в город, чтобы поделиться находками с Василием Сергеевичем и вместе проанализировать полученную информацию. Она чувствовала, что они на верном пути и тайна «голосов Амура» постепенно начинает приоткрывать свои мрачные завесы, увлекая её вглубь неизведанного.
Глава 5
Первый шаг к тайне
Вечер мягко опустился на Хабаровск, зажигая первые огни города. Улицы погружались в синеву сумерек, деловая суета сменялась неспешным вечерним движением. В уютном кафе «Старый город», ставшем их временным штабом, Марина сидела у окна, наблюдая за меняющимся небом и чувствуя, как лёгкое волнение нарастает внутри. Она с нетерпением ждала возможности поделиться собранными свидетельствами. Чашка с недопитым чаем остывала на столике. Ей казалось, что после дней, проведённых среди официальных лиц и проблем демографии, возвращение к тайне – это глоток свежего воздуха. Когда Василий Сергеевич подошёл, аккуратный и спокойный, как всегда, в его глазах читалось не меньшее предвкушение. Ей казалось, он понимает её азарт лучше, чем кто-либо в этом городе.
– Василий Сергеевич! Я съездила в Уссурийский! – воскликнула Марина, едва профессор успел сесть напротив. Голос звенел от впечатлений прошедшего дня, в нём смешивались усталость от долгих часов на ногах и возбуждение от услышанных историй.
– Рассказывайте, Марина, рассказывайте, – он улыбнулся, устраиваясь у столика. – Что говорят голоса берега? Надеюсь, жители оказались разговорчивы?
Марина достала свой исписанный блокнот, листая страницы, заполненные неровным почерком и быстрыми пометками, порой цепляясь за ключевые слова, порой зарисовывая схемы, которые пыталась объяснить ей Анна Петровна.
– Разговорчивы… по-разному, – она усмехнулась, вспоминая первую настороженность жителей и то, как приходилось подбирать слова. – Сначала очень неохотно, про обычные дела – рыбалку, огороды, паводок. Но когда я упоминала старые предания, особенно про реку… и когда сказала, что не одна интересуюсь этой историей, что есть человек, который тоже слышал странные звуки, некоторые начинали говорить. Самое главное – звуки слышат! И не один человек! Есть разные описания, но все указывают на район моста, под водой.
Она снова взглянула в блокнот, пробегаясь глазами по записям.
– Вот, например… Одна бабушка, Анна Петровна, очень душевно рассказала про стоны. Будто река ночью вздыхает, устало так… Ей муж говорил, ветер это или баржи далеко идут. Но она чувствовала иначе, она уверена, что это Амур. А другие… Я говорила с рыбаками, с теми, кто у самой воды живёт. Они слышали глухой гул, постоянный или пульсирующий, вибрацию, от которой стены дрожат, стёкла звенят… Неприятные ощущения, чувство тревоги. И ритмичные удары! Несколько человек описывали, как будто кто-то под водой работает, стучит тяжело, с какой-то периодичностью. «Тук-тук… и тишина». Это звучит очень механически, правда?
Профессор слушал, внимательно кивая, иногда делая пометки в своём блокноте. Его обычное спокойствие сменилось сосредоточенностью учёного, наткнувшегося на интригующую задачу, которая может оказаться куда масштабнее, чем казалось.
– Интересно… «Стоны» реки, гул, вибрация, ритмичные удары… Ваша работа блестяще подтверждает, что это не единичные случаи и не просто легенды, не игра больного воображения. Это соответствует моим предположениям о физической природе аномалии, о возможном источнике физических колебаний. Удары особенно интригуют – это почти прямое указание на механическую активность, на какое-то устройство или процесс.
– А ещё… один старый рыбак, Николай, клянётся, что слышал под водой что-то похожее на шёпот или голоса! – Марина понизила голос, словно делясь самым большим, почти невероятным секретом, который выбивался из общей картины. – Ему даже показалось, что он различает отдельные слоги! Он сказал, что мурашки по коже бежали от этого. Другие тоже упоминали что-то похожее на неразборчивое бормотание из глубины.
Лицо профессора стало серьёзным, все следы улыбки исчезли. Взгляд из-под очков стал пронзительным.
– Шёпот… голоса… Вот это самое любопытное и самое сложное для научного объяснения. Это уже не укладывается в обычные представления об акустике тоннелей или реки.
Василий Сергеевич отложил блокнот Марины и достал свою неизменную кожаную папку.
– Ваш день был полон встреч с живыми свидетелями, Марина. Мой – с тенями прошлого и архивной пылью. Сегодня я провёл многие часы в душных, пахнущих старой бумагой и пылью университетских архивах. Перебирал пожелтевшие папки, отчёты прошлых лет, связанные с проектированием и строительством инфраструктурных объектов на Амуре… Найти что-то прямо по «объекту №4», конечно, не надеялся – слишком высок был гриф секретности в те годы и слишком хорошо, похоже, заметали следы. Но искал косвенные упоминания, любые данные, которые могли бы быть связаны с этим районом или необычными явлениями в Амуре в те годы. Часы рутинной, кропотливой работы, разочарование за разочарованием… И вот, когда я уже собирался уходить… я наткнулся на весьма интригующий документ!
Он торжественно, почти с трепетом поднял один из пожелтевших листов, словно это была древняя реликвия.
– Отчёт об акустических исследованиях Амура, датированный началом 1950-х годов. Рутинное исследование, связанное с нуждами судоходства и речного флота, но…
Он протянул Марине лист, испещрённый замысловатыми графиками с пиками и провалами, таблицами непонятных чисел и символов – результат работы ещё ламповых приборов тех лет.
– Обратите внимание на этот раздел. Здесь исследователи зафиксировали ряд аномальных звуковых колебаний именно в районе Амурского моста. Это были не обычные шумы течения или работы судов. Их параметры были… необычны, труднообъяснимы с точки зрения тогдашних представлений об акустике реки. Амплитуда, частотные характеристики, даже какая-то странная периодичность… Они не смогли дать им однозначного объяснения, попытались списать на особенности сложного течения реки в этом месте или какие-то малоизученные геофизические процессы – колебания грунта, связанные с тектоникой или давлением воды. Настоящие учёные тех лет, конечно, старались найти рациональное научное объяснение всему необъяснимому, что попадалось им на пути. Но, Марина, – голос профессора приобрёл убеждённость, взгляд стал пронзительным, в нём светился азарт открытия, – учитывая ваши сегодняшние свидетельства… учитывая, что звуки слышат десятилетиями в одном и том же месте… я почти уверен, что эти давние акустические аномалии и есть то самое «эхо из подземелья», которое слышат сейчас жители Уссурийского! Этот отчёт – первое научное подтверждение того, что явление реально, оно существовало уже в пятидесятые годы! Это не просто слухи, это явление с историей, зафиксированное приборами полвека назад!
Марина склонилась над листом, пытаясь разобраться в непонятных схемах, чувствуя вес этого старого документа, пахнущего пылью архивов и давно ушедшей эпохой. Научное подтверждение слухов… это меняло всё. Слухи обретали реальную основу.
– Но как насчёт голосов? Могут ли это быть какие-то причудливые акустические эффекты, вызванные отражением звуковых волн от подводных конструкций тоннеля? Какое-то эхо, искажённое водой и металлом? Или… может, это связано с теми геофизическими процессами, которые они упоминали в отчёте?
Василий Сергеевич на мгновение задумался, его взгляд устремился вдаль, словно он пытался визуализировать акустические процессы под толщей воды, представить себе распространение звуковых волн в этой сложной среде.
– Теоретически отражение звука в водной среде может искажать его, да, – он кивнул. – Звуковые волны ведут себя в воде совсем не так, как в воздухе. Могут возникать эхо, реверберации, интерференция, фокусировка звука в определённых точках. Это всё возможно. Но описание именно голосов… шёпота, с различимыми слогами… это уже выходит за рамки простого эха или искажения. Это намекает на источник, который сам производит такие звуки. Возможно, это нечто с собственной акустической активностью.
Он снова протёр очки. В его движениях появилась нервозность, которой не было раньше.
– Если исключить мистику – а мы должны её исключать, опираясь на научный подход и инженерную логику, – остаются физические явления. Что может создавать такие звуки под водой в заброшенном тоннеле? Механизмы? Но какие? Работающие сами по себе? Трещины в тоннеле, через которые просачивается вода под давлением, создавая свист или бульканье? Звучит не похоже на голоса. Геофизика? Сдвиги грунта, вызывающие шумы? Но тогда почему так локально и с какой-то периодичностью, как описывают удары? Остаётся… что-то иное. Возможно, связанное с тайной самого тоннеля, с его назначением, с тем, что там могло остаться после консервации или что там происходит сейчас. Или… что ещё более интригующе… может ли быть нечто, что использует тоннель как убежище или среду обитания? Это звучит фантастически, Марина, я понимаю. Но нельзя отбрасывать никакие версии, пока нет достаточных объективных данных.
Он отложил архивный отчёт, и его взгляд снова остановился на Марине, в нём горела смесь решимости и нешуточного беспокойства.
– На следующем этапе нам нужны именно объективные данные. Свидетельства очевидцев собраны, они указывают на реальность явления. Архивные подтверждения явления найдены, они указывают на его давность и научную необъяснимость в прошлом. Теперь пора применить науку, в прямом смысле слова, чтобы получить доказательства сегодня. Мы сможем использовать портативный гидроакустический комплекс Сергея Ивановича, доцента геологической кафедры, о котором я говорил.
Глаза Марины загорелись ярче.
– Вы договорились с ним? Мы сможем использовать его оборудование? Как оно выглядит? Насколько оно сложное?
– Я связался с ним, он заинтересовался историей и готов предоставить оборудование, – кивнул профессор. – Комплекс состоит из высокочувствительных гидрофонов – это подводные микрофоны – и регистрирующей аппаратуры, спектральных анализаторов, которые позволяют разложить звук на частоты и выявить его характеристики. Он достаточно чувствительный, чтобы уловить даже самые слабые колебания и вибрации под водой, даже если источник далеко или звук сильно приглушён. Он пояснил, как им пользоваться. Возможно, Сергей Иванович и сам присоединится позже, если мы найдём что-то действительно необычное. Но сначала… прежде чем подключать его непосредственно к нашим… э-э… полевым исследованиям, нам нужно самим убедиться в наличии аномалии в конкретной точке и попытаться её локализовать более точно. С помощью его оборудования.
Он посмотрел на Марину с решительным блеском в глазах, этот блеск с годами не угас, а лишь стал мудрее.
– Нам нужно будет провести несколько ночей на левом берегу, в тех самых местах, где, по вашим словам и согласно карте, эти странные звуки слышны наиболее отчётливо. Услышать их самим – хотя человеческое ухо не так чувствительно к низким частотам, как приборы, – и, главное, зафиксировать эти звуки приборами. Записать их, чтобы потом анализировать спектр, интенсивность, периодичность, попытаться выделить отдельные паттерны…
– Я готова к чему угодно, Василий Сергеевич! – с непоколебимой решимостью заявила Марина. Азарт настоящего расследования полностью захватил её, вытесняя мысли об усталости и официальной работе. Это было куда интереснее любых репортажей об экономике. – Чем скорее мы получим объективные записи, тем быстрее сможем приступить к анализу и, возможно, понять, что скрывается под Амуром. Может, найдём причину гула, ударов… Может, найдём причину голосов…
– Вот и отлично, Марина, – одобрительно кивнул профессор. В его голосе звучало предвкушение научного открытия, смешанное с чем-то ещё… Возможно, с давней надеждой, что тайна, связанная с его родным городом, наконец-то будет разгадана. Или с лёгкой тревогой от масштаба того, во что они ввязываются. – Тогда завтра вечером, как только над рекой сгустятся ночные сумерки, унося с собой дневной шум, мы отправимся на наше первое «прослушивание» Амура. Я захвачу оборудование Сергея Ивановича.
Они допили остывший кофе. Разговор перешёл к более бытовым темам – логистике поездки вечером, что взять с собой (термос с чаем, тёплые вещи, фонарь), как добраться до нужного места на берегу, где можно будет незаметно установить аппаратуру. Но под этой внешней обыденностью оба чувствовали, что говорят не о простом пикнике на природе. Это был старт чего-то гораздо более серьёзного.
Они поднялись из-за столика. За окнами кафе уже была совсем ночь, залитая светом фонарей и рекламных вывесок. Выйдя на улицу, Марина вдохнула прохладный вечерний воздух Хабаровска. Это был уже не просто город её командировки, не просто набор улиц и зданий. Теперь это был город, полный тайн. Город, под которым, возможно, таится нечто… живое? Технологическое? Или совершенно непостижимое?
– Возможно, эхо из этого загадочного подземного царства наконец-то заговорит с нами, раскрыв хотя бы часть своих вековых тайн, – тихо произнёс Василий Сергеевич, когда они прощались у входа в кафе. Его взгляд был устремлён куда-то в сторону реки. – Это не просто слухи, Марина. И не просто заброшенный тоннель или акустическая аномалия. Я чувствую, мы стоим на пороге чего-то… реального. Чего-то, что гораздо сложнее и, возможно, опаснее, чем мы предполагали.
В ответ Марина только кивнула, слов не требовалось. В её глазах горел огонь азарта и решимости, предвкушение приключения. Завтра вечером они отправятся в ночь, чтобы услышать… голоса из глубины. Настоящее приключение начиналось.
Глава 6
Ночные симфонии Амура
Вечером следующего дня Марина с профессором встретились в том же кафе.
– Когда мы можем забрать оборудование? – нетерпеливо спросила Марина. Мысль о том, чтобы прикоснуться к тайне с помощью науки, захватывала её.
– Хоть сейчас! – Профессор взглянул на часы. – Самое лучшее время для прослушивания Амура – это ночь, когда стихает дневной шум города и реки.
План созрел мгновенно. Закончив с чаем, они направились в университет, забрали у Сергея Ивановича увесистый кейс с аппаратурой и, получив последние инструкции по её использованию, направились на левый берег Амура, в тот самый район посёлка Уссурийский.
День клонился к вечеру. Ночь опустилась на левый берег Амура быстро, окутывая всё вокруг густой, почти осязаемой тьмой. Лишь изредка сквозь плотную листву прибрежных деревьев пробивались серебристые лучи полной луны, скользя по тёмной безмолвной глади реки. Воздух стал ощутимо прохладным и влажным, принося свежий речной бриз, смешанный с ароматами влажной земли и цветущей черёмухи из ближних палисадников посёлка. Тишину нарушали лишь нестройный хор ночных насекомых, монотонное стрекотание сверчков в высокой траве и вдалеке протяжное уханье филина, словно перекликающегося с древними тайнами, скрытыми в глубине реки. Марина поёжилась, плотнее запахивая куртку. Атмосфера была напряжённой, наполненной ожиданием неизведанного.
Василий Сергеевич двигался в призрачном лунном свете с удивительной для его возраста ловкостью и бесшумностью. Из вместительного багажника его видавшего виды «Ниссана» он извлёк тщательно упакованное гидроакустическое оборудование Сергея Ивановича, любезно предоставленное молодым доцентом с геологической кафедры. Это был портативный комплекс высокой чувствительности. Они выбрали место на берегу, немного защищённое от ветра кустарником, но достаточно открытое для установки аппаратуры у самой воды.
Три высокочувствительных всенаправленных микрофона (гидрофона), защищённые мягкими, пушистыми ветрозащитными экранами, вскоре застыли на берегу на тонконогих штативах, похожих на механических насекомых. Их чуткие «головы» были направлены в сторону чёрной, молчаливой воды. Толстые экранированные кабели, словно чёрные извилистые лианы, тянулись от каждого микрофона к компактному цифровому рекордеру, лежащему на складном походном столике рядом с раскрытым ноутбуком. Экран рекордера светился мягким синим светом, отображая каналы записи и уровни сигнала. На экране ноутбука мерцали окна программы спектрального анализа, готовой в режиме реального времени визуализировать акустические волны, которые уловят датчики. Профессор проверял надёжность соединений, его морщинистые пальцы осторожно ощупывали разъёмы, словно устанавливая связь с невидимым миром звуков под водой. Он выбирал точки установки с ювелирной точностью, прислушиваясь к ночной тишине, поворачивая седую голову, словно пытаясь уловить малейшие вибрации в ночном воздухе или воде. Несмотря на середину мая, ночной воздух у реки был ощутимо прохладен и сыр, пронизан ветром, но тёплая одежда, плотный плед Марины и термос с горячим чаем профессора помогали выдерживать низкую температуру и не замёрзнуть, хотя о комфорте говорить не приходилось. Им предстояла долгая и холодная ночь на берегу.
Устроившись неподалёку, укрывшись за густыми зарослями ракитника, чьи тонкие листья едва слышно шелестели под порывами ночного бриза, приносящего с реки свежесть и лёгкую прохладу, Марина наблюдала за его сосредоточенными действиями.
– Что это за оборудование, Василий Сергеевич? – прошептала она, стараясь не нарушить сосредоточенность момента. – Вы говорили, оно Сергея Ивановича? Просто гидрофоны?
Профессор закончил последний штрих настройки и повернулся к ней, его глаза блестели в лунном свете.
– Да, его, – ответил он тихо. – Очень точные приборы. Позволяют услышать то, что человеческое ухо не улавливает напрямую, особенно в низких частотах или очень слабые сигналы. Видите, эти микрофоны – фактически гидрофоны. Они ловят звук в воде совсем иначе, чем наши органы слуха. Мы используем их потому, что они обладают идеально ровной частотной характеристикой в невероятно широком диапазоне. Это как обрести сверхчувствительные уши, способные улавливать даже те звуковые волны, которые находятся за пределами обычного человеческого восприятия, в том числе низкочастотный инфразвук. – Он надел большие студийные наушники, плотно прижав их к ушам, и на мгновение замер, погрузившись в тишину ночи, словно настраивая свой внутренний слух на предстоящее звуковое откровение. – Рекордер ведёт запись в несжатом формате с высочайшим качеством, чтобы зафиксировать любое, даже самое слабое звуковое событие без потерь, – прошептал он через несколько секунд, не снимая наушников. – Мы пытаемся уловить те вибрации, те аномальные звуки, которые обычно остаются незамеченными для человека, но которые, по свидетельствам жителей, доносятся из глубин Амура.
Тишина повисла плотная, ощутимая. Время тянулось медленно, наполненное лишь естественными звуками ночного берега и едва слышным плеском воды у самого края. Луна поднималась всё выше, заливая окрестности своим холодным серебристым светом. Марина вглядывалась в тёмную гладь Амура, пытаясь почувствовать что-то, уловить хоть намёк на скрытую тайну. Каждая минута ожидания усиливала напряжение. Прохладный ветер с реки заставлял ёжиться, но любопытство и азарт расследования перевешивали физический дискомфорт.
– Странная тишина, правда? – прошептала Марина, не выдерживая напряжения, нарушая молчание. – Будто река замерла в ожидании… Или просто очень глубокая и… старая.
Профессор снял наушники на мгновение, его глаза встретились с её глазами в полумраке.
– Ожидание… Именно, Марина, – ответил он тихо. – Приборы тоже ждут. Ждут аномалии. Нужно терпение. В такой работе главное – терпение и внимание к малейшим деталям. Иногда самое важное скрывается в самых слабых сигналах.
Он снова надел наушники, погружаясь в мир звуков, недоступных обычному слуху. Василий Сергеевич периодически снимал их, протирал запотевшие стёкла очков и снова погружался в изучение бегущих по экрану едва различимых кривых, комментируя их про себя тихим шёпотом. Марина чувствовала, как с каждой минутой её сердце бьётся всё сильнее, – смесь предвкушения и первобытного страха перед неизвестным. Какая же тайна скрывается в этих тёмных, молчаливых водах, способная породить такие звуки?
Около половины первого ночи ожидание оборвалось первым, едва заметным сигналом. На экране появилась активность в самом низкочастотном диапазоне. Тонкая зелёная линия графика слабо заколебалась, словно от далёкого подземного вздоха, проникающего сквозь толщу воды и грунта.
– Есть! – выдохнул профессор, его голос прозвучал взволнованно, но тихо, словно боясь спугнуть неуловимый звук. Он быстро и плавно отрегулировал усиление на наушниках. Его лицо, освещённое холодным светом экрана, выражало крайнюю сосредоточенность. – Первый отчётливый сигнал. Амплитуда пока очень низкая, едва уловимая, но частота… в районе 25 герц. Чистый инфразвук. Не слышно человеческому уху как звук, но…
– Я… я чувствую что-то… – прошептала Марина, прислушиваясь к своим ощущениям, пытаясь уловить вибрацию через брезент и землю. – Лёгкое дрожание? В земле? В воздухе?
– Да, Марина, похоже! – подтвердил профессор, его глаза блеснули за стёклами очков. – Человеческое ухо его не слышит как звук, но тело может почувствовать вибрацию, низкочастотное давление. Оборудование фиксирует чётко. Слабая отчётливая волна. Словно глухое сердцебиение Амура, доносящееся из-под речного дна. Не похоже на обычные речные или геологические шумы в этом диапазоне. Никаких судов поблизости нет.
– Что это может быть, Василий Сергеевич? – прошептала Марина, чувствуя, как по спине пробегает лёгкий озноб, вызванный не холодом ночи, а этим неведомым ощущением под землёй. Нечто невидимое и мощное впервые заявило о своём присутствии через данные приборов.
– Пока рано делать выводы, Марина, – ответил профессор, снова сосредоточившись на экране. – Но это определённо не естественный шум реки. И не похоже на далёкую технику. Это… аномалия.
Затем, спустя мучительно долгие минуты напряжённой тишины, последовала серия отчётливых ударов. На спектрограмме они мгновенно вспыхнули яркими пиками в среднечастотном диапазоне (примерно 500—2000 Гц), словно кто-то бил тяжёлым металлическим молотом по твёрдой подводной поверхности. Характерные резкие гармоники, сопровождавшие каждый удар, говорили об искусственном, неестественном происхождении звука – это не был глухой стук камня о камень. Василий Сергеевич тут же схватил блокнот, дрожащей от волнения рукой быстро зафиксировал точное время появления каждого удара, его амплитуду и преобладающие частоты. Марина затаила дыхание, прислушиваясь не только ушами, но и всем телом, пытаясь физически ощутить эти звуки. Звук был глухой, отдалённый, проникающий словно сквозь толщу грунта и воды, но чувствовалась его мощь и… какая-то неестественность. Ледяные мурашки пробежали по коже.
– Что это было? – прошептала Марина, когда серия ударов закончилась и экран снова показал относительно ровную линию, лишь с отголосками в низких частотах.
Профессор не сразу ответил, его взгляд не отрывался от экрана, где он прокручивал запись назад.
– Удары… – тихо произнёс он, словно пытаясь понять сам. – Ритмичные… Фиксирую данные. Это не случайные гидроудары. Не сдвиги грунта при естественных процессах. Обратите внимание на последовательность, Марина, – он повернул к ней экран ноутбука, показывая дрожащим пальцем на графики. – Интервалы между ударами кажутся на первый взгляд хаотичными, совершенно случайными, но присмотритесь… Если исключить шумы… здесь прослеживается определённый, пусть и нарушенный, ритм. Неправильный, сбивчивый, но всё же ритм. Это… это совершенно неестественно для природы или для любой известной нам деятельности в этом месте. По крайней мере, с точки зрения стандартной инженерной акустики.
– Ритм? – переспросила Марина, её глаза расширились от удивления и нарастающего волнения. – Как будто кто-то… стучит? Целенаправленно? Там, внизу?
– Именно в этом и загадка, Марина, – голос профессора был напряжённым, он снова надел наушники. – Этот ритм… Он требует объяснения. Физического или… другого. Словно кто-то или что-то пытается подать нам сигнал. Или это рабочий ритм какого-то механизма… но такого странного характера?
– Сигнал? – прошептала Марина. Идея звучала одновременно дико и… захватывающе. – Вы действительно так думаете? Что это может быть сознательный сигнал?
– Пока это лишь одно из предположений, Марина, основанное на характере сигнала, – ответил профессор после паузы, его взгляд снова был прикован к экрану. – Но мы не можем исключать ни одной версии на данном этапе. Этот ритм… он неестественен. И это… это очень похоже на то, что описывали как удары жители Уссурийского. Теперь у нас есть его точная запись.
Напряжение нарастало с каждым новым звуком, с каждым пиком на графике. Ночь продолжалась, окутывая берег Амура своей таинственной и напряжённой тишиной. Луна поднялась высоко в небо, серебряным светом озаряя спящий посёлок на другом берегу. Профессор, словно заворожённый, не отрывал взгляда от экрана, терпеливо объясняя Марине особенности частотного анализа – что означают те или иные кривые, как выделить сигнал из шума. Он комментировал каждую новую, едва уловимую аномалию, появляющуюся на графиках.
– Видите? – прошептал он в какой-то момент, указывая пальцем на монитор. – Вот здесь… в этом диапазоне частот (примерно 1000—4000 Гц) едва различимый шум. Очень слабый. Но… он присутствует в нескольких записях. Похоже на то, что описывали как шёпот… или неразборчивое бормотание. Слушаем.
Он увеличил усиление на записи этого участка. Сквозь шипение и шумы Марина уловила что-то едва различимое, похожее на неразборчивые призвуки, которые действительно могли быть восприняты как шёпот из глубины. Это не было чёткой речью, но и не было похоже на случайный шум.
Марина вглядывалась в экран, пытаясь увидеть то, что видел он.
– Что это, Василий Сергеевич? Это те самые «голоса»?
Профессор прищурился.
– Трудно сказать без детального анализа и очистки сигнала. Приборы его уловили. Слишком слабый сигнал для чёткой идентификации, но он есть. Появляется в разные моменты, но в этом же частотном диапазоне и со схожим характером… Возможно, это и есть те самые «голоса», о которых говорят жители.
Марина почувствовала новый приступ мурашек. Шёпот… реальный, зафиксированный приборами шум в диапазоне голосов.
– Значит… это не просто легенды? Не игра воображения?
– У нас есть объективная фиксация, – подтвердил профессор, снова погружаясь в наушники. – Теперь нам предстоит понять, что это такое. Попытаться очистить сигнал от шума, усилить его… Сравнить с другими записями… Это работа для детального спектрального анализа, возможно, для Сергея Ивановича.
Он продолжал работать, пытаясь найти в этих странных звуках ключ к их происхождению, к их посланию. Марина чувствовала, как нарастает её собственное волнение, смешанное с первобытным страхом перед неизвестным, перед тем, что может скрываться там, внизу, на самом дне великой реки, что создаёт эту жуткую «симфонию» – смесь инфразвукового гула, ритмичных ударов и неуловимого шёпота. Что они услышат следующей ночью? Какие древние тайны хранит в себе эта великая река, безмолвно несущая свои тёмные воды к океану?
К рассвету жёсткий диск портативного рекордера был заполнен множеством аудиофайлов. Они содержали не просто ночные шумы реки, а отчётливо зафиксированные странные и пока совершенно необъяснимые звуки – инфразвуковые колебания, ритмичные удары с нерегулярным ритмом и те самые неуловимые «голоса», которые удалось уловить лишь как едва различимые шумы в определённом частотном диапазоне, требующие детального анализа. Звуки, донёсшиеся словно из самого сердца Амура. Ночная симфония закончилась, оставив после себя больше вопросов, чем ответов, но теперь были доказательства, зафиксированные приборами.
Упаковывая оборудование, Василий Сергеевич посмотрел на Марину, его лицо было усталым, но глаза горели.
– Первый шаг сделан, Марина, – произнёс он тихо. – Мы зафиксировали их. Эти звуки реальны. Это не вымысел.
– Реальны… – повторила Марина, чувствуя вес этого слова. Тайна становилась осязаемой, переходя из области слухов и легенд в область научных данных, зафиксированных приборами. Теперь им предстояло понять, что именно эти данные означают и что именно скрывается под водами Амура.
Глава 7
Эхо из забытых глубин
Утро следующего дня, хмурое и дождливое, не принесло отдыха Василию Сергеевичу. Оно застало его уже глубоко погружённым в работу в его святая святых – лаборатории, которая куда больше напоминала кабинет чудаковатого коллекционера, чем современный научный центр. Стеллажи, громоздившиеся до самого потолка, были заставлены рядами винтажных приборов, словно артефактами ушедшей эпохи, пережившими забвение и пыль десятилетий: ламповые осциллографы с их загадочно мерцающими зеленоватыми экранами, стрелочные вольтметры в потемневших корпусах, изящные коробки измерительных мостов, разобранные на части акустические системы, обнажавшие свои медные обмотки и хрупкие диффузоры. В углу, подобно монументу прошлому, стояла массивная стойка с аналоговыми усилителями и эквалайзерами, чьи бесчисленные ручки и ползунки казались застывшими в ожидании прикосновения мастера звука. В воздухе витал сложный, едва уловимый аромат – смесь въевшейся пыли, старого металла и характерного запаха озона, который всегда сопутствует работающей электронике. Это был запах научных тайн, настаивавшихся годами.
Рабочий стол профессора представлял собой живописный беспорядок, в котором тем не менее чувствовалась своя внутренняя логика – отражение неуёмной энергии и широты его мысли. Среди хаотично разбросанных распечатанных спектрограмм, испещрённых пометками и стрелками, стопок исписанных формулами блокнотов и нескольких остывших чашек с тёмным чайным налётом небрежно лежали разнообразные инструменты: прецизионные отвёртки, тонкие пинцеты, лупы, даже старый студийный микрофон с сияющим хромированным корпусом, выглядевший реликвией из золотого века звукозаписи. И в самом центре этого царства аналоговых призраков, словно яркий маяк, сиял экраном мощный современный компьютер. На его мониторе сменяли друг друга графики волновых форм и частотные спектры – живое, дышащее эхо ночной симфонии Амура. На голове Василия Сергеевича покоились видавшие виды, но по-прежнему безупречные студийные наушники, которые давно уже стали неотъемлемой частью его самого, инструментом, позволяющим проникнуть в неслышимый мир звука. Через них он внимательно вслушивался в записи, пытаясь выудить из шума крупицы истины, разгадать скрытый смысл таинственных колебаний.
Марина наблюдала за ним, держа в руках чашку с горячим, обжигающим кофе. Вкус горечи и лёгкая сладость помогали прогнать остатки ночной усталости. Лицо профессора было сосредоточенным, лоб изборождён глубокими морщинами, брови сведены к переносице. Он казался дирижёром невидимого оркестра звуковых волн, пытающимся уловить диссонанс в их сложном звучании. Время от времени он снимал один наушник и поворачивался к Марине, чтобы поделиться первыми, ещё очень предварительными наблюдениями, словно приглашая её заглянуть в этот сложный мир.
– Видите эту горизонтальную ось, Марина? – его голос звучал приглушённо, сохраняя интонации человека, слушающего тончайшие нюансы. – Это временная шкала. Каждый маленький тик, каждая метка – это лишь мгновение в потоке времени. А вот вертикальная ось показывает амплитуду звуковой волны – это, по сути, сила колебания, которую зафиксировал наш чуткий гидрофон в воде. – Он провёл по экрану кончиком указки, оставляя на нём едва заметный след. – Обратите внимание на эти резкие, почти вертикальные линии. Это импульсные звуки, те самые загадочные удары, которые так отчётливо слышали люди в Уссурийском. Их форма… посмотрите, какая она сложная, изрезанная! Множество мелких пиков и спадов, словно не одно, а множество столкновений, слившихся в один краткий миг. Это определённо говорит о том, что звук возник не от простого одиночного удара, а от какого-то сложного механического взаимодействия. Возможно, это скрежет металла о камень или бетон или серия быстрых, последовательных ударов, которые наше ухо воспринимает как один. Под водой звук распространяется и отражается совсем иначе, чем в воздухе, поэтому однозначно интерпретировать их природу пока невозможно.
Профессор, не отрывая взгляда от экрана, ловким движением мыши переключился на окно спектрального анализа. На экране появилась новая картина – яркие цветовые пятна и полосы, распределённые по осям.
– А это, Марина, – пояснил он, кивнув на экран, – спектрограмма. Здесь мы видим, как звуковая энергия распределяется по частотам. Горизонтальная ось – это частота в герцах, от самых низких басов, которые мы скорее чувствуем телом, чем слышим, до самых высоких, пронзительных звуков. Вертикальная ось – интенсивность. Чем ярче пятно, тем сильнее энергия звука на этой частоте. – Он снова указал на экран. – Основной гул, о котором упоминали жители, сосредоточен в самом низкочастотном диапазоне, ниже ста герц. Это может быть вибрация массивных подводных конструкций, мощное течение, создающее турбулентность, или даже резонанс чего-то очень большого. Но вот здесь… посмотрите внимательно, в среднечастотном диапазоне, примерно от пятисот до двух тысяч герц, мы видим устойчивые, хоть и не слишком яркие пики. Это не обычный шум реки. Это могут быть резонансные частоты некоего искусственного объекта, возможно, его конструкций. Или даже следы работы какого-то механизма, издающего специфический гул.
Когда дело дошло до записей, где, предположительно, были слышны «голоса», Василий Сергеевич углубился в ещё более сложные технические детали, его голос выдавал возрастающее профессиональное волнение.
– Анализ вокализаций – это исключительно сложная задача, Марина, особенно когда сигнал такой слабый и зашумлённый. Человеческая речь имеет очень специфическую структуру – так называемые форманты, это частотные пики, которые формируются нашим голосовым трактом. В этих записях… – он прищурился, вглядываясь в экран, – сигнал очень слабый, почти на уровне шума. Но программа пытается выделить повторяющиеся паттерны, которые могли бы быть формантами. Видите эти едва заметные, размытые полосы? – он указал на тонкие линии. – Теоретически, при очень большом желании и доле фантазии, это могут быть следы голосовых связок. Но уровень шума настолько высок, что я не могу быть уверен. Мне придётся применить гораздо более сложные алгоритмы, специальные фильтры, возможно даже, попробовать обучить нейронную сеть выделить эти звуки из общего шума. Это долгий и очень кропотливый процесс. Потребуется много времени и… нервов.
Наконец профессор вернулся к общему графику всех зарегистрированных за ночь событий. Он обвёл указкой временную шкалу.
– И вот самое важное, Марина, – его голос стал серьёзнее. – Обратите внимание на отсутствие корреляции. Пики этой аномальной активности не совпадают ни с графиком движения поездов по мосту, ни с данными гидрометеослужбы. Уровень воды был стабилен, погода обычная. Эти звуки возникают спонтанно, без видимой внешней причины. Это почти полностью исключает обычные природные или стандартные техногенные объяснения. Мы имеем дело с чем-то, что подчиняется собственной, скрытой логике. Возможно, с внутренними процессами в каком-то искусственном сооружении под рекой.
Василий Сергеевич откинулся на своём скрипучем стуле, его взгляд устремлён был в запылённый потолок лаборатории, словно он пытался увидеть источник тайны сквозь бетонные перекрытия и толщу воды.
– Подводный тоннель, о котором мы говорили… да, он становится всё более вероятным кандидатом на источник. Но характер этих звуков… они слишком сложны и загадочны для просто заброшенной конструкции. Инфразвук, ритмичные удары, эти слабые «голоса»… здесь кроется что-то ещё. Какая-то тайна, которая пока ускользает. – Он снова посмотрел на Марину, и в его усталых глазах вспыхнул прежний азарт исследователя. – И мне не терпится докопаться до самой сути. Это… это словно послание. Из темноты, из глубины. И мы должны его прочесть.
Глава 8
В лабиринтах университетской библиотеки
Кропотливый анализ ночных записей не принёс однозначных ответов. Звуки Амура, казалось, говорили на непонятном языке вибраций и частот, ускользая от простого научного объяснения. После нескольких часов напряжённых размышлений и оживлённой дискуссии в уютной, пропахшей старым железом и озоном лаборатории Марина и Василий Сергеевич пришли к единодушному мнению: пора менять тактику. Их интуиция, обострённая ощущением тайны, подсказывала, что ключ к разгадке странных, необъяснимых звуков лежит не в настоящем, а глубоко в прошлом – в запутанной, вероятно намеренно скрытой истории загадочного «объекта №4».
– Василий Сергеевич… – задумчиво произнесла Марина, её взгляд скользил по плотным рядам книжных корешков на высоких стеллажах университетской библиотеки. Тишина здесь была густой, почти осязаемой, лишь изредка нарушаемой далёким кашлем или шёпотом. В воздухе витал ни с чем не сравнимый запах старой бумаги, клея и тихого времени. – Если об этом подводном тоннеле действительно знали немногие, если его существование десятилетиями так тщательно скрывали, то где нам искать хоть какие-то зацепки? Официальные архивы, доступные сейчас, наверняка давно зачищены. Но что насчёт неофициального? Местная пресса того времени, личные дневники инженеров, воспоминания строителей – если что-то из этого сохранилось?
– Вы мыслите абсолютно верно, Марина! – воскликнул Василий Сергеевич, его обычно спокойное лицо оживилось. Глаза за стёклами очков блестели азартом исследователя. Они сидели за массивным дубовым столом, окружённые горами пожелтевших газетных подшивок, пахнущих типографской краской и историей, и тяжёлыми, пахнущими кожей томами архивных дел. Высокие стрельчатые окна библиотеки пропускали внутрь приглушённый дневной свет, высвечивая золотистые частицы пыли в воздухе и создавая атмосферу сосредоточенной тайны. – Прямых упоминаний о секретном подводном тоннеле, конечно, мы не найдём. Но представьте: такой масштабный секретный проект не мог пройти бесследно. Он должен был оставить эхо в окружающем мире. Сопутствующие события, которые могли попасть в газеты, остаться в памяти горожан или хотя бы мельком упоминаться в документах других ведомств.
– Например? – Марина подалась вперёд, её журналистский интерес вспыхнул. Она отложила в сторону толстый том «Амурской правды».
– Например, – профессор погладил свою седую бородку, – прибытие в Хабаровск большого числа инженеров, необычные по масштабу строительные работы в конкретном районе Амура, которые могли вызвать вопросы у местных или привести к неудобствам. Происшествия, несчастные случаи на стройке, попавшие в криминальную хронику или отчёты профсоюзов. Даже упоминания о нехватке специфических материалов, указывающие на характер проекта. Мы должны стать историческими детективами, Марина. Искать косвенные улики, читать между строк пожелтевших страниц, словно археологи, раскапывающие слои прошлого.
Они провели несколько долгих, утомительных дней в прохладных, пахнущих пылью и нафталином хранилищах. Марина, благодаря своей журналистской интуиции, способной выхватывать главное из моря информации, просматривала заголовки, мелкие заметки в местных газетах 1920—1940-х годов. Она искала любые упоминания о строительстве, транспорте, промышленности, необычных событиях в районе Амура. Василий Сергеевич, вооружившись лупой и своим инженерным складом ума, методично изучал технические отчёты, протоколы заседаний советов, выискивая намёки на гидротехнические работы, железнодорожное строительство у моста.
– Василий Сергеевич, смотрите! – Голос Марины прозвучал приглушённо в тишине, но в нём звенело волнение. Она протянула ему пожелтевшую подшивку «Дальневосточного комсомольца» за июль 1932 года. – Небольшая заметка на третьей странице. О торжественной встрече на хабаровском вокзале большой группы инженеров-метростроевцев! Прибыли специальным поездом из Москвы! Говорится, что они направлены для участия в некоем «специальном проекте, имеющем первостепенное значение». Никаких деталей, конечно. Но метростроевцы… Это вряд ли совпадение, учитывая наши предположения о подземном объекте.
– Хм… Весьма любопытно, Марина, весьма любопытно. – Профессор склонился над газетой, разглядывая вырезку через лупу. Его брови задумчиво сдвинулись. – Специалисты такого профиля… зачем они в Хабаровске в начале тридцатых, когда никакого метро тут не планировали? Это серьёзная зацепка.
Позже уже профессор привлёк внимание Марины. Он протянул ей несколько старых, пахнущих пылью чёрно-белых фотографий из фондов краеведческого музея. На обороте чернилами было написано: 1932—1934 годы.
