Самара-мама
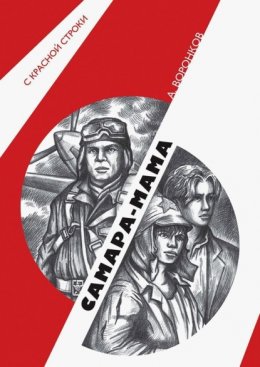
© Издательство «РуДа», 2022
© А. А. Воронков, текст, 2022
© Д. С. Селевёрстов, иллюстрации, 2022
© Н. В. Мельгунова, художественное оформление, 2022
Моему отцу и его друзьям, бывшим самарским беспризорникам, которые, преодолев все жизненные невзгоды, сумели стать достойными людьми, посвящаю.
От автора
В этом романе я не старался взять на себя роль историка, чтобы скрупулезно исследовать те или иные события столетней давности – просто я хотел художественным языком рассказать о том, что в свое время услышал от своего отца и его друзей детства, оставшихся после Гражданской войны сиротами, а также, опираясь на подлинно исторические факты, почерпнутые мной из архивов и открытых источников, воссоздать атмосферу послереволюционной России.
Часть первая
Безотцовщина
1
Не успела Александра накрыть стол в горенке, как в окошко кто-то негромко постучал. Дети, занявшие было свои места за столом, выжидающе посмотрели на мать. Дескать, а ты не хочешь взглянуть, кто это там к нам пришел? Но мать не спешила. Ну кто добрый к ним может прийти? Муж – на фронте, разве что кто из кулаков, которые после недавнего переворота пленных белочехов подняли головы. А то ведь еще недавно, когда в губернии заправляли большевики, нос свой боялись высунуть на улицу. А теперь рыщут повсюду, все пытаются обнаружить очередного прибывшего на побывку с фронта красноармейца. Они и к Сокольниковым уже не раз наведывались и ее, Александру, расспрашивали с пристрастием, где, мол, сейчас находится Сергей и давно ли он приезжал домой. Вот и сейчас, поди, кто-нибудь из этих дьяволов явился, чтобы что-то вынюхать…
Александра подошла к окну, приоткрыла занавеску и увидела худого бородатого человека в длиннополой солдатской шинели с трехлинейкой за плечами.
«Ба! Да это же мой Сережка», – екнуло у нее сердце. Нет, не случайно она так беспокойно спала эту ночь. И все думала о нем, своем Сереже. Где он? Жив ли? Здоров ли?.. Не забыл ли ее? А ведь она уже измучилась его ждать. Как в 1914-м взяли его на Германскую, так до сих пор и воюет. Когда с немцами был подписан мирный договор, решила, что все муки ее кончились, дескать, вот сейчас вернется домой Сергей, за которого она за год до начала войны вышла замуж, и они заживут, наконец, по-людски. Хватит уже горе мыкать. Чай, пятерых детей нарожали, а пожить-то по-настоящему еще и не пожили.
Бывало, приедет муж на побывку, налюбятся они, наласкаются, после чего она непременно понесет, и когда он в следующий раз явится в краткосрочный отпуск, то знакомится с очередным новорожденным дитем. Так что без отца начинался долгий путь младших Сокольниковых по жизни. Считай, не родители, а мать с отцом Александры их воспитанием занимались. Там их и кормили-поили, там и ласку они получали да читать-писать учились. А то ведь Александре одной не справиться было. А Сережка получит очередной отпуск в своей части, заглянет на денек, а потом снова на фронт возвращается. Ну, когда с немцами шла война, было понятно – надо землю родную защищать. А теперь-то что это за война? Брат пошел на брата – и воюют, окаянные, друг против дружки, словно злейшие враги. Вот и Сергей говорил, что нехорошая это война. «Так бросай тогда все и возвращайся домой!» – сказала ему Александра. Но разве он вернется? Эти большевики еще на фронте затуманили ему мозги своими байками о жизни лучшей. Сам рассказывал, как их там эти социалисты агитировали, книжки всякие запретные давали читать, против царя настраивали. Так с войны и вернулся другим человеком. Ему бы к детишкам, а он, понимаешь, в какую-то Красную гвардию подался к своему фронтовому товарищу по фамилии Чапаев. Теперь воюют со своими же, с теми, кто не поддался агитации этих бунтарей, кто решил за царя стоять до конца. Ну не дело это – воевать со своими. Правда, такое уже было в давние времена, когда в стране все было поделено на княжества, которые не могли ужиться друг с другом, и о том в книжках прописано, что покоятся в библиотеке ее отца, Петра Алексеевича Уралова, чьи предки верой и правдой служили государям, за что и получали высокие награды, звания и титулы. Был среди них даже один царский министр, который отвечал не то за образование, не то за науку в России. Были придворные люди, всякие там графья да князья, а также генералы, прославившие свою фамилию – одни в войне с Наполеоном, другие во время кавказских и крымских кампаний.
2
От отца своего Петра Алексеевича Александра знала, что Ураловы с незапамятных времен принадлежали к привилегированному слою однодворцев и даже находились в родстве с самарским дворянским родом Ураловых. В конце XVIII века здешние кураповские Ураловы владели крепостными крестьянами; род их был наиболее многочисленным в Кураповке. У одной из ветвей рода, если верить документам, находилось во владении четыре крепостные души. Через несколько лет после отмены крепостного права однодворцы получили статус государственных крестьян.
А вот у Сергея Сокольникова, мужа Александры, родители – потомственные малоимущие крестьяне, хотя крепостными никогда не были, что и сказалось на их отношении к жизни. Был в них неукротимый вольный дух и такая же неукротимая тяга ко всему новому, делающему человека более счастливым и устроенным в жизни. Будучи на разных ступенях социальной лестницы, Ураловы и Сокольниковы близко не сходились. При встрече на улице могли только раскланяться. И каким же было разочарование родителей Александры, всю жизнь лелеявших свою дочь и мечтавших выдать ее замуж за какого-нибудь богатого и образованного человека, когда она по уши влюбилась в сына местного старосты Василия Андреевича Сокольникова Сережку. Пытались образумить ее, да куда там! Если, мол, выйду за кого, то только за моего Сереженьку. В конце концов уступили родители. Первым сдался Петр Алексеевич, посчитавший, что если вплотную заняться этим смекалистым симпатягой Сережкой Сокольниковым, то из него может получиться неплохой семьянин. А что? Человек он грамотный, честный, толковый и, что немаловажно – целеустремленный. И Петр Алексеевич оказался во многом прав. Вот ведь сходил Сережка на Германскую – и возвратился оттуда с полным комплектом Георгиевских крестов да еще при звании унтер-офицер, отчего сразу заслужил почет и уважение у своих сельчан. И девки за ним стали увиваться, только он не обращал на них внимания. А зачем? У него жена, дети. После женитьбы на Сашеньке Ураловой Сергей на те деньги, что собрал, батрача на кулаков, поставил в самом центре Кураповки избу с тремя окнами, выходящими на главную улицу села. Детишек долго ждать не пришлось. Уже через год у них появился Ивашка, а потом пошло-поехало. После первого мужика одна за другой родились две девки, Мария и Валентина, а потом снова был мужик. Об этом Александра сообщила Сережке письмом на фронт, где тот мерз в окопах. Сыночка в честь матери назвали Санькой. Ну а последышем стал Ленька, которого Петр Алексеевич с супругой Анастасией Николаевной тут же взяли к себе на воспитание.
Отец Александры не скрывал своего разочарования в том, что семья его дочери живет в забытой богом деревеньке. Не раз он говорил им, чтобы они перебирались в Самару, где больше возможностей выбиться в люди. Все-таки губернская столица, при этом самый крупный купеческий город на Средней Волге, с развитой промышленностью и банковской системой. Ну, в крайнем случае готов был благословить их и на село Богатое, до которого рукой подать. Село это большое, красивое – не чета Кураповке: полсотни улиц, не считая девяти переулков и одного проезда. Там и станция железнодорожная имелась, там же, в большом двухэтажном здании волостного правления, находилась и местная администрация. По вечерам на обустроенной набережной реки Самары гуляли парами, а то и целыми семьями. Жители Богатого гордились тем, что село их старинное. Основано оно было еще в середине XVIII века на Большой Московской дороге, протянувшейся вдоль Самарской укреплённой линии. В свое время эта линия сдерживала вооруженные полчища кочевников, стремившихся вторгнуться на исконно русские земли. Вот на середине Московской дороги, между Красносамарской и Борской крепостями, и располагался известный на всю округу трактир под названием «Богатый Умёт» (умётом называли укрытие от непогоды). Вдоль реки Самары тянулся большой сосновый лес, где водилось много дичи. Первыми поселенцами новообразованной слободы Богатый Умёт были беглые крестьяне и добровольные переселенцы из Нижегородского, Арзамасского и других уездов. В период с 1767 по 1772 гг. казенные земли между Красносамарской и Борской крепостями в урочищах Богатого Умёта купил дворянин Павел Степанович Обухов вместе с родственниками, основав там селение Павловку, сохранившую и прежнее название места – Богатый Умёт, или просто Богатое.
Как и большинстве сел губернии, население Богатого занималось сельским хозяйством. Правда, к концу XIV столетия здесь стали появляться и промышленные предприятия. Так, в 1890-х годах неподалёку от села действовали паровой сахарный завод Богатовского товарищества, конский завод, а также мельницы Аржанова и Шихобалова. В состав селения и прихода Богатовской церкви входили также посёлки, возникшие при этих предприятиях – Степановка, Умётовский (при мельнице Шихобалова и сахарном заводе), а также деревня Кураповка.
3
Александра вышла в сени, чтобы отпереть дверь в избу и впустить нежданного гостя… Мгновение – и вот уже она млеет от счастья в крепких руках мужа.
– Да будя тебе, медведь! – легонько ойкнув, простонала Александра. – Отпусти! Да и неча в сенях-то толкаться. Пойдем в дом, не то суп остынет.
– Суп? – переспрашивает Сергей. – Это хорошо… Поди, с мясцом еще.
– Куриный, Сереженька, с домашней лапшицей – такой, какой ты любишь. Ты там, на своей войне, поди, соскучился по домашним харчам-то?
– Соскучился, милая, ох как соскучился – и по харчам, и по тебе, и по деткам… Как там они, все ли живы-здоровы?
– Да живехоньки, что с ними станется? Чай, на глазах у меня растут. Так что не беспокойся! Уж как они измаялись, ожидаючи тебя, – пожаловалась жена. – Ну давай, войдем в дом – там все и увидишь сам. Скажи, – вдруг спохватилась Александра, – тебя никто из соседей не видел, когда ты шел домой? А то у нас тут неспокойно. Белочехи повсюду хозяйничают, ну и наше кулачье не отстает, лютует – не приведи господи!
– Да я вроде слежки за собой не заметил, – говорит Сергей. – Разве что Елисеевы меня видели из окна, – вспомнил он вдруг. – Но они-то, я думаю, не должны донести. Чай, всю жизнь бок о бок живем, да и детки наши с их ребятней вместе хороводятся – давно уже будто бы родные стали.
– Ладно, пошли в дом! – снова тащит мужа за рукав Александра.
– Ну, здравствуйте, детки мои дорогие! – перешагнув порог дома и оказавшись в передней, громко произнес Сергей. – Как вы тут без меня? Все ли у вас хорошо?
Первым, выскочив из-за стола, бросился ему навстречу старший, Иван.
– Да все хорошо, батька, все хорошо! – ответил он. – А ты как там воюешь? Скоро ли беляков добьете, а то тут кулаки жизни людям не дают, пора бы и их прижать к ногтю.
– Скоро, сынок, скоро с белыми покончим, – говорит отец. – А там и с кулаками разберемся.
– Знаешь, бать, как они зверствуют тут! Жуть сколько народу погубили! Вот и вчера вытащили из дома, как последнюю собаку, Евстратия Бочарова – и к стенке поставили.
– Неужто расстреляли Евстрашку? – удивился отец. – Первый добряк и балагур ведь был на селе. Как мы теперь без него?..
– Да, бать, расстреляли! А до этого Степана Евсеева перед управой на березе повесили. И только за то, что в Красной Армии служили…
– Ну и мы их жалеть не будем! – пообещал отец.
Следом за Иваном подошли и другие дети, и всех он обнял и обласкал.
– А Ленька-то где у нас, аль дома нет? – пошарив глазами вокруг и не увидев самого младшего отпрыска, спросил Сергей.
– До вчерашнего дня у моих родителей жил, но сегодня утром я привела его домой – будто бы чуяла, что ты придешь, – ответила Александра.
– И где же он? А то я ему тут гостинец принес, вот – кулечек с вишней, на станции в Богатом Умёте купил. Бабка одна продавала, уверяла, что поспела ягодка-то, да уж и пора ей спеть, чай, август на носу… Ну так где наш пацан?
– Да где ж ему быть – в своей зыбке, конечно. Носился-носился по дому и притомился вконец. Там, – указала она взгдядом на смежную комнату, где была их с Сергеем спальня.
Сергей отодвинул занавеску и вошел. Завидев зыбку, наклонился над ней и провел своей шершавой ладонью по Ленькиным волосам.
– Ну, здравствуй, сыночек мой дорогой. Да ты спи, спи, не обращай на меня внимания, – заметив, что тот открыл глаза, произнес он. – Я ведь только взглянуть на тебя зашел.
Но разве Ленька будет валяться в постели, когда рядом с ним родной батька, по которому он давно уже скучает.
– Батенька, родненький, – бросился он к отцу на шею. – Ты когда приехал? А саблю привез с собой? Нет? А я так хотел подержать ее в руках.
– Еще подержишь, сынок, – прослезившись от такой теплой встречи с сыном, сказал Сергей. В этот момент где-то за стеной раздался знакомый бас: «Александра! Да где ж Серега-то? Куда ты его спрятала?»
– Да никуда я его не прятала – в спаленке он нашей, с сыночком, с Ленечкой разговаривает.
– Бежать ему надо! Бежать! – неожиданно услышал Сергей. – При этом срочно! Ваши соседи Елисеевы, чтоб им шкворень в одно место вставили, донесли, дьяволы, на него. Я как раз в сельской управе бумаги кой-какие выправлял, когда они пожаловали. Только зашли и сразу с порога: «Сергей Сокольников, падла, домой прибыл!» Тут же кулачье наше затопало ногами. «Ловить надо – и к стенке», – орут. А потом выскакивают из конторы – и на коней. Я вижу такое дело – тут же к вам побежал. В общем, хватит лясы точить – надо торопиться, не то беда случится. Серега! Хватит сюсюкаться, не до этого сейчас – каждая минута дорога. Давай, вылезай из закутка!..
– Батька, ты что, уже уходишь? – заметив, как заметался по комнате отец, спросил Алешка.
– Приходится, сынок, – говорит отец. – Ты же слышал, что дядька Андрей сказал…
Конечно же, Ленька все слышал и до смерти перепугался за отца. Сразу вспомнил, как намедни дядька Илья Федосов, один из самых злющих здешних кулаков, приставал к нему с расспросами: давно ли, мол, отец появлялся дома и где он сейчас находится. Страшный этот дядька Илья. Смотрит на тебя своими волчьими глазами и будто бы пронизывает насквозь. Конечно же, Ленька и не думал ему что-то рассказывать, да и рассказывать было нечего – отца-то они всей семьей почитай уже полгода не видели.
Отец обнял напоследок Леньку, сунул ему в руки кулек с ягодками, которые тот потом всю жизнь вспоминал, потому как это был последний отцовский подарок. Вспоминал он потом и то, как они, бывало, отужинав, зимой всей семьей садились подле дышащий жаром печки; отец брал в руки балалайку и, легонько брынькая на ней, начинал запевать своим хорошо поставленным голосом:
- Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
- Горишь ты вся в огне!
- Тоскую я по родине,
- По дальней стороне.
После этого вступали хором уже все члены семьи:
- Сынов всех девять у меня,
- Троих уж нет в живых,
- А за свободу борются
- Шесть юных остальных.
- А старший сын – старик седой
- Убит был на войне:
- Он без молитвы, без креста
- Зарыт в чужой земле.
- А младший сын – тринадцать лет —
- Просился на войну,
- Но я сказал, что нет, нет, нет —
- Малютку не возьму.
- «Отец, отец, возьми меня
- С собою на войну —
- Я жертвую за родину
- Младую жизнь свою».
- Я выслушал его слова,
- Обнял, поцеловал
- И в тот же день, и в тот же час
- На поле брани взял.
- Однажды при сражении
- Отбит был наш обоз,
- Малютка на позицию
- Ползком патрон принес.
– Бать, а что такое Трансвааль? – однажды спросил Ленька отца. Ему нравилась песня, и он очень жалел молодых пацанов, которые в борьбе за свободу своей родины готовы были отдать жизни.
– Страна какая-то далекая, – отвечает тот. – Но ты лучше к деду своему Петру обратись – он у нас самый знающий, ты ж видел, сколько у него книг – больше, чем звезд на небе.
Ленька тогда не знал, что песня про Трансвааль – страну, где шла Англо-бурская война, была написана на слова какой-то русской барышни-поэтессы. А мелодия появилась под влиянием народной песни «Среди долины ровныя». Песня пользовалась в России популярностью и после Англо-бурской войны, ставшей важным событием начала двадцатого века, особенно во время Первой мировой и Гражданской войн.
4
…Наскоро простившись с женой и детьми, Сергей бросился на железнодорожную станцию, что находилась в селе Богатом, благо всего-то и нужно было на гору подняться.
– Когда теперь ждать-то тебя? – поцеловав мужа в небритую щеку, спросила его Александра.
– Уж и не знаю, – ответил Сергей. – Теперь, видно, только когда беляков добьем. Вы тут не скучайте без меня, да и особо не бойтесь за мою жизнь. Ничего со мной не случится. У нас там такая сила! Видя это, беляки без оглядки от нас бегут. Так и будут бежать, пока мы сами не остановимся. Да разве с нашим начдивом остановишься? Когда он знает только одно слово: «Вперед!» Вот мы и жмем. Чапай впереди, а мы за ним. Но ему легче – с ним баба его всегда. Ночь на сеновале с ней проваляется, а утром бодр, как тот сельский петух, и готов дальше воевать. Другие бы тоже так жить хотели – не дозволяет. Неча, говорит, генеральские замашки перенимать. Но самого не трожь. Посадит свое семейство на телегу – и везет через всю заволжскую степь да по уральским ухабинам. А мы только облизываемся, глядя на то, как он бабу свою где-нибудь на привале тискает, не обращая на нас никакого внимания…
…Добравшись до станции, Сергей спросил у дежурного, когда пойдет поезд на Самару. А ему: «Да ты что, свихнулся, дядя? В Самаре белочехи. Нельзя туда»…
Вскоре подошел поезд, который направлялся в противоположную от Самары сторону – на Кинель. На него-то и сел красноармеец. Конечно, в Самару было бы лучше, город это большой – можно легко затеряться в толпе, но выбора не было. Куда б ни бежать – лишь бы в руки врагов не попасться. А тут к станции подлетают лихие ребята на откормленных жеребцах. Был здесь такой-то? – спрашивают. Был, а сейчас едет в строну Марычевки. Позвонили на станцию. Дескать, задержите поезд, ибо там находится бандит. Поезд задержали. Жеребцам не составило труда пробежать семь верст – и вот уже Сергей в руках разъяренных кулаков. Попытался было сопротивляться, но его тут же жестоко избили.
Окровавленного, теряющего сознание привезли его в Кураповку. Собрали народ на площади подле управы и стали прилюдно избивать. Били все кому ни лень. Били ногами, били палками, железными прутьями. При этом кулаки руки свои не марали – этим занимались подкулачники, так сказать, кулацкие «шестерки». Единственный, кто заступился тогда за Сергея, – его свояк Кирилл.
Был такой у них Митя-орденоносец – орден Красного Знамени имел. Так тот тоже бил. То ли в самом деле переметнулся к богатеям, то ли боялся их и пытался таким образом замолить перед ними свои грехи.
Жестоко тогда избили Сергея, думали, помрет, а он назло своим врагам продолжал дышать. Тогда его затащили на церковную колокольню и сбросили оттуда вниз. Но и после этого у него не остановилось сердце. И тогда его просто пристрелили…
Все это видели дети Сергея, которые выли в голос и просили мужиков не убивать отца. Громче всех кричал Ленька:
– Тятенька, тебе больно? Ты только не умирай, скоро красные придут, они тебя спасут. Тятенька-а-а!..
Все, кто слышал этот пронзительный крик, невольно вздрагивали, и у них сжималось сердце…
Чтобы не травмировать детские души, Александра попыталась увести детей домой.
Кто-то из них послушался ее, но только не Ленька – он остался, чтобы хотя бы мысленно поддержать истекающего кровью отца.
– Тятенька! Ты держись! – продолжал выть он. – Хотя б еще немного! Красные уже близко, я слышу, как гудит под копытами их коней земля. Держи-ись, родненький! Я люблю тебя.
– Я тебя тоже, сыночек люблю! Ты иди домой! Живи расти, становись человеком!.. Ступай, ступай!..
5
…Когда закончилась война и в селе установилась советская власть, двоюродный брат Сергея Андрей решил отомстить за него. Был он крутого нрава – вот и попрятались убийцы по своим норам. Вернулся с войны и лучший друг Сергея Степан – с ним они в юности по девкам бегали.
«Говори, Александра, кто Сергея убивал?» – спрашивает жену покойного Андрей. А она молчит. Вы, мол, со Степаном уедете в свою Красную Армию, а кулаки мне отомстят.
Но Андрей все же решил поквитаться за брательника. Мстил за своего дядьку и Андреев сын Александр, будущий известный испытатель самолетов. Мстил убийцам и старший брат Леньки Иван, что потом уйдет в сорок первом на войну – да так и не вернется домой. Когда шло раскулачивание, они, получив при советской власти должности, самолично арестовывали кулаков и всех, кто был заподозрен в связях с белогвардейцами, отправляли их в ссылку. Жестокость за жестокость… Смерть за смерть… Страшно. Но, говорят, ни одна революция без этого не обходится.
…А в двадцать первом в Поволжье случился страшный голод. Первой предпосылкой к катастрофе в Поволжье стал неурожайный двадцатый год, когда зерна здесь собрали всего около двадцати миллионов пудов. Для сравнения, его количество в 1913 году достигало почти ста пятидесяти миллиона пудов. Небывалую засуху принесла весна 1921 года. Уже в мае в Самарской губернии погибли озимые хлеба, начали засыхать яровые. Появление саранчи, которая поедала остатки урожая, а также отсутствие дождей послужили причиной гибели почти ста процентов посевов к началу июля. Но тогда страдало не только Поволжье. 1921 год стал очень непростым для большинства жителей многих районов страны. В иных губерниях голодало до 85 процентов населения. Одной из причин было то, что в предыдущем году в результате известной «продразверстки» были изъяты у крестьян почти все запасы продовольствия. У кулаков изымали на «безвозмездной» основе. Другим жителям платили за это деньги по тарифам, установленным государством. Заправляли этим процессом так называемые «продотряды». Перспектива изъятия продовольствия или его принудительной продажи совсем не нравилась многим крестьянам. И они начали принимать превентивные «меры». «Утилизации» подлежали все запасы и излишки хлеба – его сбывали спекулянтам, подмешивали животным в корм, ели сами, варили самогон на его основе или просто прятали. «Продразверстка» первоначально распространилась на зернофураж и на хлеб. В 1919–20 годах к ним были добавлены мясо и картофель, а к концу 1920 года – практически все сельхозпродукты. Крестьяне после продразверстки 1920 года уже осенью были вынуждены питаться семенным зерном. Очень широка была география охваченных голодом регионов. Это Поволжье (от Удмуртии до Каспийского моря), юг современной Украины, часть Казахстана, Южный Урал. У правительства СССР не было резервов продовольствия для того, чтобы остановить голод в Поволжье 1921 года. Люди умирали…
…Настоятель местного храма священник Жданов, родной дядя известного партийного деятеля Андрея Жданова, основал в Кураповке приют для сирот, чьи родители умерли от голода. Но доброму батюшке оказалось не под силу всех накормить. И тогда детишек стали отправлять в более сытные места. С одной из таких групп отправили и Леньку Сокольникова. Чтобы не умереть с голоду, его старшие братья и сестры тоже решили ехать, вызвавшись сопровождать детей до места. Так они и оказались в Житомире. Леньку взяли в детдом. Там же нашлась работа для Ивана и Марии. Александр устроился сапожником, а Валентина – служанкой к зажиточным евреям. Леонид помнит, как недовольно бурчали хозяева, когда он приходил к сестре в гости. Дескать, нечего ему здесь делать – пусть сидит в своем казенном доме.
Следом решила ехать в Житомир и мать, но по дороге она заболела тифом и умерла. Так на каком-то маленьком полустанке ее и схоронили…
А того попа Жданова, что приютил в свое время сирот, Леонид потом всю жизнь вспоминал добрым словом. Грузный, чернобородый, с большими карими глазами, он был светлым человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в ней нуждался. Когда в тридцатые начались репрессии, он, чтобы спасти очередного неповинного ни в чем человека, вынужден был обращаться к своему именитому родственнику. Однажды он спас и Саньку Сокольникова, Алексеева брата, когда того обвинили в саботаже. За год до этого его выбрали председателем колхоза, а тут кто-то «наклепал» на него, что он-де, пользуясь своим служебным положением, утаивает от государства большую часть выращенного на полях зерна, – вот его и посадили под арест. Батюшка стал звонить племяннику – не дозвонился, тогда он сел на поезд и поехал в Москву. Вернулся с нужной бумагой, где Александр признавался невиновным, – отпустили. Однако в кресло свое председательское тот сесть отказался – больно обиделся на советскую власть. Дескать, мы, Сокольниковы, живота за нее не жалели, а она вишь как с нами обошлась…
Когда батюшка узнал, что племянник его является одним из организаторов массовых репрессий, то перестал с ним общаться. А когда тот умер, он отказался ехать на его похороны, заявив, что больше с коммунистами никаких дел не имеет, так как за эти годы с лихвой насмотрелся на их зверства. Думали все, батюшке конец, – ведь такое заявить! – однако пронесло. Сказали только, чтоб он язычок свой попридержал, иначе-де не посмотрим, что ты родственник известного большевика.
…Отрывочные картины прошлого… Вот поп Жданов, смахивая со щеки предательскую слезу, гладит его по голове, называя ангелом, попавшим в ад… Вот старший брат Иван, наколов дров, затопил печь в детском доме, а Ленька стоит и с интересом наблюдает за ним… Вот Мария, нарядившись в китайского мальчика, выступает перед маленькими детдомовцами. «Тин-тин-чан, я китайский мальчуган…». Как же она хорошо пела и танцевала! Оттого все думали, что она обязательно станет настоящей артисткой.
…А вот слепая бабушка Анна ходит с кусочком сахара, завязанным в носовой платок, от одного дома к другому… Всю деревню обойдет – чаю у людей напьется, а домой вернется все с тем же завязанным в платок сахарком.
А вот дедушка Петр Алексеевич, материн отец… Он один из самых богатых в селе. На его голове не какой-то там замурзанный малахай собачий, а настоящая шапка из поярочки. Леонид помнит, как тот брал его зимой в лес за дровами, как он, широко размахивая кнутом, громко кричал гнедому: «А ну, прытче, милай!.. Еще прытче!.. Еще!..» Помнит, как, развалившись на дровнях, он с восторгом наблюдал за дедом…
А это сестра отца тетя Маша и муж ее Кирилл… Они очень любили Леньку, даже хотели усыновить его, но мать ни в какую…
А вот он уже круглый сирота ходит по миру в поисках какого-нибудь пристанища. А вокруг такие же, как он, босые и голодные пацаны. Не выйди Ленька в люди, еще неизвестно, куда бы его та худая дорожка привела. Ведь многие его дружки детства так в тюрьме и сгинули. А кто остался жив, тот век свой в туберкулезном бараке доживает.
6
… – Ну что, детки мои родные, – схоронив мужа и собрав детей за поминальным столом обратилась Александра к ним, – давайте будем учиться жить без вашего батьки…
– Хорошо хоть дом у нас есть, а то бы по миру пришлось скитаться, – заметила Валентина. – А то ведь у многих казненных красноармейцев и дома эти изверги пожгли, а детей и жен по миру пустили, и как им жить теперь? Да ведь не выживут. Вот звери так звери, чтоб им самим все то же самое пережить!.. – погрозила она кому-то кулаком в сторону окна.
– Ну а за хозяина Ванечка у нас теперь будет, – сказала Александра. – Как ты, Вань, сдюжишь? – спрашивает она сына. – Ты уже мужик взрослый, силенки хоть отбавляй, да и голова у тебя светлая. Давай-ка, бери бразды правления в свои руки, а я уж тебе завсегда помогу. Да и дядя Андрей ваш обещал помогать, так что не пропадем. Выдюжим сообща-то: кто в поле будет пахать, кто за скотиной ходить, а кто к кулакам в найм пойдет, чтобы заработать копеечку. Так потихоньку и подыму вас. Не успеешь оглянуться, как выпорхнете вы из родного дома и разлетитесь кто куда. Первой, думаю, уйдет от нас Мария – у нее уже ведь и жених есть, да и Ванечка наш ненадолго в доме задержится. Чай вон какие взгляды дочка кузнеца нашего на него бросает.
– Да ладно тебе, мам… – застеснялся парень, – я еще погулять хочу…
– Ну не будешь же ты вечно гулять, – возразила Александра. – Не та порода, чтобы без дела сидеть. Я думаю, даже Ленечка наш тоже скоро делом займется. Видели, с какой любовью он наших гусей пасет.
Приведем с ним, бывало, птицу на пруд, так он мне даже пальцем не даст пошевелить. «Ты отдыхай, мамань», – только и скажет; усадит на бережок, а сам за хворостину – и давай гусей на воду сгонять. И ведь слушаются его при этом больше, чем меня.
– Ну ладно, давайте сейчас помолимся да за трапезу поминальную примемся. Пресвятая Троице, помилуй нас, – начала она, и вслед за ней подхватили молитву и дети:
– Господи, очисти грехи наша, Владыко, прости беззакония наша. Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй!..
– Ну вот и славно, – произнесла мать и, осенив себя крестным знамением, добавила:
– Рабу Божию Сергею преставившемуся – вечная память…
– Вечная память! – повторили дети и принялись за еду.
7
…А в житомирском детском доме Леонид пробыл тогда ровно год. Голод в Поволжье закончился, и детей стали отправлять домой. У кого не было родителей, тех поместили в детские дома, которые находись недалеко от Самары. Так Ленька попал в детский дом на станции Кинель. Он помнит, как они, детдомовцы, мечтали, чтобы кто-то из родных приехал и забрал их отсюда. К каждому шагу за окном прислушивались – а вдруг?..
За кем-то приезжали, но только не за Ленькой. А жизнь в детском доме была не сладкая, хотя и кормили там хорошо. Вот если бы над детворой не издевались старшие ребята – вообще жить можно было. А то били мелюзгу безбожно. А тут еще эта городская шантрапа! Сорвут, бывало, ночью входные двери с петель, ворвутся в дом и давай хозяйничать! И еду отберут у пацанов, и одежонку, а когда и одеяла с собой заберут с матрасами, и попробуй не дай – отлупят так, что мама родная не узнает, а напоследок еще засунут меж пальцев ног вату, намоченную в керосине, и подожгут. Детвора жаловалась воспитателям, но что толку-то? Те тоже бандитов боялись. Знали, коль начнут защищать своих питомцев – и им достанется. Убьют или покалечат, ведь бандиты всегда ходят с ножами…
– Ну что я могу поделать, – однажды заявила Леньке директриса детского дома Софья Викентьевна, когда он пришел к ней в кабинет и прямо с порога заявил, что все они тут, взрослые, – дармоеды, коль не могут навести в детском доме элементарный порядок. При этом директриса так посмотрела на него, будто бы кипятком ошпарила. Он тут же вспомнил, как впервые попал в этот кабинет и, увидев висевший на стене над директорским столом портрет какого-то человека с козлиной бородкой, спросил:
– Это кто, никак художник какой или же барон?
– Сам ты барон! – ответила Софья Викентьевна. – Это наш вождь и учитель товарищ Троцкий!
Ленька фыркнул.
– Тоже мне скажете! Наш вождь и учитель – это товарищ Сталин, так нам в житомирском детском доме говорили. А Троцкий и его сторонники – предатели дела Ленина и Карла Маркса.
Директриса с чувством треснула кулаком по столу.
– Молокосос! – взревела она. – Рано тебе еще судить, кто предатель, а кто нет. Запомни: я не потерплю у себя такого морально испорченного мальчика.
– Ну уж прямо-таки «морально испорченного», – попытался заступиться за Леньку доставивший его в этот кабинет милиционер, но директорша и на него шикнула так, что он умолк, особенно когда она назвалась депутатом губернского Совета рабоче-крестьянских и солдатских депутатов.
Решив, что никто им здесь не поможет, Ленька задумал сбежать из детского дома. Но куда побежишь? И вообще, кому он в этом мире нужен – сирота кураповская?
Но вот однажды среди ночи кто-то ткнул ему кулаком в бок. Проснувшись и протерев глаза, Ленька ахнул от изумления.
– Миха, ты откуда тут взялся?! – воскликнул он, узнав в стоявшем возле его койки мальчишке Мишку Елисеева.
– Откуда, откуда – от верблюда! – отвечает тот с усмешкой. – Вот, решил выдернуть тебя из этой богадельни. Долго наблюдал со стороны, как вы тут живете, и пожалел тебя. А ведь сам вначале хотел устроиться в детском доме. Так и сказал родителям, мол, поеду на казенные харчи, нечего вас объедать. А тут посмотрел – нет, думаю, не мое это. А в Кинеле я познакомился с местной шпаной. Ничего пацаны, я тебе доложу, прыткие, деловые – хочу и тебя с ними познакомить. Как, готов? Только учти: уходить из детского дома нужно с концами.
Ленька был не против – слишком обрыдло все ему в этом детском доме, который больше был похож на тюремные застенки…
– Ну пошли, что ли, – одевшись и засунув в котомку несколько кусков прихваченного накануне из столовой черного хлеба, произнес Ленька. – Пока воспитателей нет, надо сматываться.
– Ты бы прихватил с собой одеяло, – посоветовал ему Мишка, – ведь не на полатях придется ночевать.
– А где? – поинтересовался Ленька.
– Когда в чистом поле, когда на лавочке в парке, ну а коль повезет – в подвале какого-нибудь дома. Да ты не бойся – не пропадем, – поспешил он успокоить друга. – Зато свобода, понимаешь? Сам когда-то говорил мне, что дороже свободы ничего в жизни нет. Вот, мол, и революции ради свободы люди делают. Ладно, пошли, нечего нам здесь с тобой больше делать…
Ленька набрал в легкие воздуха, будто бы собирался нырнуть в морскую пучину, и вдруг заговорил стихами:
- Цветы мне говорят – прощай,
- Головками склоняясь ниже,
- Что я навеки не увижу
- Ее лицо и отчий край.
- Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!
- Я видел их и видел землю,
- И эту гробовую дрожь
- Как ласку новую приемлю.
- И потому, что я постиг
- Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, —
- Я говорю на каждый миг,
- Что все на свете повторимо.
– Хорошие стихи, правда? – закончив читать, произнес Ленька.
– Да ничего, вроде, – соглашается Мишка. – И кто ж их написал – Пушкин?
– Бери выше! – ухмыльнулся Ленька. – Это написал наш деревенский поэт по фамилии Есенин. Серега его имя, как моего покойного отца…
– Сокольников! – вдруг услышал Ленька за своей спиной. – Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не увлекался этим мелкобуржуазным поэтом, а ты, как я посмотрю, жить не можешь без Есенина. Давай-ка прекрати мне тут молодежь разлагать. И где только вы эти стишки берете?.. Вот выведу тебе двойку по поведению в конце года за политическую незрелость, и тогда тебя точно в комсомол не примут. А ведь на следующий год по плану прием в комсомол. Скоро к нам специально в детский дом придет инструктор из горкома комсомола.
«Ну вот, дождались, когда эта выдра придет на работу, – с горечью подумал Ленька, – как вот теперь сбежать в город?»
– А это еще кто такой, – указывает директорша на Мишку.
– Это мой друг, – спешит сообщить Ленька. – Из деревни приехал, чтобы навестить меня…
– Ну, навестил? – спрашивает начальница.
– Ну да! – кивает головой Ленька.
– В таком случае пусть возвращается домой – делать ему больше тут нечего.
– Тогда я его провожу до ворот?..
– Даю тебе пять минут. Проводишь – и назад. – Директорша строго посмотрела на Леньку.
Но Ленька и не думал возвращаться.
– Веди меня к своим пацанам, – когда они с Мишкой оказались за воротами казенного заведения, сказал он ему.
На улице было тепло и уютно. Августовское волжское солнце, раскалив землю, уже спешило скрыться в далекой сизой дымке.
– Ты б рассказал, чем там народ в деревне занимается, а то мы так и не поговорили с тобой по-настоящему, – просил Сокольников.
Мишка как-то странно посмотрел на него.
– Ты, чо ли, забыл, какой месяц на дворе?
– Нет, не забыл.
– Так в поле весь народ, хлеба убирает.
– Ну и как урожай в этом году? – приняв сосредоточенный вид, как это делают в таких случаях взрослые, поинтересовался Ленька.
– Ну, у кого как. У одних – густо, у других – пусто, – ответил товарищ.
– Понятно, – протянул Ленька. – Наверно, как всегда, густо у богатеев?
– Ну у кого ж еще? – усмехнулся Мишка. – Чай, все лето на них кто-то пахал. Одни от сорняков всходы избавляли, другие – скот деревенских гоняли с полей, третьи сейчас день и ночь на лобогрейках рожь с пшеницей валят. А у нашего брата бедняка что? Одни руки да пустой желудок.
– Ну ты-то уж не прибедняйся! – ухмыльнулся Ленька. – Вы ж, Елисеевы, всегда свое возьмете. Чай, тоже на вас все лето работники пахали? Вы ведь с родителями всегда старались жить, как те кулаки, и дружить вы дружили в основном с ними – недаром подкулачниками вас в деревне называли.
– Не были мы никогда кулаками! – обиделся Мишка. – А что дружили с богатеями, так это не зазорно. Коль люди с нами дружат – что нам отказываться?
– Слышь, Мишка, а ты на чем добирался до Кинели, на поезде? – снова интересуется Сокольников.
– Не-а, – машет тот головой. – На машине, вместе с новобранцами, ну, которых в армию забирают. Видно, опять война будет. Только пока непонятно, с кем… Машина сверху была закрыта брезентом. Был жаркий день, душно, дорога извилистая, и некоторым стало плохо… У одной девочки, которая подсела по пути, была с собой большая подушка, и мы лежали на соломенном полу вокруг этой спасительной подушки.
8
…Мишка повел Леньку через весь город и привел к какому-то полуразрушенному кирпичному зданию, возле которого, сидя полукругом на траве, играли в ножички неопрятного вида пацаны.
– Наши, – говорит Мишка. – Сейчас я тебя с ними познакомлю.
Завидев Мишку с чужаком, пацаны забеспокоились.
– Ты кого это привел? – спрашивает Мишку маленький большегубый, похожий на свежевыловленного карпа парнишка с лукавыми, как у нашкодившего кота, глазами.
– Да свой этой, свой! – шумит Мишка. – Земеля мой, в одной деревне живем и с детства корешим.
– Ну коль свой, тады ладно, – отозвался большегубый. – Только скажи, зачем он нам тут нужен?
– Да он такой же, как и ты, Пузырь, – тоже из детдома убег.
– А-а, значит, точно свой, – проговорил тот, кого Мишка назвал Пузырем. – Меня Кешкой звать, – он протянул Леньке руку. – А Пузырем меня одни только дураки набитые зовут. А какой я Пузырь, правда, новенький? – обратился он к Леньке. – Просто я маленького роста и с голода чуток опух. Я ведь сирота, кормить меня некому…
– А тебя кто-нибудь из своих навещал в детском доме? – поинтересовался Мишка, отведя товарища в сторону. – А то я как ни спрошу ваших о тебе – никто ничего толком сказать не может, будто бы тебя уже и в живых нет. Вот я и забеспокоился. Как-никак друг ты мне, аль не так? – он посмотрел на Леньку.
– Конечно, друг, – ответил тот. – Я так скажу: после того, как меня привезли в этот детский дом из Житомира, долго ко мне никто не приезжал. Правда, года через два меня навестил брат Александр. Думал, он с собой меня позовет – не позвал. Но я его понимаю: у него жена, дети, зачем ему лишний рот? Хотя обидно, конечно, было. Как подумаю, что я никому в этом мире не нужен, так хоть волком вой… Ты ведь тоже меня позабыл. Думал, найдешь – вместе хоть веселее будет.
– Да я и не забывал тебя, – готов побожиться Мишка.
И ведь он не врал. В самом деле, Мишка места себе не находил. Когда узнал, что родители предали Ленькиного отца, поначалу испугался, что друг отвернется от него или будет мстить. Парень он крепкий, и хотя он на полголовы ниже Мишки, кулаки у него будь здоров! Этих его кулаков вся мелюзга кураповская боялась. Особенно те, кто чем-то прогневил его. Но Ленька был человеком справедливым, и коли кому поддаст, то только за дело. Не любил тех, кто малышей или стариков обижает, кто чужое добро крадет, кто врет или друзей предает. Тут уж держись! А еще он кулацких детей не любил, особенно тех, кто кичился своим происхождением. Ох, и доставалось им от него! Но и те ему мстили. Бывало, соберутся в стаю, подкараулят пацана и с палками на него. Иногда Леньке удавалось отбиться, парнишкой-то был шустрым, проворным – выхватит палку из рук кого-нибудь из нападавших и давай отбиваться, да так поколотит обидчиков, что те потом бога благодарят, что живыми остались. Но случалось и ему быть битым. После этого домой приходил угрюмый, весь в крови. Братья старшие спрашивают, кто, мол, это тебя, говори, мы им сейчас такое устроим! Но разве Ленька скажет? Нет, не принято было жаловаться – обиженный должен был сам отомстить за себя…
Ленька с Мишкой еще бы долго болтали, если бы их разговор не оборвал чей-то зычный голос:
– Эй, шпана, а ну-ка все ко мне! Хватит балду гонять…
Это был довольно взрослый парень в фуражке-восьмиклинке, или «хулиганке», как их называли в народе, и с фиксой под золото во рту.
– Ну вот и поговорить нам этот Сыч не дал, – поморщился Мишка.
– А кто это и что ему надо? – спросил Ленька.
– Это наш старшой, – объяснил Мишка. – Не пахан, конечно, нос не дорос, а всего лишь подручник здешних паханов, за молодняк отвечает. Щас точно на какое-нибудь дело пошлет…
В этот момент из всех щелей полуразрушенного здания стали выползать какие-то тени. Это были такие же, как Мишка с Ленькой, маленькие искатели приключений, по каким-то причинам оказавшиеся на улице.
– Слышь сюда! – снова позвал тот, кого Мишка назвал Сычом. – Сейчас возьмете свои заточки с «пушками» и отправитесь на городской рынок деревенских бомбить. И чтобы без трофеев не возвращались. А то в прошлый раз порожняком пришли, и мне от Юсуфа так досталось! Ну теперь и я буду вас наказывать, коль оплошаете. Смотрите у меня! Шею намылю! – он грозно топнул ногой и, достав из-за голенища хромового сапога финку, этак многозначительно поиграл ею перед глазами пацанов.
– А Юсуф кто такой? – не преминул спросить товарища Ленька.
– Юсуф-то? Это и есть один из здешних паханов. Никого, гад, не боится – только самарских жиганов. Ну это и понятно. Их даже московские гопники боятся. А саму Самару, я слышал от пацанов, называют «мамой», потому что считают, что это самый бандитский город в стране.
– А почему Самара-мама? Я думал, мама – это Одесса, – вдруг вспомнил Ленька.
– А потому! – хмыкнул пацан. – Кто в стране нашей папа? Ну конечсно же, Ростов, и об этом все урки говорят. Там такое творится! Ну а Самара на втором месте по бандюкам, потому и «мама». Эх, махнуть бы в Самарочку! – мечтательно произнес паренек.
– А в Одессу не хочешь? – спросил Ленька. – Ведь она тоже «мама», насколько я знаю.
– Да, она «мама», – согласился Мишка, – только чужая, далекая, а эта – наша.
– А каких это деревенских ваш Сыч приказал бомбить? – решил узнать Ленька.
– А ты что, не понимаешь? – удился Миха. – Ведь кто на здешних рынках торгует? Правильно, в основном деревенские. Одни овощи привозят, другие фрукты, третьи – зерно с отрубями, а кто и мед с картохой – вот всю их выручку мы и должны у них забрать.
– А если вдруг мужики вилы в руки возьмут, куда бежать будете? – спросил Ленька.
– И такое случается, – шмыгнул носом Мишка. – Для этого мы и берем с собой ножи и наганы.
– Ишь ты, наганы? – удивился Ленька. – И где ж вы их взяли?
– Ты думаешь, трудно сейчас оружие раздобыть? – вопросом на вопрос ответил Мишка. – Кто-то из пацанов легавого грабанет, кто-то красноармейца. Но лично мне моя пушка досталась после налета на милицейские склады. Мы тогда не только револьверами и «маузерами» разжились, но и гранатами, «трехлинейками», патронами к ним, а заодно и пулеметом.
– «Максим», что ли? – с удивлением посмотрел на товарища Ленька.
– Да нет, «Максим» большой и тяжелый – куда с ним? А этот – американский ручник. Гатлинга.
– Я слышал о нем, – сказал Ленька, – и даже помню принцип его действия.
– Ишь ты, тебя и удивить ничем нельзя, – восхищенно посмотрел на друга Мишка.
– Книжек надо больше читать, тогда и ты будешь больше знать, – посоветовал другу Ленька.
– Да я и читать-то не умею, – признался тот.
Ленька похлопал его по плечу.
– Ничего, – говорит, – вот наладится жизнь в стране – учиться пойдешь, да и мне хорошо было бы десятилетку закончить. А то что эти четыре класса церковно-приходской школы, с этим багажом разве в институт поступишь?
– А ты что, в институт думаешь поступать? – удивился Мишка.
Ленька утвердительно кивнул, дескать, а что тут странного, ведь советский человек должен быть образованным, чтобы успешно строить социализм. Да к этому и революционное правительство призывает.
Неожиданно Ленька почувствовал, что кто-то положил ему руку на плечо. Глянул и остолбенел: за его спиной стоял Сыч и этак странно улыбался, обнажив свои гнилые зубы.
– Кто такой будешь? – оглядев Леньку с ног до головы, спросил он его.
– Да это Леха – корефан мой! – поспешил ответить вместо товарища Мишка. – Из детского дома удрал, хочет к нашей банде пристать.
– А это случайно не ментовский шпион? – подозрительно произнес Сыч и добавил, обращаясь к Леньке: – Ты не шпион?
– Да какой из меня шпион? – усмехнулся Ленька. – Я много читал про таких – они совсем другие. Вот взять книжку Фенимора Купера, которая так и называется «Шпион». Так тот мог такие дела проворачивать – куда мне до него.
– Ну ты кончай фуфло мне тут гнать, – неожиданно рассердился Сыч. – Я сроду книг не читал. Не до того было. Это вы, благополучные маменькины сыночки, жизнь по книжкам изучаете, а наши университеты – это улица.
– Тоже скажешь «маминькин сынок», – обиделся Ленька. – Я тоже не во дворцах жил, если хочешь знать, я в четыре года сиротой остался – и сразу по детдомам. А это тебе не хухры-мухры. Чего только не пришлось испытать – другим бы и жизни не хватило.
– Да, Сыч, Леха не врет, он многим из нас сто очков вперед даст. А как он дерется – ты бы видел!
– Ну это мы посмотрим! – сказал Сыч. – Ты вот что, Леха, бери перо – тоже пойдешь с пацанами, там мы и увидем, чего ты стоишь! Есть перо-то свое? Нет? На вот, возьми мою заточку, – он протянул Леньке самодельную финку.
Сборы были недолгими. Прихватив с собой все, что полагается в таких случаях, пацаны гурьбой отправились к городскому рынку.
9
На небольшой площади возле рынка стояло десятка два телег, на которые деревенские мужики с бабами грузили свой незамысловатый скарб – пустые мешки с корзинами, бочонки из-под соленых огурцов, бидоны из-под меда и то, что на вырученные от продажи деньги они приобрели в рядах городских ремесленников. Здесь были и седла для лошадей, и сбруя, топоры с топорищами, косы, ящики с гвоздями, отрезы ткани, ну и, конечно же, гостинцы для детей и внуков, аккуратно сложенные в лукошки – в общем, всего и не перечесть… Ленька смотрел на этих людей и не понимал, как можно их грабить – ведь чтобы заработать копейку, им приходится день и ночь пахать, не разгибая спину. Хорошо хоть часть денег они потратили на покупку городских гостинцев, думал Ленька, хоть не всю выручку у них эти бандюки отберут.
– Ну что, пацаны, пора! – неожиданно прервал Ленькины размышления голос Сыча. – Эй, Пузырь, а ну, начинай свой спектакль! – приказал он самому маленькому губастому пацану.
Тот тут же ринулся к мужику, который неподалеку запрягал тощую кобылку. Вынырнув из-под его руки, он схватил с телеги какую-то сумку и уже хотел было броситься прочь, чтобы затеряться в толпе покупателей, когда мужик, изловчившись, поймал его за шиворот и грубо швырнул на телегу. Пузырь завопил не своим голосом:
– Ы-ы-ы! Товарищи-граждане, спасите, убивают! – орал он.
Недолго думая, товарищи бросились ему на помощь.
– Держись, Пузырь! Держись! Мы здесь! Гады, маленьких бьют! Ну мы вам сейчас покажем!
Мгновение – и вот уже бедный крестьянин лежит на земле с пробитой головой. Следом оказалась на земле и его супруга.
– Деньги! А ну быстро гоните деньги! – кричала собравшаяся вокруг них шпана, и тем ничего не оставалось, как выполнить приказ. Ленька видел, как жена крестьянина вытаскивала их из хозяйственной сумки, которую не выпускала из рук до тех пор, пока не получила рукояткой револьвера по голове.
Выходит, Пузырь у них здесь за «заедалу», удивился Ленька. Хотя что удивляться, решил он, ведь это излюбленная тактика всех бандюков. Какой-нибудь малец из числа «шестерок» начинает заедаться к человеку, тот, естественно, от него отмахнется – тут и наступает черед более взрослых пацанов, которые с криками «маленьких бьют!» доводят дело до конца – или изобьют до смерти человека, или ограбят…
Но Пузырю больше не пришлось разыгрывать спектакль. На помощь поверженным и ограбленным мужику с бабой бросились другие люди, и пришлось присоединиться к товарищам, чтобы вместе отбиваться от разъяренной толпы. Но голос Пузыря все так же был слышен:
– Ы-ы-ы! Нате, гады, получайте! Больше не будете бедных детишек обижать. Ы-ы-ы!
Чуть дрогнув под натиском деревенских, шпана быстро пришла в себя, и тут такое началось! Стрельба, крики раненых, визг, писк, призыв о помощи! Следом раздались милицейские свистки и предупреждающие крики постовых:
– А ну, мелочь пузатая, прочь! Прочь!
И следом:
– Держи их, держи, убивцев треклятых! Еремин, хватай вон того коротышку, хватай!..
– Ну а ты что стоишь? – ткнув стволом нагана Леньку в спину, спросил его Сыч. Лицо его было красным от возбуждения и все в испарине. – Давай, помогай братве, неужто не видишь, что творится?
Леньке жуть как не хотелось ввязываться в драку, да и как попрешь против взрослых здоровых мужиков?.. Но Сыч стоит рядом и испытующе смотрит на него. А глаза его, наглые и злые, будто говорят: только попробуй сбежать, найду и убью…
– Мишка! – закричал Сыч. – А ну-ка бери своего друга и обчистите вон того мужика с бабой! – указал он на крестьянина, который пытался впрячь каурого жеребца в груженую тарой из-под меда телегу. Здесь же мельтешила и его баба, которая не переставая торопила мужа:
– Ну что же ты возишься, черепаха эдакая, давай пошевеливайся, пока нас шпана не ограбила!
– Ленька, за мной! – выхватив из-за пояса револьвер, скомандовал товарищу Мишка, и Ленька покорно поплелся за ним. Но когда они оказались возле крестьянина, Ленька вместо того, чтобы по примеру своего товарища потребовать у бедолаги деньги, прижав его финкой к телеге, вдруг сказал:
– Дяденька, а ну быстро тикайте отсель, не то вас точно ограбят! Бери свою бабу и тикай!
Мужик с благодарностью посмотрел в глаза Леньке и тяжело опустился в телегу.
– Мотря! – крикнул он жене. – Бросай все и тоже прыгай в повозку!
После чего, хлестнув возжами жеребца по спине и крикнув «Гони, родимай!», поспешил убрать свою повозку с рыночной площади.
– Спасибо, сынки! – успела крикнуть на прощание сидевшая за спиной у мужа тетка и дружелюбно помахала Леньке с Мишкой рукой.
Мишка со злости топнул ногой и выстрелил из нагана в воздух.
Эту сцену наблюдал Сыч, который потом как коршун набросился на Леньку.
– Ты что это, гад, нам малину портишь, иль тебя специально к нам подослали, чтобы вредить? Сука!
Ленька в долгу не остался. Он не любил, когда кто-то оскорбляет его, поэтому начал грубить Сычу.
– Да пошел ты, гусь щипаный. Ишь, раскомандовался!
Сыча его слова обозлили так, что у него стало дергаться веко и задрожали губы.
– Ах ты сопляк! – Сыч ошпарил Леньку своим горящим взглядом. – А ты, случайно, рамсы не попутал? Гляди, а то я тебе быстро язычок-то твой укорочу.
И он легонько провел лезвием финки по Ленькиному подбородку так, что у того захолодело в груди.
Тем временем шпана продолжала свирепствовать, силой отбирая у деревенских кошельки. Сыч, не перестававший следить за действиями своих подопечных, казалось, был доволен происходящим. Завидев, как пацаны лупцуют рыжебородого толстячка, который никак не хотел расставаться со своими деньгами, крикнул:
– Михей! А ну-ка ткни его своим «пером» в задницу, чтоб не дергался.
И Мишка тут же выполнил его приказ.
Мужик взревел и с размаху врезал Мишке кулаком в челюсть. У пацана от сильной боли закружилась голова, он схватил свой револьвер и в упор выстрелил в дядьку. И все это произошло на глазах у Леньки.
«Вот падла! – подумал тот. – Разве можно в безоружного стрелять! Видно, весь род у него такой поганый». Вспомнив, как Мишкины родители предали его отца, он скрипнул зубами.
10
А вечером примчался на пролетке Юсуф, чтобы забрать награбленное.
– Смотрю, неплохо нынче твои пацаны поработали, – принимая кошельки из рук пацанов, довольно улыбнулся Юсуф.
– Да кабы все… – недовольно заметил Сыч.
– А что, кто-то не так себя повел? – Юсуф обвел хмурым взглядом пацанов.
– Да были такие, которые вместо того, чтобы работать, дуру гнали, – ответил Сыч.
– Накажи! – требует пахан. – Или прикажешь мне за тебя это сделать?
– Да нет, сам разберусь, – заверил Сыч.
– На-ка вот, раздай отличившимся. – Юсуф протянул Сычу набитый купюрами кошелек. – Пусть гостинцы себе купят.
Когда пахан уехал, Сыч решил устроить разборки.
– А ну-ка, встали в одну шеренгу! – приказал он пацанам.
– А мне?.. – не дождавшись своей доли, заканючил Пузырь. – Или я плохо поработал?
– А тебе хрен с маслом! – ощерился Сыч. – Ты слишком сегодня заигрался, больше орал, чем дело делал. Михею тоже ничего не причитается, потому что он вел себя как идиот.
– Это почему еще? – недовольно посмотрел на него Мишка.
– И он еще спрашивает? – Сыч сплюнул через губу. – Вот ответь мне, зачем было стрелять в человека, который и так был готов отдать тебе все деньги? Сейчас из-за тебя легавые облаву устроят. Будут сутками рыскать по городу, выглядывая нас. И еще неизвестно, чем все закончится… Ну ладно, с Мишкой все ясно, а вот с его дружком надо еще разобраться. Ты пошто, падла, мужика с бабой отпустил, у которых, и я это чуял, было больше всех денег?
– Да жалко мне их стало, – признался Ленька. – Как представил, что и моего братуху с женой кто-то вот так же грабит, так у меня сердце сжалось.
– Ах у тебя сердце сжалось! – подойдя вплотную к пацану, прошипел Сыч. – На вот, получай, чтоб наперед знал, что бывает с такими, как ты.
Он-то хотел врезать Леньке в челюсть, но тот опередил его и первым нанес удар, который пришелся прямо в нос, откуда струей потекла кровь. Завязалась драка.
Сыч был взрослее и крепче Леньки, но тот и не думал сдаваться.
– Ты где так махаться научился? – вытирая рукавом окровавленное лицо, спросил его после того, как закончилась драка, Сыч.
– Знамо дело где – на улице, – ответит Ленька. – Ты уж прости, Сыч, что я немножко переборщил, – он виновато посмотрел на старшого, – но иначе я не могу.
– Ладно, проехали! – махнул рукой Сыч. – Вот ежели бы ты так на городском рынке кулаками махал… Но ничего, мы тебя научим жить, – пообещал он.
11
А ночью Ленька с Мишкой лежали под одним одеялом и с какой-то душевной пронзительной теплотой вспоминали свое детство.
– А ты помнишь, Мишка, как мы в саду у Ракитиных яблоки воровали? – шепчет Ленька.
– Еще бы! Это ведь меня дед Пантелей дубиной тогда огрел, когда я слез с дерева. До сих пор спина болит, – пожаловался товарищ.
– А то, как мы раков ловили на озере?
– Ага… А потом варили их в ведре на костре.
– Молодец, не забыл, все помнишь…
– Так ведь не старый, Лень, я еще, что ж не помнить-то? Все вроде как вчера было, а уже будто целая вечность прошла…
В подвале было темно и глухо, как в склепе. Остро пахло сыростью и мышами. Пацаны лежали на выложенном досками полу, подстелив под себя охапки скошенной кем-то на улице травы.
Внезапно тишину разорвал истошный крик Пузыря:
– Робя, шухер, легавые!
Подвал зашевелился и забурчал спросонья.
– Суки, жизни нам эти красноперые не дают, – услышал Ленька Мишкин голос. – Давай, просыпайся, как бы не пришлось рвать когти отсюда…
Пацанам повезло: милиционеры, потыкавшись в заколоченные двери подвала, ушли восвояси.
– Я же говорил, я же говорил, – рычал потом Сыч, – что легавые устроят на нас облаву. И в том ты, Мишка, виноват. Пошто, гад, стрелял в мужика на рынке? Поймают – до конца жизни в тюряге будешь париться.
– Ежели никто не сдаст, не буду, – ответил Мишка…
– Слышь, пацаны, надо нам в Самару тикать, – улучив момент, когда Мишка с Ленькой уединятся в небольшом скверике, обратился Пузырь к ним.
– Чего это вдруг? – не понял его Мишка.
– А что тут делать в этом захолустье? Чтобы до конца жизни грабить этих несчастных крестьян? А в Самаре, говорят, такие, как мы, пацаны настоящим делом занимаются: богатеньких купцов грабят, которые не чета этим торговцам медом да картошкой. А там и ювелирные магазины имеются, и банки – в общем, всего навалом. Ну как, рвем когти? – Пузырь выжидающе посмотрел на товарищей. – Глядите, пролетите, коль останетесь, Здесь, говорю, ловить нечего – так в нищете и подохнете…
– А что, идея неплохая, – сказал Ленька, которому давно уже надоело прозябать в этом городке. – Как, Мишка, дунем в Самару?
– А почему бы и нет? – ответил тот.
– Ну коль решение принято, надо готовиться к побегу, – распорядился Пузырь. – У вас как с деньгами? Есть в заначке что-нибудь, кроме вшей?
– Да откуда! – развел руками Мишка.
– Тогда деньги нужно добыть. Ведь куда без них. И не поедешь, и не пожрешь. Предлагаю грабануть какой-нибудь магазин.
– И как ты это себе представляешь? – поинтересовался Ленька.
– А все просто! – заявил тот. – Главное, у нас есть наганы…
12
На следующий день, ближе к вечеру, в ювелирный магазин «Полтавцев и сыновья», что на привокзальной площади, зашли трое в масках, достали револьверы и приказали всем присутствующим лечь на пол. Продавец успела выскочить из магазина через служебный вход и поднять на улице шум. Наряд милиции прибыл через несколько минут, однако к тому времени грабители успели собрать украшения с деньгами и скрыться. Пролетку, на которой они уехали, вместе со связанным «лихачом» позже обнаружили брошенной на пустыре за городом. Теперь друзьям нужно было куда-то сбагрить награбленое.
– Я знаю, кто у нас цацки возьмет, пошли! – сказал Пузырь и куда-то повел товарищей.
Это был старый местный барыга Клещ, которого и в самом деле заинтересовало краденое. Он согласился заплатить за драгоценности деньги, предварительно сбив названную пацанами цену.
– Ну вот и порядок, – когда они вышли из халупы Клеща, заключил Пузырь. Я знал, что так оно и будет. Запомните: я везучий, так что держитесь меня – не пропадете!
– Абсолютно везучих людей в жизни не бывает, – заметил Ленька. – На этот счет даже есть притча одна. Вот послушайте… «…Жил на свете один господин, и у него был слуга. Они вместе ходили по всем делам господина, и слуга во всем ему помогал, при этом приговаривая: „Все будет хорошо, все хорошо!“ Была ли пасмурная, холодная погода или светило солнце, слуга всегда повторял: „Хорошо, очень хорошо!“ Он говорил так всегда и обо всем. Однажды слуга с господином отравились на охоту. И тут случилось несчастье: слуга случайно выстрелил и изувечил палец своему господину. „Что ты со мной сделал! – закричал господин. – Мне больно, о, как же мне больно!“ Но слуга, повернувшись к нему без страха, сказал: „Все хорошо. Все будет хорошо!“ – „Что хорошо? Я остался без пальца! И это хорошо? Ты безумец! – закричал от гнева и боли господин. – Раз тебе „все хорошо“, я засажу тебя в тюрьму за то, что ты мне сделал. Там ты узнаешь, что значит „все хорошо!“ И разгневанный господин водворил его в темницу».
Дослушав притчу до конца, Пузырь нахмурился.
– Ты хочешь сказать, что и я когда-то попаду в тюрьму? – спросил он Леньку.
– Попадешь, обязательно попадешь! – ответил тот. – В конце концов все мы туда попадем, ежели будем нечестным путем деньги себе добывать.
– А где этот «честный путь», ты покажи мне! – сказал Пузырь. – Тогда, быть может, я и стану по-другому жить.
– Время придет – покажу, – сказал Ленька. – Дай только немного отойти от прошлой жизни.
13
До Самары они добирались на товарняке.
Сорвали пломбу с одного из вагонов, сдвинули в сторону дверь – и нырнули внутрь. Им повезло: охрана, что торчала на путях и стерегла вагоны, не обнаружила их.
– Ну двинули, что ли, братва! – воскликнул Пузырь, когда паровоз подал протяжный гудок, и состав двинулся с места.
– Поехали! – поддержал его Ленька, ощутив, как состав, спотыкаясь на стыках, медленно покатил по рельсам.
– Эх, мужики, как же я люблю в поездах ездить! – с чувством проговорил Мишка. – Так бы всю жизнь и катался по всей земле…
– А ты иди в машинисты, и твое желание исполнится, – предложил ему Ленька.
– А меня возьмут? – неуверенно спросил Мишка.
Ленька пожал плечами.
– Кто ж его знает, как на эту железную дорогу попадают. Другое дело – землю пахать. У нас ведь как: коль родился в семье пахаря, тут же тебя в пахари и окрестят, а потом и твоих детей – и так из века в век.
– Ты хочешь сказать, что ежели мой батька был вором, то и мне всю жизнь воровать придется? – спросил Пузырь. – А вдруг я, допустим, капитаном парохода захочу стать, что тогда?
– У капитана свои детки имеются! А твое место в банде грабителей, – тут же оборвал мечту Пузыря Мишка.
Леньке стало жалко Пузыря.
– Ты что такой недобрый? – с укором посмотрел он на Мишку. – Даже помечтать не дашь человеку. Будь добрее, слышь меня?
– Да ладно тебе на меня наезжать! – отмахнулся тот… – Я же пошутил!..
Добираться до места пришлось довольно долго. Поезд часто останавливался, пропуская другие составы. За дорогу их так растрясло, что в Самаре они с трудом выползли из вагона. Это еще хорошо, что перед тем в вагоне перевозили лошадей, и там оставалось много сена, которое они подстелили под себя. Иначе бы точно все кости отбил им постоянно прыгающий на стыках пол.
14
Еще было светло, и друзья решили сразу искать себе ночлег, но прежде нужно было пожрать, благо деньги, вырученные за краденые «цацки», не были истрачены. Среди купюр оказались и недавно выпущенные советские гоззнаковки, и царские «николаевки» или «романовки», и «керенки». В общем, все, что в настоящее время было в ходу. Набрав в ближайшем магазине продуктов, они устроились за большим пакгаузом, который находился метрах в двухстах от вокзала, сразу за тополиной аллеей, развели костерок и накрыли импровизированный стол. Но едва они приступили к еде, как откуда-то из кустов вылезло несколько чумазых харь.
– Местная шпана! – тут же определил Пузырь, выуживая финачом из консерновной банки сальный кусочек говяжьей тушенки. – Сейчас докапываться будут до нас. Так что готовьте ножи.
Пацаны, появившиеся из кустов, глядели на гостей не то с подозрением, не то с явным превосходством, к тому же недобро, что не предвещало ничего хорошего.
– Вы кто такие? – спросил чужаков невысокий широкоплечий пацан. Волосы на его голове выгорели за лето и теперь походили на спелое ржаное поле.
– Мы кто? Люди, разве не видишь, – просто ответил ему Ленька.
– А ты чо в бочку-то лезешь? – нахохлился широкоплечий. – Мы ведь пока с вами по-хорошему.
– Ну и мы по-хорошему, – сказал Пузырь и добавил: – Пока…
– Так все же откуда вы? – не отставал широкоплечий. – Что не местные, так это ясно. Своих мы всех знаем.
– Мы из Кинели, на товарняке приехали, – решил удовлетворить любопытство широкоплечего Ленька.
– Ну и зачем сюда приканали?
– Зачем? – переспросил Пузырь. – А вы подсаживайтесь к нашему столу, там и поговорим. Жрать хотите?
– Это можно! – заявил долговязый пацан. На нем был рваный туркменский чапан, из-под которого выглядывала ситцевая косовортка. Точно такими же чумазыми, одетыми в старую рваную одежду выглядели и его дружки.
– Садитесь! – предложил Мишка, когда местные подошли. – Я Михей, – он протянул руку широкоплечему.
– А я – Беляш, – ответил тот.
– Ты что, беляши любишь? – спросил его Пузырь.
– Нет, просто моя фамилия Беляев, – пояснил паренек.
– Ну а я – Ленька Сокол, – отрекомендовался Ленька. – Это так меня кличут, потому что моя фамилия Сокольников.
– Ну а это Кешка Пузырь, – указывая пальцем на самого маленького своего товарища, произнес Мишка.
– Не хилое погоняло, прямо ухохочешься, – заметил Беляш.
Настала очеред представиться остальным товарищам Беляша.
– Выпить хотите? – неожиданно спросил новых знакомых Пузырь.
– А что, есть что-то? – недоверчиво посмотрел на него долговязязый по кличке Циклоп. У парня был один глаз, второй же, как он позже пояснил, ему еще в раннем детстве выбили из рогатки во время уличной драки.
– А стакан-то хоть есть, а то из горлышка лично я не могу, – заявил Циклоп. – Нет? Ну тогда я сбегаю на вокзал – там на площади несколько закусочных, где можно стибрить стакан.
Он быстро вернулся, и тут же принесенный им стакан с водкой пошел по кругу.
– А вы надолго в наш город? – чуток засоловев, спросил Беляш.
– Если легавые не заметут, то надолго, – усмехнулся Пузырь. – Мы ведь приехали, чтобы в банду какую-нибудь вступить. Надоело уже в этой Кинели по мелочам стрелять. Не подскажете какую-нибудь подходящую?
Беляш фыркнул.
– Это в вашем захолустье банды, а у нас бригады, понятно? – произнес он. – Могу подсказать одну такую, там как раз есть нужда в свежей силе, но прежде мне надо спросить дозволения у бригадира, чтобы вас к ним привести. Без этого нельзя – могут и пятый угол устроить или даже «пером» пописать. Давайте доживем до завтра, а там уж решим, что да как.
– А где бы нам переночевать? – спросил Пузырь. – Вы вот где, к примеру, ночуете?
– Кто где, – ответил Беляш. – Я так – в бабкином доме. Циклоп – за Волгой в шалаше, а Гришка-цыган – в своем таборе.
– Ну а где бы нам устроиться? – спросил Ленька. – В товарном вагоне опасно, железнодорожная охрана может сцапать.
– В здании вокзала тоже опасно – милиция заметет, – предупредил Циклоп. – Красноперые и чекисты постоянно здесь облавы устраивают. Хватают пацанов и в трудовые воспитательные колонии отправляют. Если хотите туда – тогда пожалуйста! Там вас и оденут и накормят…
– И морду набьют воспитатели, – добавил Беляш. – Езжайте лучше за Волгу с Циклопом, там вас никто не тронет.
– А пусть только попробуют тронуть! – вынув из-за пазухи наган, он показал его своим новым товарищам.
– Есть еще сарай во дворе у моей бабки, – вдруг вспомнил Беляш. – Там она зимой уголь хранит. Так что если не боитесь вымазаться, можете там кости бросить. Только за это я с вас по «червонцу» возьму.
– А не жирно? – усмехнулся Пузырь. – Ничего себе, а, пацаны? – Он посмотрел на товарищей. – Это ж где так гостей встречают. Нет, не знал я, что в Самаре такие шкуродеры живут. А отцы у них, небось, еще против эксплуататоров трудового народа воевали. Вот скажи, Беляш, у тебя есть отец?
– Был, пока белочехи его не убили.
– А ответь-ка мне, любезный, за кого он воевал – не в погребе же он отсиделся?
– Ты кончай на моего отца бочку катить – воевал он, при этом не где-нибудь, а в знаменитой «Железной дивизии». Слыхал о такой? Ну вот то-то… – заметив, как почтительно посмотрел на него Пузырь, проговорил он.
– И мой тятя воевал против белых! – в свою очередь похвастался Циклоп.
– И мой! – пытался не отстать от товарищей Гришка-цыган. Зубы у него крупные, лошадиные, как у всей их лошадиной породы. – В их красном полку специальный цыганский батальон имелся, который всю войну жуть наводил на врага.
– Да тут у всех пацанов отцы, считай, воевали, – сообщил Беляш. – Только не все они вернулись с фронта, вот и приходится нам, их детям, кормить семьи. Потому, где можем, и сшибаем деньгу. А так нет, мы не жадные…
– Ну, хорошо! – решил войти в положение новых знакомых Ленька. – Свои «червонцы» за ночлег, так и быть, получишь.
И друзья переночевали в угольном сарае. А когда утром взглянули друг на друга, животы от смеха чуть не надорвали.
– Ты знаешь, на кого сейчас похож? – спросил Кешка Мишку. – На черта немытого!
И он залился веселым смехом.
– Ты на себя лучше посмотри! – огрызнулся Мишка.
– Да я-то ничего, я на мешках спал, которые нашел в углу, – сообщил Пузырь.
– Вот на этих? – подцепив ногой два грязных мешка, спросил Мишка. – Так они все в угле. Веришь – такая же черная и твоя харя сейчас. Так что не радуйся!
– Слышь, пацаны, как же мы сейчас в город пойдем? – заговорил Пузырь. – Нас же первый милиционер остановит.
– Значит, помыться где-то надо, – произнес Мишка. – Вот сейчас придет Беляш, мы и попросим у него принести нам горячей воды с мылом.
Однако когда Беляш увидел, что с его новыми товарищами, он затопил баньку, где друзья отмокали добрых часа два, пока не превратились в чистеньких розовощеких поросят.
– Вот теперь можно в город идти, – сказал Ленька. – Но прежде нужно привести себя в порядок – постричься, надушиться, прибарахлиться.
– И зачем? – не понял его Пузырь. – Лично мне и так неплохо. Я что, барский сынок какой?
– А ты видел, как люди в городе ходят? – спросил его Ленька. – Все красивые, ухоженные, при этом не только барышни, но и мужики. А чем мы хуже? А то будут люди на нас пальцем указывать да посмеиваться над нами. Сегодня не то время, чтобы в лохмотьях ходить. НЭП на дворе – понятно? А это значит, люди должны быть похожи на людей. А не на шелудивых псов. На то и советская власть нам дана, чтобы человек мог почувствовать себя человеком. Ну если Пузырю все равно, как выглядеть, – пусть ходит обормотом.
– Нет уж! – тут же поднялся Пузырь – Чем я хуже вас? Я тоже не на помойке родился.
– Ну тогда давайте посчитаем, сколько у нас в карманах осталось денег, ведь шмотки, чай, бесплатно не дают. Это при коммунизме все будет бесплатно.
15
Ленька верно говорил о том, что люди потянулись к красоте, что у них появилась тяга к жизни. Гражданская война закончилась, и народ, уставший от нищеты и убожества, захотел жить по-человечески – приоделись, причесались и выглядели не хуже каких-нибудь европейцев, тех же англичан, которые после Первой мировой войны стали наравне с французами законодателями моды в Европе…
Огромные перемены, в первую очередь, произошли в облике женщин, которые не стали возвращаться к моде довоенных лет. Они сняли корсеты, укоротили платья и юбки. Сложные прически ушли в прошлое. В моду вошла короткая стрижка, уложенная волнами. Эффектный макияж, броское украшение, длинный мундштук в руке с кроваво-красным маникюром и шёлковая пижама – вот тот образ, который пришелся по душе модницам начала двадцатого века.
Мужской костюм тоже претерпел изменения. На смену довоенным сюртукам пришли укороченные пиджаки без подкладных плечей с завышенной талией и удлиненными шлицами. В моде джаз, и вместе с ним – джазовый костюм с брюками-дудочками и туго застегнутым пиджаком. Очень сильно повлияла на моду Первая мировая. Английская военная модель «тренчкот» (от английского «тренч» – «траншея») становится настолько популярной, что впоследствии ее продолжают носить и в мирное время. Советская Россия, где демонстрируются иностранные киноленты и куда попадают модные французские и английские журналы, старается не отставать от Европы. И тут в моде джаз, и тут, как и за границей, образцом для подражания является законодатель европейской моды принц Уэльский, который ввел в моду укороченные широкие штаны для гольфа и длинные шерстяные гольфы. Популярны шотландские свитера, шляпы-панамы, узкие галстуки, завязанные виндзорским узлом, пиджаки на двух пуговицах, нагрудные платки, коричневые замшевые туфли и английские кепи в мелкую клетку.
Выйдешь прогуляться по самарским улицам, посмотришь на проходящих мимо мужчин и женщин и подумаешь, что попал за границу. Повсюду – английские, французские фасоны в одежде вперемешку с доморощенными чапанами и длиннополыми армейскими шинелями, оставшимися у людей с фронта.
– Ну что, айда преображаться! – предложил Ленька, когда они подсчитали оставшиеся у них в наличии деньги.
Перво-наперво нужно было постричься, чтобы не выглядеть дикарями. Они нашли парикмахерскую и попросили постричь их по последней моде. Из парикмахерской Кацмана они выходили этакими припудренными и напомаженными щеголями с аккуратно зачесанными назад блестящими волосами и ровными проборами. Им сказали, что их стрижка называется «помпадур». Только у Мишки был пробор слева, а у его закадычного друга Леньки – справа, тогда как у Пузыря он проходил посредине головы. Они смотрели друг на друга и не узнавали.
Как точно заметил Пузырь, они превратились из нормальных жиганов в каких-то набушмаченных фраеров.
– Ничего, привыкнем, – сказал Ленька. – Это все равно лучше, чем выглядеть обормотами на фоне приличной публики. А теперь пора нам и приодеться.
Они нашли магазин с вывеской «Салон одежды» и попросили девчонок-продавшиц нарядить их по последней моде.
– А деньги-то хоть у вас есть? – спросила пацанов маленькая смазливая татарочка.
– Их у нас – хоть попой ешь! – подмигнув ей, заявил Пузырь. – А ну, Мишка, покажи ей наши капиталы, а то, смотрю, нам тут не верят.
Мишка засунул руку в карман своего видавшего виды пиджака и выудил оттуда целую кучу ассигнаций.
– А вы что-то конкретное хотите купить? – спросила татарочка.
– Да откуда нам знать, что сейчас в моде? – говорит Пузырь. – Если бы вы спросили нас, как правильно магазин подломать или же там квартирку какую обчистить, тут мы бы вам подсказали.
Сошлись на том, что девчонки сами найдут для них подходящие шмотки.
Прошло какое-то время, и девчонки вернулись с целым ворохом барахла.
– Как вы посмотрите на то, если мы вас всех троих оденем вот в эту одежду? – белокурая стройняшка показала широкие укороченные штаны с гольфами и пестрый твидовый пиджак. – А ну-ка, примерьте! – попросила она Мишку.
Тот зашел в примерочную и через минуту выскочил оттуда, увидев свое отражение в зеркале.
– Не, это не мое! – заявил он продавщицам. И тут же в сторону товарищей:
– Нет, вы можете представить, как я в таком виде срываю фомкой замок с продуктового склада?
Услышав это, Пузырь прыснул со смеху.
– Вы нам лучше подберите костюмчики из английской шерсти, – попросил он.
– Ничего вы не понимаете, мальчики, в моде! – возмущенно произнесла татарочка. – Это ведь последний писк в Европе!
– Вот пусть Европа и пищит, а нам покажите нормальные костюмы! – потребовал Ленька.
– Ну хорошо! – согласилась стройняшка. – Пойдемте, я вам покажу, где у нас висят английские костюмы. Там можете сами выбрать себе все, что вам нравится.
Нарядившись, друзья собрались у большого зеркала, которое стояло почти у самого выхода из магазина.
– Понтово! – посмотрев на себя в зеркало, произнес Мишка. – Вот этот костюмчик мне нравится. В нем я хоть на человека похож.
– И мне мой нравится! – говорит Ленька.
Недоволен был только Пузырь. И то: пиджак на нем висел, как на вешалке, и в нем он походил на чучело огородное, да и брюки были велики и волочились по полу.
– Это не ваше, молодой человек, – сказала ему стройняшка. – Вам больше бы подошел спортивный вариант – короткие широкие штаны с гольфами.
– А я не буду похож на клоуна? – испугался Кешка.
– А разве принц Уэльский похож на клоуна? – в свою очередь спросила стройняшка.
– А при чем тут принц? – не понял пацан.
– А потому что он такую одежду носит, – с улыбкой ответила ему девушка.
– Ну ладно, коль принц, тады давай, будем мерить.
Померив принесенную ему одежку и получив одобрение друзей, Пузырь велел завернуть ему покупку.
– Да вы сразу бы и надели это все, – подсказала ему татарочка. – Да и остальным я бы посоветовала снять свое старье и выйти из магазина джентльменами. Только вам бы еще надо рубашки с галстуками к этому наряду подобрать. А ко всему – головные уборы. Ну не дело это джентльменам с непокрытыми головами ходить.
– Рубашки нужны, это верно, только зачем нам галстуки, мы же не фраера какие и не гимназисты! – заявил Мишка.
– Нет, братцы, галстуки нужны, – поддержал девушку Ленька. – Мой дед всегда галстук повязывал, когда к нему гости приходили и он наряжался в костюм. Ну а дед мой в моде разбирался.
– Он у него из бывших, – говорит Мишка. – Не то граф, не то еще кто-то.
– Сам ты бывший! – строго посмотрел на него Ленька. – Просто он образованный, культурный человек, и у него вкус имеется. А такими все будут при коммунизме, правда, девочки? – подмигнул он стройняшке, которая явно нравилась ему.
– А вы не хотели бы, мадамы, нам на вечер составить кампанию? – неожиданно предложил Пузырь. – Возьмем дорогой водки, заграничного вина, сигарет – и зарулим куда-нибудь.
– Лично я не против, – тут же отозвалась стройняшка. – Только я боюсь, родители унюхают, что я пила спиртное – такой шум поднимут!
– Не бойся! – этак по-деловому заявил Пузырь. – За ночь весь запах выветрится.
– А мы что, всю ночь, что ли, будем гулять? – с испугом посмотрела на него девушка.
Парнишка в ответ кивнул головой.
– Ну не на часик же мы вас приглашаем, – объяснил он. – Как у нас говорят: пить так пить, а иначе лучше и стаканы не пачкать…
– Не, я не согласна на такое! – испугалась девчонка.
– А если мы вас в ресторан пригласим? – Пузыря уже охватил азарт, и он не хотел отступать. – Часика два посидим, а потом – в гостиничные номера. Ну, разве это не вариант? – И он посмотрел на стройняшку, на которую тоже положил глаз.
Договорились встретиться ровно в семь на Воскресенской площади и оттуда прямиком отправиться в ресторан.
Выйдя из магазина, друзья начали думать, как им до семи убить время.
– Может, в парк городской махнем и там пивка попьем с таранью? – сняв с головы соломенную шляпу катонье и вытерев рукавом пот со лба, предложил Пузырь. – А то после вчерашнего голова болит – надо бы опохмелиться.
– А что – это идея! – поддержал его Мишка. – Знать бы только, где этот парк находится. – А пойдемте прямо, может, что-нибудь и найдем.
– Какая красивая улица, – на ходу разглядывая стоящие по обе ее стороны дома, восхищенно заметил Ленька. – В Кинели таких нет. Разве что в Москве да в Питере…
16
– А что в вашей Кинели вообще есть? – услышали они вдруг за спиной знакомый голос.
– Беляш! – воскликнули друзья, обернувшись.
– Ты откуда взялся? – спросил его Пузырь.
– Откуда взялся, там уже меня нет, – ответил ему паренек.
– А конкретнее?..
– Да я от самого дома моей бабки за вами шел, – признался Беляш. – Видел, как вы в парикмахерскую зашли. Хотел тоже за вами туда нырнуть, да передумал, решил обождать на улице. А потом и около магазина «Одежда» вас ждал… Ну а тут думаю: пора наконец объявиться, а то вы еще ненароком заблудитесь.
– Ну в этих улочках-закоулочках и впрямь немудрено заблудиться, – согласился Ленька. – Город большой, незнакомый. Ты скажи, что это за улица, по которой мы сейчас идем. Больно уж красивая.
– Это Дворянская, – пояснил Беляш. – Так ее назвали, потому что когда-то здесь строили особняки приближенные Петра Первого. Слыхали про такого?
Надо сказать, что в волжских городах любили называть главную улицу Дворянской. Но, пожалуй, ни в каком другом городе главная улица не сохранила свой архитектурный облик, образ, обаяние и аромат, как Дворянская в Самаре. Она всегда была самой оживленной частью городского центра, самой благоустроенной – здесь впервые в городе появились водопровод, телефонная связь, электричество. Дворянская была центром притяжения не только для жителей города, но и для обширной губернии – здесь были сосредоточены административные здания, финансовые учреждения, объекты культуры, церкви. Одним словом, Дворянская улица для Самары была, что Невский проспект для Питера и Тверская для Москвы.
– Кто ж про него не слыхал! – усмехнулся Пузырь. – Это великий царь. Он Петербург построил и «окно в Европу» прорубил.
– Все правильно, – похвалил его Беляш, – а своим самым верным слугам он жаловал земли и разрешал строить на них дворцы. В Самаре тоже такие господа жили. Вот, к примеру, этот дом, – он указал на красивый особняк, оштукатуренный натуральным известняком. – Он тоже принадлежал одному из таких приближенных Петра.
Позже Ленька узнает, что это бывший особняк предводителя местного дворянства по фамилии Наумов и что был он построен по проекту архитектора Щербачева, который черпал вдохновение у мастеров эпохи Ренессанса, оттого фасад строения напоминал парижский театр «Гранд-Опера».
– Кстати, это наша главная улица, которая вначале называлась Хлебной, потом Главной, Казачей и еще бог весть какой, – продолжал Беляш. – Но лично я ее всю жизнь знал уже как Дворянскую.
Они прошли несколько кварталов и свернули в сторону Волги.
– А теперь гляньте на вон то красно-белое здание, – указал Беляш пальцем на двухэтажный особняк с небольшими балкончиками, построенный в стиле модерн. – Когда-то там жил один из самых богатых купцов Самары, а сейчас в нем располагается Клуб красноармейцев. Однако, поговаривают, что со следующего года это будет Дом крестьянина, с гостиницей и столовой. Так что любой труженик села сможет останавливаться в нем, когда приедет в Самару.
– Слыхал, Ленька? – зашептал товарищу Мишка. – Надо своим в деревне сказать, авось им пригодится.
– А вот это, – указал Беляш на длинное здание из красного кирпича, – наш знаменитый пивзавод, который выпускает самое лучшее в стране пиво. Вы пили когда-нибудь «Венское»?
Друзья молчали.
– Да я вообще ничего не понимаю в этом пиве, – неожиданно заявил Пузырь. – Другое дело – вино.
– Эх ты! – с укором посмотрел на него Беляш. – Пиво это… это… – и он захлебнулся в своих чувствах. – Ты попробуй наше «Венское», тогда по-другому заговоришь. Правда, теперь оно называется «Жигулевское». А знаете, почему? Это все народный комиссар торговли Микоян, который два года назад приезжал в Самару. Ему дали отведать «Венского», он его похвалил, только остался недоволен тем, что сорт этот носит буржуйское название и посоветовал переименовать его. Мол, у вас тут есть очень красивые Жигулевские горы, так почему бы пиво не назвать «Жигулевским». Но нам, местным, все равно, как называется пиво – главное, чтобы оно было вкусное и не забодяженное. А то, бывает, продавцы, чтобы заработать лишнюю копеечку, нальют в бочку воды, а ты потом пей эту бурду. Тебе, Пузырь, видно, такое и досталось когда-то, оттого и не понравилось… Кстати, завод этот принадлежит австрийскому купцу Альфреду фон Вакано. Он был один из самых богатых людей в Самаре. Пиво-то у него льется рекой. Он даже проложил до двух ресторанов трубы, по которым течет пиво. Люди приходят вечером в ресторан и пьют его сколько душе угодно, при этом всегда свеженькое, сечете?
– Вот бы грабануть этого вашего купца! – мечтательно произнес Пузырь. – Такие бы деньжищи заработали – до конца жизни хватило…
– Ты прямо рассуждаешь как тот студент Родион Раскольников, – усмехнулся Ленька.
– Это еще кто такой? – не понял Пузырь.
– О, этот тот еще фрукт, – протянул Сокольников. – Хочешь, расскажу о нем?
– Ну давай, валяй! – согласился Кешка.
– В общем, жил-был на свете бедный студент Родион Раскольников. Из-за своей нищеты он решил убить старуху-процентщицу, а потом пришил ее сестру, которая стала невольной свидетельницей преступления. Родиону не удалось воспользоваться деньгами и пришлось податься в бега. Он встречает свою любовь и родственную душу Соню Мармеладову. Девушка вынуждена зарабатывать на жизнь своим телом. После долгих скитаний и мучений Раскольников вынужден сдаться на волю правосудия, и его отправляют на каторгу. Соня следует за ним. Восемь лет Родион провел в заключении, мучаясь совестью и проклиная тот день, когда решился на убийство… Да, это всегда так бывает с теми, кто совершает зло, иные всю жизнь после этого мучаются. И зачем было пускаться во все тяжкие?
– А что, мне этот Родион нравится, – произнес Пузырь. – Только зря он легавым сдался. Надо было бы ему укрыться от людских глаз и жить себе тихо-мирно. Нам бы его сейчас, он быстро бы придумал, как разбогатеть. Смелый парень – лично я уважаю таких.
– Э, брат, от себя не убежишь, – возразил ему Ленька. – От людей можно сбежать, а куда от совести своей спрячешься?
– А, все это ерунда! – заяил Пузырь. – Совесть – это не камера пыток и не тюрьма, с ней как-то можно договориться…
– Это тебе только кажется! – фыркнул Ленька. – А когда ты будешь сходить с ума, проклиная свою поганую жизнь, тогда тебе это похуже любой тюрьмы покажется.
Проезжающих машин было немного, поэтому друзья смело шагали по проезжей части.
– Слышь, Беляш, а куда это ты нас ведешь? – спросил Мишка, когда они, дойдя до конца Дворянской, повернули в обратную сторону. – Мы ведь хотели пивка попить где-нибудь.
– Но вы же просили меня свести вас с серьезной воровской бригадой, – ответил Беляш. – Я тут переговорил кое с кем, и меня попросили привести вас сегодня на блатхату.
– Это ты про «малину» что ли? – поинтересовался Ленька.
– Можно сказать и так, – произнес тот.
– А у нас в Кинели это еще притоном зовется, – вспомнил Пузырь.
– Да не все ли равно! – ухмыльнулся Беляш. – Главное – вас ждут.
– А с кем ты разговаривал? – спросил Беляша Ленька.
– Ну как с кем? Конечно, с самим бригадиром, – сделал серьезное лицо Беляш. – Джафаром его зовут. Запомните это имя! Это один из самых сурьезных блатных в нашем городе. С ним даже наш грозный Чума считается, с которым они верховодят в бригаде. Вместе разрабатывают очередные операции – на какой склад налет совершить, где лошадей угнать или ювелирный магазин ограбить. А иногда им и со стороны работенку дают, обещая хорошие деньги. Чаще всего к нам обращаются главари подпольных политических организаций, которые не смирились с победой большевиков и всячески стараются им навредить. А нашей братве лишь приходится слушаться их – иначе не поздоровится. Попробуй сказать что-то против – тут же эти паханы на перо посадят, а то и родственников твоих до полусмерти изобьют. Чтобы этого не случилось, нам приходится делать все, что скажут. Случалось нам расправляться и с городскими чиновниками, и с сельскими активистами, вести контрреволюционную агитацию, грабить граждан, возвращавшихся с городских рынков с выручкой, совершать налеты на лавки сельпо и сельсоветы, угонять скот… Чекисты не раз пытались нас уничтожить, но пока нам удавалось от них уходить.
Беляш, конечно, не мог знать, отчего это им так часто везло. Дело в том, что в самарской милиции у Джафара был свой человек, который постоянно предупреждал его об опасности. Джафар дорожил этой связью и щедро платил своему информатору.
– А отчего вы одного из своих главарей Чумой называете? – Ленька испуганно посмотрел на Беляша. – Он что, чумой переболел?
– Да нет, это у него фамилия такая – Чумаков. Ну так к бригадирам идем или пиво пить?
– Конечно, к бригадирам, – за всю компанию поспешил ответить Пузырь. – Мы же делом приехали заниматься, а не дуру гонять… Деньги-то на исходе, надо где – то новые добывать. Как у вас с этим?
– Нормально! – отвечает Беляш. – Скоро сам увидишь.
– А как у вас заведено – на общий котел все работают, или каждый на свой карман? – поинтересовался Мишка. – А то в Кинеле нас за рабов держали. Всю добычу паханы отбирали.
– Не, у нас не так, бригадиру пацаны должны отстегнуть только десятину – остальное себе.
– Ну, этак можно жить! – обрадовался Пузырь. – Я же давно говорил, что нужно в Самару валить. Ты скажи, что вы чаще всего чистите? Магазины, склады или квартиры богачей?
– Да что подвернется, то и чистим, – был ответ. – Вот третьего дня мы с пацанами, к примеру, квартирку одного нэпмана почистили. Вынесли все подчистую, начиная с женских комнатных тапочек и кончая коллекцией ружей.
– И что, нравится тебе у Джафара? – спросил Ленька.
– Жить можно, – протянул Беляш. – Хотя многие пацаны и не любят его. Считают, что слишком он ярый. Чуть что-то не по его – тут же по морде, ну а за что-то сурьезное может и того…
– Убить, что ли? – с опаской посмотрел на него Пузырь.
– Ну да! Говорю же, он ярый… – тяжко вздохнул Беляш. – Мочит почем зря, не глядя на твои прошлые заслуги. Ведь он никого не боится, а уважает только силу. Например, на Чуму он не полезет. Потому что тот сам может, если надо, глотку перегрызть, хотя он гораздо мягче Джафара, говорю, не лютый, как тот. У него все по справедливости.
– Говоришь, Чума добрее? – с надеждой спросил Мишка.
– Ну не так чтобы очень. Просто Чума культурнее, что ли, и не такое хамло – ведь он из бывших царских офицеров. У нас таких несколько человек. Все они жесткие, но не жестокие, культурные, даже дерутся и то не по-нашему, уличному, а по боксерским правилам. С виду посмотришь на такого – вроде ничего особенного, но в драке может так отделать!.. Их, этих бывших, Джафар «белыми перчатками» называет. За то, что они часто где не надо слабинку дают, желая разрулить что-то по справедливости. Ну а бригадир – по праву сильного. Он ведь из босяков, а у тех свои законы.
17
Про Чуму Беляш не врал. Таких, как он, теперь в России было много. И они составляли главную конкуренцию блатным в борьбе за власть в преступном мире. Дело в том, что многие бывшие царские кадровые военные после Гражданской войны, попав в тюрьмы и лагеря, старались подчинить себе воровскую «чернь», которую хотели использовать в своих целях в качестве боевых единиц. В воровском мире их стали назвать жиганы. Испугавшись растущего влияния этих бывших, которые постоянно мутили народ, настраивая людей против большевиков, официальные власти решили с помощью блатных авторитетов бороться с ними, натравливая их на жиганов. Существовало даже такое мнение: дескать, жиганы появились при участии НКВД для того, чтобы чекистам было проще контролировать осужденных в лагерях и тюрьмах. Еще поговаривали о том, что это жиганы придумали воровские законы, состоящие из нескольких «не» – не работать, не сотрудничать с любой властью, не доносить на товарищей. Ведь что-то похожее существовало и в кодексе офицерской чести, где у военных, как и в блатном мире, все было выстроено согласно четкой иерархической структуре. Так, по мнению многих сведущих людей, жиганы постепенно превратились в воров в законе. В целом же их суть менялась вместе с историей. Так, если до революции жиганами называли наибеднейших сидельцев и каторжан, чаще проигравшихся в карты, то теперь это были отчаянные преступники, уголовные вожаки, стремившиеся к лидерству в криминальном мире, у которых было два злейших врага – советская власть и племя старых уркаганов, доселе безраздельно правящих в уголовном мире.
Таким человеком, стремившимся к лидерству в банде, был и Василий Чумаков, случайно оказавшийся под крылом у Джафара, который, как справедливо сказал Беляш, был выходцем из босяков. Кураповские пацаны уже знали, что босяк – это блатной пацан, щеголяющий тем, что не ценит нормальную жизнь с ее главной составляющей – деньгами, потому что он живет, как говорится, часом с квасом, а порою – с водою, то есть деньги у него сегодня есть, а завтра их нет. А коль так, он ими и не дорожит, считая их обыкновенным мусором.
Бывший штабс-капитан Василий Чумаков был выпускником кадетского корпуса. Позже было юнкерское училище, которое он не окончил, потому что началась Первая мировая война. Ему не повезло: он сразу попал в действующую армию. Его пехотный полк сплошь состоял из необстрелянных бойцов, и только умелое руководство командира части полковника Кутяпова позволило полку не только уцелеть в первые месяцы сражений, но и отбросить немцев на сто верст от Вильно. В этих боях подпоручик Чумаков сумел отличиться, командуя взводом новобранцев. Однажды на свой страх и риск он выбил с ними противника из хорошо укрепленного хутора, за что получил Георгиевский крест и без выслуги лет, минуя несколько воинских званий, сразу надел мундир штабс-капитана. Теперь в его подчинении была уже целая рота, состоявшая из выходцев с Кавказа. Уж эти дрались так дрались, неся смерть и ужас врагу.
И когда в декабре 1915 года в Россию со специальной миссией прибыл французский сенатор Поль Думер, чтобы просить русское правительство о посылке четырехсот тысяч русских солдат на помощь Франции, в состав сформированной бригады была включена и рота штабс-капитана Чумакова.
И там, на чужой земле, Чумаков отличился со своими бойцами. Корпус, в котором они сражались совместно с французскими и британскими войсками и который защищал регион Шампань-Арденны, не допустил под Реймсом прорыва немецких дивизий в направлении Парижа. За этот подвиг несколько сот русских, в том числе и Чумаков, были удостоены наивысших наград Французской Республики. Позже Василий, как и тысячи других русских военных, до глубины души был возмущен известием о том, что Россия по решению большевистского правительства вышла из войны, не дав союзническим силам победоносно завершить ее. Он на чем свет клял большевиков, захвативших власть в его стране, клял и их революцию. С таким настроением в Россию вернулись многие военные. Когда бывшие командиры попытались протестовать против действий правительства, их стали арестовывать, судить и отправлять в лагеря, тюрьмы. И никакие подвиги, совершенные ими на войне, никакие награды не помогли. Бывшего штабс-капитана Василия Чумакова приговорили к десяти годам исправительных работ. В лагере он и познакомился с Джафаром.
К тому времени тот уже был известным авторитетом в воровских кругах. Он уверил Чуму, остро переживавшего революционный апокалипсис в России, что былые времена уже никогда не вернутся, и если он хочет занять достойное место в обществе, то должен стремиться к этому. А верный путь к славе и деньгам – это насильственная экспроприация материальных ценностей, которые покуда принадлежат другим. Джафару нужен был такой храбрый и умный человек, как Чумаков, и он позвал его в свою банду. Так бывший штабс-капитан и стал заместителем у одного из самых известных в те годы в России бандитских авторитетов. Банда Джафара еще до войны орудовала в Москве. Это была крупная группировка, хорошо организованная, сплоченная, со своей разведкой.
Джафар уговорил Василия, которому он присвоил погоняло Чума, совершить побег из лагеря. Им это удалось. Добравшись до Москвы, Джафар быстро восстановил все свои прежние связи, и уже скоро новая российская столица вздрогнула, узнав о возвращении одного из самых жестоких бандитов своего времени. Все вернулось на круги своя – ограбления, убийства, налеты на милицейские участки следовали один за другим, так что газеты не успевали рассказывать о подвигах воскресшего вдруг Джафара. У Джафара и Чумы появились деньги, которые они просаживали в ресторанах, казино и борделях. Их постоянно видели изысканно одетыми в обществе таких же богато одетых дам. С этим эскортом столичных красавиц они появлялись в театрах и на высоких приемах, которые устраивали новые власти. Знакомство с новой элитой России дало свои плоды – они смогли легализоваться в обществе, имея на руках удостоверения полномочных представителей власти, с которыми можно было разъезжать по всей стране. И когда однажды они оказались в Самарской губернии, Чума, бывший оттуда родом, предложил Джафару там и осесть. Дескать, а столицах они сильно наследили, и за ними устроена охота, а здесь они еще не примелькались, поэтому могут начать с чистого листа. На том и порешили. Здесь тоже не составило труда сколотить банду, подобрав опытных людей, и завести нужные знакомства.
Джафар даже отыскал старого своего знакомого, с которым они когда-то вместе хлебали тюремную баланду. Тот, как оказалось, работал в местном уголовном розыске, что было на руку Джафару.
Нашел в Самаре старых товарищей и Василий. Двое из них в свое время были участниками крестьянского восстания в Поволжье, а теперь, выйдя из заключения, стали активистами антисоветского подполья, где первую скрипку играли бывшие члены самарской эсеровской организации.
В общем, жизнь налаживалась, и у друзей были далеко идущие планы. Объявленная правительством Новая экономическая политика стала залогом этого успеха. У людей появились деньги и недвижимость, что не могло не радовать того же Джафара, у которого главной целью было разбогатеть и уехать на постоянное место жительства в Америку, чтобы там создать свою банду.
18
– …А ты, случайно, не из босяков? – спросил Беляша Ленька.
– Нет, – ответил парнишка. – Я жил в нормальной семье, где был какой-никакой достаток и где ни отец, ни мать пьяницами не были – трудились, растили детей. Я тоже мечтал прожить нормальную жизнь. Выучиться, найти хорошую работу, жениться, детишек нарожать… А босяку все это не нужно. Он живет тем, что есть. А что может быть у босяка? Да ничего! Ни денег, ни жилья, ни семьи, ни работы – только вечные скитания да поиск приключений на свою задницу. А я так не хочу. Я хочу к чему-то стремиться.
– Но сейчас ты живешь почти как босяк, – напомнил ему Ленька.
– Это не по своей воле, это я так. Не было бы Гражданской войны, в которой я потерял родителей, жил бы по-другому. И зачем все это нужно было?
– Это ты про революцию? – не понял его Ленька.
– А про что же еще?
– Вот и дед мой по матери так говорит, – вспомнил Ленька. – Но отец мой думал по-другому. Дескать, негоже эксплуатировать трудового человека, негоже пить из него всю жизнь кровь – тут и последняя шелудивая собака взбунтуется. Мать была не согласна с ним. Говорила, что даже одна загубленная в революцию жизнь – это трагедия. На этом у них и ссоры происходили.
…Дом, куда привел компанию Беляш, находился на Казанской, недалеко от Хлебной площади.
– Беляш, а Беляш, я слышал, здесь где-то есть квартал, где находятся местные бордели… Это далеко отсюда? – поинтересовался Пузырь.
– Мал еще о борделях думать! – шикнул на него Мишка. – Ишь, куда тебя понесло!
Пузырь обиделся.
– Больно ты у нас взрослый! – смерил он его недобрым взглядом. – Да ежели хочешь знать, у меня-то были уже женщины, а вот у тебя – я не уверен.
– Да иди ты! – махнул на него рукой Мишка. – Женщины, видите ли, у него были! Во сне, что ли? Да и во сне они тебя всегда обходить будут. Зачем им детский сад?
– Есть у нас, парень, такой квартал, который нэпманы называют «улицей красных фонарей», – сказал Беляш. – У нас там даже свой человек имеется – это мадам Залесская, которая содержит лучший на квартале бордель. А мы ей девочек туда поставляем. Так что ежели будет у вас на примете какая – тут же Джафару об этом доложите. На крайний случай – Чуме, они оба в доле с Сарой Евгеньевной. А девочки там – цимус, я вам доложу!
– Вот бы поскорее туда попасть, – мечтательно произнес Кешка.
– Подожди, не все сразу, – осадил его Беляш. – Вам надо сначала проявить себя. Вот когда Джафар поймет, что вы ценные кадры, он вам многое позволит – будете жить как у Христа за пазухой.
19
Дом, куда они пришли, был большим рубленым пятистенком с пристройкой, где находилась баня, которая топилась «по-черному», и дровяным сараем. Во дворе был огород, сортир и колодец с «журавлем».
Когда Беляш открыл входную дверь пятистенка, оттуда вырвались густые клубы дыма – какая-то гремучая смесь махры, самосада и дорогих сигарет.
…Они перешагнули порог дома и оказались в небольшой кухне, где пахло жареной картошкой и кислыми щами. Миновав кухню, они попали в гостиную, где играл стоявший на низеньком столике граммофон фирмы «Лемберг», поднимая настроение присутствующих модной джазовой оркестровой мелодией под названием «Мама Инесс», под которую несколько пар лихо отплясывали фокстрот, выделывая при этом немыслимые коленца. Здесь же сновали уголовного вида парни с косыми челками, хлеставшие прямо из горлышка спиртное. Одеты они были в мятые брюки, заправленные в сапоги-гармошки. А в дальнем же углу несколько разновозрастных парней, сидя за большим столом, с азартом резались в буру. Чуть поодаль возле простенка ворковала стайка жутко размалеванных девиц гимназического вида, одетых в коротенькие юбочки и шелковые чулки. Гости с восторгом смотрели на этот странный праздник и ждали каких-то чудес. Им хотелось поскорее войти в этот мир, чтобы стать полноправными его участниками. Только вот с чего начать – они не знали. Может, сесть и сыграть в буру? Это так привычно для них. Карты что разделочный нож для повара. В ту же буру им не раз приходилось играть, и они знали, что бура, штос, рамс – это настоящая воровская игра, все же остальные – это для фраеров.
– Гляди-ка, в карты режутся! – указывая на игроков, произнес Пузырь. – Вот бы нам с ними сыграть. Авось повезет.
– Они в буру играют, – говорит Мишка. – А ты в нее играл когда-нибудь?
– А то!.. – важно произнес Кешка.
Он не врал. Это была одна из любимых его карточных игр. В нее играют обычно два или три человека, и она продолжается до тех пор, пока все карты в колоде не закончатся. По завершении игры идет подсчет очков, победившим же считается тот, кто набрал шестьдесят очков из ста двадцати возможных.
В тот самый момент, когда гости оказались в доме, как раз шел подсчет очков.
– Ты кончай, Чирик, мухлевать! – рычал на вертлявого неприятного вида паренька с блатной косой рыжей челкой пучеглазый мордоворот, взгляд которого в эту минуту был устремлен на руки Чирика.
– Да не мухлюю я, не мухлюю! – оправдывался Чирик. – Это ты, Кувалда, всю жизнь крысятничаешь…
Тот, кого Чирик назвал Кувалдой, не стал терпеть оскорблений и с размаху врезал Чирику «в рог», так, что тот мешком рухнул с табуретки.
Поднявшись, Чирик выхватил из-за голенища сапога финку и бросился на обидчика.
– Сука позорная, убью!
– А ну, парашники, ша! – зарычал на драчунов Джафар. – Или мне вам яйца отстрелить? – спросил он, доставая из-за пояса наган. – Так я это быстро сделаю. И тогда вам дорога к мадам Залесской навсегда заказана. Зачем ее девкам кастрированные бараны?
В комнате раздался смех.
– А это что еще за кренделя? – оттолкнув от себя девицу, парень в азиатской тюбетейке на голове глянул в сторону появившихся в дверях незнакомцев.
– Да это те фраера, о которых я тебе говорил, – сообщил Беляш. – Сам же просил привести их…
– Что, пацаны за фартом в Самару-маму пожаловали? – усмехнулся смуглый.
– Кто это? – шепотом спросил Беляша Ленька.
– Это и есть Джафар.
Джафар был рослым слегка сутулым парнем с щетинкой темных волос на верхней губе и черными мелкими бараньими кудряшками на голове. У него было смуглое лицо с чуть раскосыми глазами и разбухшим красноватым, как у старого кокаиниста, носом. Взгляд пронзительный, и когда он глядел на тебя, становилось как-то не по себе – будто бы к тебе в душу залезали грязными руками.
– Ну, допустим, за фартом! – за всех ответил Пузырь.
Джафар глянул на него и улыбнулся, обнажив золотую фиксу.
– А как тебя, мил человек, звать-то? – спросил его Джафар.
– Кешкой! – отозвался тот.
– А по уличному?
– Пузырь!
– Не хилая погремуха! – снова улыбнулся Джафар. – А что? Просто и понятно. Без всякого понта. А то назовут себя Волкодавом или там Свирепым, а на деле проверишь – пшик! А этот не пытается выглядеть лучше, чем он есть. Я, говорит, Пузырь – и все тут. Но я уверен, что он-то в деле себя еще покажет. Ты, случайно, не домушник, не форточник? Ну что косишься на меня – не щипач же ты, в конце концов. Ты маленький, в форточку можешь пролезть. Это ж не ему этим заниматься, – указал он на крупного Мишку. – Этот точно щипач. Ну, сколько уже лопатников в Самаре увел?
– Да еще ни одного, – ответил паренек. – Времени не было, мы ведь только вчера причалили.
– Ну, удачи тебе, мил человек. А как у тебя по части помахаться или же там квартирку облупить?
– Это мы могем! – заверил Мишка.
– Ну вот и славно – такие бойцы нам нужны, – по – отечески посмотрел на него Джафар и тут же добавил: – Эй, Чирик, завтра возьмешь с собой на дело Гришку-цыгана, Беляша и этих новеньких. Надеюсь, успел присмотреть очередную нафаршированную квартирку?
– Да есть тут одна на Казачьей, – признался Чирик. – В ней богатенький нэпман живет, вроде как колбасный цех у него за городом. Мы тут понаблюдали с пацанами за ним и выяснили, что он постоянно золото скупает. За границу, падла, видно, хочет удрать.
– Вот вы и устройте ему проводы! – хохотнул Джафар.
– Вот колбасы-то нажрутся! – произнес кто-то из парней. – Нам бы хоть немного притащили…
Чирик фыркнул.
– Мы не за колбасой идем. Нам лавэ нужны, верно, Гришка? – Он посмотрел на Гришку-цыгана.
– Верно! – подтвердил тот. – У нас в таборе так говорят: «лавэ нанэ – жизни нанэ».
– Правильно, без денег жизни нет, – кивнул ему Джафар. – Плохо, когда у тебя в кармане лавэ на один хруст. Безденежье оно и в Китае безденежье! В общем, так, завтра с Чириком пойдете! – глянув в сторону новеньких, распорядился бригадир. – И смотрите у меня там – чтоб старшего слушались, а не то он вам зубы-то пересчитает, а потом я еще добавлю. А ну, идите сюда, я вас хорошим табачком угощу.
И он достал из кармана пачку «Элиты».
– Ишь ты! Высший сорт… – принимая пачку из рук бригадира, чтобы вытащить оттуда сигареты себе и товарищам, с восторгом произнес Пузырь. – «Донская государственная табачная фабрика Асмолова», – громко, так, чтоб слышали все, прочитал он. – Не хило устроилась братва. Нам так бы жить! Но мы, видно, рылом не вышли.
– Ничего, сынок, – сказал ему Джафар. – Какие ваши годы – и у вас все будет. Только надо немного усилий приложить… Ты думаешь, нам все с неба упало? Да если хочешь знать, прежде чем начать жить на широкую ногу, мы тюрьмы с лагерями прошли, были и битыми и насилованными. Но это закалило нас, научило жить как надо… На вот тебе подарочек! – он протянул мальчишке пачку «Любительских», а потом крикнул: – Эй, кто-нибудь, смените же вы там пластинку! Надоела уже ваша иностранщина. Слюнявый! А где у нас Слюнявый – интересно. Он же у нас за музыку отвечает?
– Да горе у него, – отозвался тот, кого Кувалда назвал Чириком. – У него каверна открылась, кровь горлом идет, так что в больничке лежит и ждет, чем все кончится.
– Тубик у него, во время последней отсидки на зоне подхватил, – попытался объяснить атлетического вида парень в фуражке-восьмиклинке на голове.
– Ну тогда ты, Чума, смени пластинку. Найди там что-нибудь повеселее.
Тот, кого Джафар назвал Чумой, немного побурчал, но послушался. Он порылся в лежащих возле граммофона стопкой пластинках, нашел, как ему показалось, что-то подходящее и перед тем, как поставить пластинку, завел ручкой пусковой механизм аппарата. В следующую минуту из граммофона зазвучала всем знакомая веселая мелодия «С одесского кичмана бежали два уркана» в исполнении популярного эстрадного певца Леонида Утесова.
– Ну ладно, братва, будя драть глотки! – неожиданно прервал пение Джафар. – Теперича тяпнули по стопке – и плясать! Ну, кому я говорю!
Чтобы подать пример, он схватил за руку сидевшую у него на коленях размалеванную девицу и вытащил ее на середину комнаты. Танцором он был плохим, зато энергия из него била ключом – он так беспощадно мотал из стороны в сторону свою партнершу, так ее неистово кружил вокруг себя, что она быстро выбилась из сил и упала без памяти ему на руки. Братва последовала его примеру, и вскоре дом превратился в настоящий вертеп, где все гремело, тряслось и дребезжало подобно сломанному гигантскому механизму. Кругом визжали, орали благим матом, не забывая при этом пускать бутылку «русского стандарта» по кругу. Они прыгали и кривлялись, будто бы обезьяны перед зеркалом. И это доставляло им дикое удовольствие.
– Ну а вы что как мертвые? – рыкнул в сторону новеньких Джафар. – Что, говорю, не пляшете, али вам не нравится наше общество? А ну, Чирик, налей им водки, а потом пусть хватают шмар – и вперед. Хотят пляшут, хотят – в спальню тащат. Ведь для чего мы здесь собрались? Правильно, чтоб выпить и со шмарами поразвлечься. Сынок, – обратился он к Пузырю, – и ты тоже не отставай!
Кешка, недолго думая, тяпнул водки, выбрал среди девиц самую высокую чахоточного вида кралю и поволок ее на середину комнаты танцевать. Они так смешно смотрелись в паре, что народ невольно заржал.
– Давай, братва, давай, веселись, пока живы! – стараясь перекричать музыку, орал уже совсем пьяный Джафар. – Помните: здесь у нас разрешается все – пить вино, нюхать кокаин, курить анашу, целовать девочек и уединяться с ними в комнатах! Это пусть Советы соблюдают свою мораль, а для нас мораль одна – это наши воровские законы! Вам всем это понятно?
– Всем, Джафар, всем! – отозвалось несколько пьяных голосов.
– Вот и лады! Вот и давайте, веселитесь от души.
– Вот цирк, так цирк! – стонал Чума, глядя на танцующего Пузыря, который уткнулся носом в живот своей крали, похожей на длинную жердину. – Лично я подобного никогда не видел. Ну, умора, ей-богу! Танец маленькой букашки с длинным червяком – точно умора. Давай-давай, Пузырь, весели народ!
Сам Чума не танцевал – ему было «западло» веселиться со всем этим сбродом, ему, бывшему царскому офицеру, знавшему придворные балы, на которых доводилось танцевать даже с дочерями самого государя императора.
Чирик подошел к столу, где вместо карт теперь красовалось несколько бутылок со спиртным, и, плеснув в стаканы зелья из бутылки с этикеткой «Дикая утка», подозвал Мишку с Ленькой.
– А ну давайте, пацаны, врежьте, а потом хватайте марух и плясать! Слышали, что сказал Джафар? А он повторять два раза не любит. А может, вы хотите «Красноголовки»?
Пацанам было известно, что «Красноголовка» – это водка первого сорта с красной крышкой. Бутылка такой водки еще недавно стоила шестьдесят копеек, но с приходом большевиков во власть стоимость ее стала постепенно увеличиваться. Поэтому люди стали чаще брать «Белоголовку» с белой крышкой. Продавались все эти бутылки в плетёных корзинках. Были и самые маленькие бутылочки объемом 0, 061 литра – в народе их прозвали «мерзавчик».
– Или вы предпочитаете вино? – заметив, как скривились губы у пацанов при виде водки, спросил Чирик. – А то у нас и этого добра навалом. Есть и «Василубани», которое мы зовем «С Васей в бане», есть «Херес кубанский», «Кагор», шампанское. Так что выбирайте…
– А я бы щас лучше обыкновенного деревенского самогона хряпнул, – неожиданно заявил Мишка.
– А я бы в пельменную сходил или трактир, – сглотнув слюну, произнес Беляш. – Жрать что-то захотелось.
Ленька с Мишкой только вздохнули. Им тоже поскорее хотелось выбраться на свежий воздух и съесть где-нибудь по пирожку с ливером. А здесь приходится подчиняться требованиям взрослых бандитов, которые даже не торопились их накормить. Водкой-то сыт не будешь. Они порой любили зайти в какую-нибудь рабочую столовку и задешево поесть. В трактирах тоже можно было наесться «до отвала» всего за десять копеек.
Еще дешевле можно было поесть на рынке, где за две копейки спокойно выбираешь дюжину отборных соленых огурцов. Но без горячего плохо, поэтому пацаны и предпочитали дешевые трактирчики. Правда, у них тоже был свой минус – в таких дешевых питейных заведениях было не очень комфортно и безопасно. Там постоянно сновали подозрительные полукриминальные личности, пьяные ломовые извозчики, чернорабочие, так что убийства и ограбления были не редкостью. Совсем другое дело – приличные трактиры или кафе-рестораны. В этих заведениях было очень приятно скоротать вечерок. Столовые приборы сверкали чистотой, скатерти были накрахмалены, всюду мелькали расторопные и опрятные половые, а кухня источала аппетитные и вкусные запахи. Сюда друзья приходили, когда у них заводились деньги. Обед здесь стоил уже копеек тридцать-пятьдесят. Правда, если ко всему они еще заказывали по рюмке водки, стоимость резко возрастала. А иногда им хотелось отведать и пива. Ну как можно отказаться от свежего пенистого пивка! Дешевые сорта, к примеру, «Светлое» и «Венское», стоили от 6 копеек за литр. Дорогие («Староградское» и «Мюнхенское») шли уже по десять копеек.
– А «Рыковки» советской не хотите отведать? – спросил Чирик пацанов.
Получив отрицательный ответ, он сказал:
– Нет? Ну и молодцы! Это неправильная водка. Ну где это видано, чтобы водка была крепостью тридцать градусов? Экономят Советы, на всем экономят…
Друзья уже знали, что «Рыковской» в народе прозвали выпущенную якобы по указанию председателя советского правительства Рыкова тридцатиградусную водку, тут же ставшую предметом толков и даже анекдотов. «Если бы, – говорилось в одном из них, – к „Рыковской“ добавить „Семашевки“ (говорили, что этот сорт водки предпочитает нарком здравоохранения Семашко), то получилась бы „Совнаркомовка“».
Но лично Леньке никогда не приходилось пробовать ни одну из этих марок, потому что он презирал пьянство. Хотел во всем походить на отца и обоих своих дедов и братьев, которые предпочитали трезвый образ жизни…
Короче говоря, друзьям нужно было поскорее выбраться из этой «малины» и отправиться в какой-нибудь знакомый трактир. Можно было бы пойти и в кабак, но кабаки они не любили – там подавали только спиртное, а вот с закуской, как правило, был дефицит. Другое дело трактир, где можно было и выпить, и хорошо пожрать.
– Ну все, братва, будя изгаляться! Щас сбацаем напоследок нашенскую – и разбежимся, – неожиданно прервал веселье Джафар. – Как там у нас говорят? «Час в радость, чифир в сладость, ногам ходу, голове приходу, матушку удачу, сто тузов по сдаче, ходу воровскому, смерти мусорскому», – напутствовал он. Следом, сделав длинную «дорожку» из кокаина на стоящем перед ним инкрустированном столике, он тщательно всосал в себя одной ноздрей порошок, чихнул пару раз и запел «Мурку».
20
– Веселая у вас братва, – когда все вышли на воздух, сказал Беляшу Ленька.
– Веселая, Леха, – согласился тот.
– А ты вот скажи мне, отчего это одни из ваших пацанов ходят в тюбетейках, а другие – в кепках.
– Отчего? А все просто: каждый подражает тому из бригадиров, кому он служит. Коль на башке тюбетейка, считай, что это джафаровский боец. А кепки носят те, кто возле Чумы отираются.
– Ну а мы тогда какие в своих соломенных шляпах? – спросил Мишка.
– Вы-то, вы – фраера. Сняли б вы их, чтобы не смешить людей. Вон, смотрите, даже Гришка-цыган сменил свой бараний малахай на кепку. А что вам мешает? Здесь есть один магазин – «Головные уборы» называется. Его хозяин – армянин Ашот, так он вам быстро кепочки подберет, а то вас за версту можно узнать. А завтра как вы на дело пойдете?
Беляш привел их к этому самому Ашоту, и тот подобрал каждому восьмиклинку.
– Пусть эти кепки приносят вам удачу, – сказал он им на прощание. – Скучно будет – снова заходите: у меня скоро новая партия кепок придет из Еревана. Кепки будут что надо – одной такой можно будет целый ипподром накрыть сверху…
– Ну вот, теперь вы на людей похожи! – сказал товарищам Беляш, когда они вышли из магазина. – А то барахло забросьте куда подальше.
– А может, их лучше продать – все денежка лишняя будет, – предложил Пузырь.
– Да кому они нужны, твои шляпы! – усмехнулся Беляш. – Вон, видишь двух алкашей возле пивного ларька? Им и отдай это добро. Глядишь, бог наградит за такую щедрость – он ведь все видит.
Недолго думая Ленька попросил друзей снять с головы канотье и, собрав все это добро в охапку, отнес забулдыгам. Те не поняли, что к чему, и потом долго глядели ему вслед.
Здание, куда привел их Чирик, находилось в самом центре города и выглядело таким солидным (одна облицовка мраморными плитами внушала уважение), что можно было смело сказать: здесь живут богатые люди.
Войдя в нужный подъезд, молодые бандиты уже хотели было подняться на нужный им этаж, когда дорогу им преградил консъерж. Но он даже не успел задать им вопрос, потому что в следующую минуту рухнул навзничь – это Чирик, не желая терять время «на пустяки», уложил его ударом кастета по голове.
И вот она, заветная дверь, тоже солидная, как и дом, задрапированная кожей, с фигурной позолоченной ручкой.
– А как же мы откроем ее? – спросил Пузырь.
– Да легко! – сказал Чирик, вытаскивая из кармана своего потрепанного пиджака связку отмычек. – Учись, сынок, пока я жив. И запомни: коль хочешь стать настоящим вором, не пожадничай и закажи слесарям отмычки, которые потом будут тебя всю жизнь кормить.
С этими словами он стал что-то там колдовать с замком, пытаясь подобрать нужную отмычку. Братва с напряжением наблюдала за его работой, прислушиваясь к каждому шороху в подъезде. «Ну скорее же, скорее! – мысленно подгоняли они Чирика. – Что ты так долго возишься? Ведь мочи уже нет ждать…» Наконец что-то внутри замка щелкнуло, и дверь открылась. Они вошли внутрь и остолбенели: в прихожей, с испугом глядя на них, стояла какая-то девица.
– Вы кто? – спросила она.
– А ты кто? – вопросом на вопрос ответил Чирик, который прекрасно знал, что в данный момент никого из посторонних в квартире не должно быть.
– Я – Нюрка-молочница, – дрожащим голосом произнесла девушка. – Молоко принесла хозяевам, а их не оказалось дома.
– Тогда как же ты вошла? – допытывался Чирик.
– Дверь была приоткрыта, видно, хозяева забыли плотно прикрыть, ну я и зашла.
– А когда поняла, что дом пуст, решила стибрить что-нибудь, – продолжил ее сбивчивый рассказ Чирик, увидев в руках девчонки холщовый мешок, уже чем-то набитый. – А ну дай сюда!
Девушка нехотя протянула ему мешок. Порывшись в нем, Чирик нащупал связанную вместе пару туфель и, вытащив их, строго спросил:
– Что это? Скажешь – твои?
– Да, мои! – нагло соврала девчонка.
– И шелковые чулки тоже твои? – указал он взглядом на спущенные почти до пола и явно бывшие с чужих ног чулки.
– И чулки мои! – продолжала врать девчонка.
– Что ж, сейчас придут хозяева, и мы спросим их, чьи это вещи.
– Отпустите меня, дяденьки! – взмолилась девчонка. – Не придут хозяева, не придут! Они сегодня на даче, к ним покупатели должны приехать, чтобы дачу посмотреть.
– А ты и рада стараться, – ухмыльнулся Чирик, осматривая своими масляными глазами ее фигуру. Девка была справной, и она не могла не понравиться. Одни бедра чего стоили – крепкие, широкие, так и хотелось их потрогать. – Видно, узнала, что хозяев не будет, и решила грабануть их…
– Да вы что, дяденьки! – с ужасом посмотрела на бандитов девушка. – Я в жизни ничего не крала…
– А это тогда что? – Чирик вытряхнул на пол из мешка несколько пар туфель и коробку со столовым серебром.
– А это… это… – залепетала пойманная с поличным девица.
– Да, это… – напирал Чирик. – Что молчишь, сказать нечего? Ничего, сейчас вот отведем тебя в милицию, ты там все расскажешь!
– Не надо в милицию, дяденьки! У меня отец больной дома, и если меня посадят, кто тогда будет о нем заботиться?
Про больного отца она не врала – в самом деле, заразившись однажды бруцеллезом через молоко больной коровы, он уже несколько лет мучился этой болезнью. Поэтому по дому и по двору передвигался только опираясь на палку. И то его часто приходилось поддерживать под руки, чтобы он не упал. Чаще всего это делала Нюрка, которая по документам была Анной. Он же звал ее Степкой, а все потому, что, воспитывая с женой четырех дочек, он мечтал о том, что пятым ребенком обязательно будет пацан, которому он передаст свое сапожное ремесло. Сына он хотел назвать в честь легендарного Степана Разина, который в свое время промышлял в этих местах вместе со своей бандой головорезов. Однако на его беду снова родилась дочь, которую он стал звать Степкой, или Стешей, и с самого раннего детства стал учить ее тачать сапоги. Ей нравилось это ремесло, поэтому к своим десяти годам она уже умела сделать и женские туфли, и офицерские хромовые сапоги, и валенки подшить, и починить любую обувь. Это радовало отца, и теперь он уже не огорчался, что у него девка, а не сын. Он постоянно ставил ее в пример остальным детям и говорил, что длинные волосы еще не есть показатель того, что у человека руки кривые. «Вон, гляньте на мою Степку, – говорил он. – Гляньте, какие сапоги она сшила. Ну, кто скажет, что это не мастер. Ну и что, что у соседа сыновья. Что они могут? Лежат весь день на солнце пузом кверху, и никакого с них толку. Нет, дело не в том, кого ты на свет белый произвел, а в том, кого воспитал».
Он продолжал гордиться своей дочерью, тем, что она переняла его профессию, только ей самой больше нравилась женская работа. У матери она научилась и обеды варить, и коз доить – ведь знала, что в будущем должна стать чьей-то женой и хозяйкой в доме, а для этого нужно освоить все женские премудрости. А мужским делом пусть в доме мужик занимается. И она верила, что муж у нее будет пригожий лицом, деловой и рукастый, как ее отец. А таких бездельников, что живут у нее по соседству, ей и на дух не нужно, хотя оба брата уже давно положили на нее глаз. Даже однажды передрались из-за нее. Это когда старший, Генка, предложил ей вечерком пойти в парк на танцы, а младший, Толян, тут же кинулся на рожон. «Не лезь, – говорит, – к ней». Ну, старший и не выдержал – дал ему кулаком в нос, и понеслось! Дрались они долго и отчаянно, пока на их крик из дома не вышел отец и не отхлестал обоих хворостиной…
– …Ну, хорошо, – сказал Чирик Нюрке, – сейчас поможешь нам собрать все самое ценное в квартире – ты же, надеюсь, знаешь, что где лежит. А потом я подумаю, что с тобой делать. А ну, пацаны, наведите-ка здесь шмон! – скомандовал он. – Все, что найдете, свяжете в узлы – так легче будет унести.
Пацаны тут же разбежались по комнатам в поисках дорогих вещей. Им потребовалось около часа, чтобы довести дело до конца. Все краденое они связали в узлы, которые положили у выхода.
– Я тут немного коньячку нашел, – сказал Чирик. – Сейчас выпьем по стопарю за удачную охоту – и домой. Вот только я не знаю, что с этой марушкой делать, – он указал на Нюрку-молочницу. – Наверное, отведу-ка ее к мадам Залесской в бордель. Она за нее мне не менее тыщенки отвалит.
– Не надо в бордель! – заканючил Пузырь. – Отдай ее лучше мне.
– И что ты с ней будешь делать? – спросил Чирик.
– Я о ней буду заботиться, как о сестре. А когда она вырастет, то женюсь на ней.
– Дурак ты! – крикнул Чирик. – Даже если я тебе ее отдам, у тебя ее Джафар отберет или тот же Чума. Они охочи, суки, до бабы, стараются ни одной юбки не пропустить. Отведут к Залесской и будут похаживать туда, чтобы эту цыпу иметь. Да ты посмотри на нее – молодая, свежая, как лесная малинка, а какие буфера! И не скажешь, что малолетка. Эй, молочница, тебе сколько лет?
– Пятнадцать, – ответила девчонка.
– Ну вот, я же говорю – малолетка! – подытожил Чирик.
– Неужто Джафар у нас отберет Нюрку? – забеспокоился Пузырь, когда бандиты вышли на свежий воздух. – Я ж тогда его, суку, прирежу. Вот уснет он, я его и полосну по горлу опасной бритвой.
– Да ладно тебе! Все будет хорошо, – попытался успокоить его Мишка.
Неожиданно нашу компанию обогнали двое пацанов с газетами в руках.
– Загадочное убийство самарского смотрящего Ахмета Ильясова! – размахивая газетой, кричал небольшого роста мальчишка, одетый в коротенькие на лямках штаны.
– Воры в законе специально соберутся на экстренный совет, чтобы выбрать нового смотрящего! – вещал второй малец, одетый в туркменские шаровары. – Читайте в завтрашнем номере «Самарской газеты»!
Джафар, ожидавший Чирика с подопечными в подвале городской овощной базы, где стояли чаны со свежеквашеной капустой и где облюбовала себе место его бригада, встретил их дружелюбно.
Увидев в руках пацанов узлы с награбленным, сказал:
– Ну давай глянем, что вы там притащили…
Братва стала вытряхивать перед ним прямо на бетонный пол награбленное. Тот, недолго думая, тут же стал отбирать причитающуюся ему часть добычи.
– Это мне, – подняв с пола позолоченный портсигар, произнес он. – И вон ту штуку давай мне, – указывая на морской кортик, велел он Чирику.
– Да я, вроде, кортик хотел себе взять, – попытался протестовать Чирик.
– А в морду не хошь? – рыкнул на него Джафар, после чего Чирик тут же потерял интерес к морской теме. Ведь он знал, на что был способен бригадир. Знал, что последний раз его судили за то, что он избил милиционера, который участвовал в ночной облаве на беспризорников. Он так приложил его своим кулачищем, что сломал бедняге нос вместе с лицевой костью, отчего тот потом целый месяц пролежал в своей ведомственной больнице.
Впрочем, что можно было ожидать от человека, который в свое время отмотал немалый срок за то, что зарезал своих родителей – те не дали ему червонец, чтобы купить у цыган марафет, на который он подсел еще в десятилетнем возрасте. Тогда ему было тринадцать. Ну а к нынешним тридцати пяти он успел отсидеть в общей сложности около двадцати лет, и что примечательно – в основном за «мокруху». Так что в бригаде он слыл самым жестоким вором, если не считать Черепа. Был у них один жиган с таким погонялом – так его прозвали за вечно блестящую, бритую под красного командарма Котовского голову. Череп был родом из Одессы и в Гражданскую войну служил ординарцем у этого прославленного героя, который был его кумиром. Он ему во всем подражал – и его лихости, и безрассудству, и даже бритому черепу. А по-настоящему Черепа звали Вениамином, или, проще говоря, Веня. Он носил морской тельник и брюки-клеш и был отъявленным головорезом. Его боялись даже свои, потому как он мог ни с того ни с сего во время карточной игры пырнуть какого-нибудь игрока финкой. Или же в городе начинал приставать к какой-нибудь барышне, а когда ее кавалер заступался за нее, он бил его ножом в живот или в грудь. Настоящие самарские жиганы никогда так не поступали. Если они и применяли когда-то холодное оружие, то только в честном бою, хотя бывали и исключения…
– А это что еще у нас? – пристально посмотрел Джафар на Нюрку.
– Да это так, ничего серьезного, – Чирик сразу попытался притушить возникший у бригадира интерес к девушке.
– И все же?.. – со свистом, как это делают опытные блатные, Джафар вобрал в себя воздух через сжатые губы.
– Ты про эту, что ли? – как можно равнодушнее спросил Чирик, указывая на девушку. – Так это Нюрка, Нюрка-молочница, – небрежно бросил он.
Джафара этот ответ, казалось, не удовлетворил.
– И откуда ж вы ее выцарапали?
– В доме нэпмана была.
– Выходит, тоже трофей? Значит так, сейчас отведешь ее в мой угол, скоро я знакомиться к ней приду.
– Не имеешь права отбирать ее у нас! – возмутился стоявший здесь же Пузырь. – Это наш трофей. Забирай все награбленное, а девушку оставь в покое.
Пузырь говорил так громко и так напористо, что бригадир опешил.
– Цыц, щенок! – прикрикнул он на пацана. – Что так разорался? Али приглянулась она тебе? А на кой?
– Я женюсь на ней! – заявил Пузырь. – Когда вырасту… – добавил он, заметив улыбки на лицах братвы.
– Э, брат, пока ты вырастешь, эта девка состарится, – усмехнулся Джафар. – А ей сейчас мужик нужен. Вот она и будет моей марухой. Ну что стоишь? – обратился он к Чирику. – Велел тебе вести ее в мой угол, так веди! А ты, пацан, – снова обратился он к Пузырю, – сгинь с моих глаз от греха подальше. Не то я тебе вот из этой волыны, – указал он на свой наган, – пузо продырявлю.
– Как бы я тебе бошку не продырявил! – огрызнулся Пузырь. – У меня тоже волына имеется, при этом не хуже твоей.
Этого Джафар уже простить не мог. Со словами «Ну ты и борзый, Пузырь!» он вскочил на ноги и схватил Пузыря за ухо.
– А ну становись раком! – зарычал он на него.
– Больно, гад, пусти! – взмолился мальчишка, но не тут-то было. Джафар оскорблений не прощал – даже женщинам, старикам и детям.
– Говорю, становись раком, – снова приказал он, – иначе ухо оторву.
И так как в планы Пузыря не входило остаться на всю жизнь без уха, он нехотя опустился на колени и тотчас же получил такого пинка под зад, что, пролетев метра два, тяжело рухнул на пол.
Ладно, если бы это происходило в другом месте, но тут все это видела Нюрка, и тогда Пузырь не стерпел. Он выхватил из-за пазухи револьвер и застрелил бы бригадира, если бы не Череп, который молниеносным движением вырвал из его рук оружие.
Джафар, поблагодарив Черепа, медленно встал и, подойдя к Пузырю, так хватил его кулаком по шее, что тот, громко охнув, свалился.
– Ну что стоишь? Веди же, говорю, девку на мою территорию! – снова приказал Джафар Чирику.
– А может, не надо, Джафар? – произнес тот. – Посмотри, она же совсем ребенок. Ей столько же лет, как этим новеньким, а им и шестнадцати нет.
– Ничего, веди! – был ответ.
Ленька, наблюдавший всю эту сцену, только сейчас заметил, насколько Джафар был похож на известного сказочного персонажа Карабаса-Барабаса. У него были злые глаза и мохнатые черные брови, как у рубщика мяса Али с городского рынка, один взгляд которого приводит в трепет всех, даже милиционеров, приходящих заполучить на дармовщинку мясца, и только грозный вид Али с огромным топором в руках и в окровавленном фартуке может остановить их.
…Территория бригадира находилась в дальнем углу подвала. Там пацаны настелили на пол поддоны, что нашли на овощебазе, а поверх положили матрасы, которые стащили в соседнем рабочем общежитии. Угол они завесили ворованными простынями – и получилась настоящая спальня. Вот оттуда, с той стороны, и раздался ночью отчаянный детский крик, сопровождавшийся продолжительным плачем. Всем сразу стало понятно, что заливалась слезами бедняжка молочница. Пока они шли на базу, девчонка успела рассказать свою невеселую историю жизни. По ее словам, она была единственным кормильцем в доме, так как отец и мать вечно хворали и не могли зарабатывать деньги.
– Ты что ж наделал-то! – утром высказал Джафару Чирик. – Считай, ребенку жизнь поломал! Я слышал, тебя воры хотят смотрящим назначить в городе. Не приведи господи, если такой изверг будет следить у нас за порядком – стонать народ станет. Нет, Джафар, не бывать тебе смотрящим, – с этими словами он вытащил из-за голенища сапога финку, однако бригадир опередил его, выстрелив из револьвера.
– Так будет с каждым, кто посмеет мне перечить! – бросил он в сторону наблюдавших эту сцену молодых бандитов.
– Сука, ты моего человека убил!.. – зайдя за спину Джафара, зло прошипел ему в ухо Чума. – Ты же знал, что Чирик на меня работал.
– Тут все должны работать только на меня, – заявляет Джафар. – Кстати, и ты тоже.
– Ты забываешь, скотина, с кем имеешь дело! – угрожающе посмотрел на него Чума. – В лагере-то готов был ноги мне целовать за то, чтоб я не давал тебя в обиду. Вспомни, не я ли там всем рулил, не мои ли люди держали всю зону в кулаке.
– Да, было дело, – согласился Джафар, – держали вы зону со своими подлючими бывшими офицериками. Ух, как я вас всех ненавидел! – он полоснул взглядом Чуму. – Весь ваш барский род! – добавил он. – Здесь я с красными солидарен, ведь они тоже вас ненавидят.
– Ну и неблагодарный же ты, Джафар! – укорил его Василий. – А не эти ли, как ты их назвал, ненавистные бывшие офицеры не дали сделать из тебя форшмак?
– Чиво? – не понял Джафар. – Какой еще форшмак?
– Да есть такая закуска из продуктов, пропущенных через мясорубку, – пояснил Чума.
– Да чхал я на этих спасителей! – небрежно бросил Джафар.
– Давай-давай, мели, Емеля, твоя неделя! Но не забывай, что завтра похмелье наступит… – с угрозой произнес бывший штабс-капитан. – Запомни, Джафар, если бы не я, подполье давно бы тебя ликвидировало как ментовского стукача. Да-да, не удивляйся. Правда – она глазастая. Вот и тебя наши люди несколько раз видели входящим в милицейское управление.
Джафар, казалось, даже побледнел после этих слов.
– Ну ты же знаешь, пошто я туда хожу – там у меня свой человек, который сообщает мне о планах чекистов. Коли б не он, нас бы давно перестреляли, как куропаток, или повесили на виду у всего города. Так что не надо трындеть понапрасну!.. А вообще, ты думаешь, я контриков твоих боюсь? Да ведь они обыкновенные зайцы. Кабы было не так – не бегали бы от легавых. А то, ишь, ликвидировали бы они меня… Пусть за свою шкуру боятся. И ты тоже бойся! – угрожающе произнес он, глядя в упор на Чуму. – А то, глядишь, завтра к тебе на хату ЧК ввалится – отобьют почки и бросят в камеру к педерастам.
– Я запомню эти слова! – пригрозил Чума. – Ты еще за них ответишь!
– Это ты орала ночью? – улучив момент, спросил стоявшую рядом Нюрку Пузырь.
– Я, – ответила она. – Этот гад снасильничал меня. – Она указала взглядом на Джафара.
– Ничего, – нахмурился пацан, – я ему еще это припомню! А ты не вешай нос, я все равно, когда вырасту, женюсь на тебе.
Нюрка с благодарностью посмотрела на мальчишку. Он ей представлялся заботливым младшим братом. А вот кто действительно приглянулся ей, так это был Ленька, который показался уже взрослым сильным и умным парнем. У него было волевое лицо и красивые серо-зеленые глаза. И она тут же влюбилась в него, потому что именно таким видела своего будущего парня. А вообще, думала она, все пацаны в этой шайке-лейке неплохие, только Джафар подавляет их волю и заставляет жить по своим правилам. Им бы уйти от него и начать устраивать свою жизнь, но вряд ли у них получится – слишком запугал их этот зверь.
21
…Банда была довольно разношерстной. Костяк ее, как и большинства других самарских банд, составляли босяки, спившиеся и опустившиеся нищие люди, которых советская власть назвала частью деклассированных слоев общества. Наряду с босяками в бандах было немало и так называемых «горчишников» – так в Самарской губернии называли мелких преступников, которые в своих войнах с конкурентами и полицией, а позже милицией, использовали горчицу (острый красный перец на местном наречии). Особенно много горчишников в городе появилось в последнее десятилетие XIX века, когда патриархальная Самара буквально на глазах стала превращаться в капиталистический город, где дома богатых купцов соседствовали с бедными кварталами и совсем уж убогими лачугами. Горчишники гордились своим прозвищем, которое к началу ХХ века стало местной достопримечательностью, своеобразным фирменным знаком самарского криминала. Поддерживая традиции, они обычно носили за пазухой небольшой пакетик с толченым перцем. И когда у них случалась неожиданная схватка с превосходящими силами противника или, того хуже, с полицией, позже – милицией, кто-нибудь из горчишников в такой момент кричал: «Атас!», после чего бросал в лицо неприятелю едкий порошок. И пока нападавшие протирали глаза, горчишники делали ноги, мгновенно растворяясь где-нибудь в проходных дворах.
Ходили горчишники кодлами, подчиняясь законам своего бандитского братства. До конца тридцатых годов такие группы молодежи, подбадривая себя пивом и дешевым вином, под звуки гармошки бродили по городу в поисках приключений. Любимой песней была та, в которой были такие слова: «Я в детстве был „горчишник“, носил я брюки клеш, картуз с широким верхом, в кармане финский нож».
Члены групп всегда были чем-нибудь вооружены: револьверами, кинжалами, финскими ножами, а то и просто «фомками» или железными прутьями. Их уличные стычки с конкурентами или с простыми обывателями не преследовали какой-либо корыстной выгоды, а совершались, как говорится, ради «понтов», то есть для утверждения своей власти на тех или иных улицах.
К началу тридцатых годов территорию Самары контролировали три основные молодежные группировки. Самой сильной из них в это время считалась «дубровская», костяк которой составляли парни городского происхождения, и они держали под собой любимые места отдыха горожан – Струковский сад, сквер близ драмтеатра, район Жигулевского пивзавода и прилегающий к ним берег Волги. Главарем «дубровских» был девятнадцатилетний Георгий Сашин по кличке Сынок.
С этой группой соперничала банда «низовских», которая контролировала территорию современного Самарского района, между улицей Льва Толстого и рекой Самарой. В начале тридцатых в эту банду входили в основном бывшие детдомовцы, в период страшного поволжского голода 1921–1922 годов вывезенные в город из обезлюдевших сельских районов. Через полтора десятка лет недавние мальчишки, объединенные крепким детдомовским братством, составили серьезную конкуренцию «горчишным» группам городского происхождения. Возглавлял «низовских» выходец из Большеглушицкого района восемнадцатилетний Дмитрий Дружинин по кличке Колчак.
Но самой старой и традиционно сложившейся организованной криминальной группировкой в Самаре всегда считались «запанские», владения которых распространялись на поселки, протянувшиеся вдоль берега реки Самары, сразу за железнодорожным вокзалом – Кряж, Кавказ, Новый Оренбург и собственно сам Запанской (с июля 1934 года – поселок Шмидта). Однако еще раньше авторитет этой банды заметно упал, поскольку из центра Самары их стали вытеснять молодые хулиганы, в стычках с которыми «запанские» все чаще терпели поражение.
В начале тридцатых в лидеры этой группы вышел двадцатишестилетний Александр Калачев, он же Саша Медик, получивший такую кличку после нескольких месяцев работы санитаром в больнице имени Пирогова. При нем «запанские» попытались вернуть свое влияние хотя бы в районе Троицкого и Вознесенского рынков, где для воров всегда было раздолье.
Там на большом щите даже было вывешено напоминание посетителям рынков, в котором говорилось буквально следущее: «Остерегайтесь карманных воров!». А в путеводителе для гостей города был выделен целый абзац на эту тему: «Необходимое предостережение. Следует внимательно следить за своими вещами и карманами, особенно на пристанях, на вокзале, на базарах, на почте: самарские карманники весьма искусны и подчас отважны».
Однако в противостоянии с бригадой Медика «низовские» решили объединиться с «дубровскими», и сразу несколько стычек закончились тем, что «запанские» снова вынуждены были отступить.
Тогда Медик выбрал другую тактику: его бойцы стали подкарауливать конкурентов, когда те в одиночку шли по улице, неожиданно на них нападали, избивали и наносили ножевые ранения. Только после этого за дело взялся уголовный розыск. Несколько активных бойцов из группы «запанских» задержали и отдали под суд. А сам Саша Медик в конце того же года был убит в перестрелке с оперативниками.
Бригада Джафара числилась среди «низовских» и, соперничая с бандой Саши Медика, всегда поддерживала его в войнах против других банд. Не раз они делали совместные налеты на чужие территории, где жестоко расправлялись с конкурентами. Медик уважал Джафара и даже где-то побаивался его, ведь он был наслышан о крайней жестокости этого человека, который, поговаривали, мог убить даже за копейку. Его жадность не знала границ.
Впрочем, таких жадных до денег людей, готовых ради наживы совершать преступления, и без него хватало. Ну а с приходом НЭПа, когда в стране снова стали крутиться большие деньги, их стало еще больше. Стремление быстро разбогатеть сводило с ума теперь многих, в том числе и тех, кто должен был бороться с преступностью. Не редкими были случаи, когда кого-то из таких людей нэпманы и бандиты покупали буквально с потрохами, а то бывало, правоохранители сами создавали банды или же вступали в уже имеющиеся. В самих же отделениях милиции к задержанным часто применялось насилие. В этом отношении весьма показателен случай, происшедший тогда в Москве с самим членом Центральной контрольной комиссии партии, членом Верховного суда СССР Ароном Сольцем. Однажды он ехал в трамвае без билета. Его поймали контролеры, он полез в карман за документами, но оказалось, что Сольц их оставил дома. Он попытался объяснить это контролерам, однако они были неумолимы и с шумом препроводили его в ближайшее отделение милиции.
Очутившись там, Сольц искренне надеялся, что уж тут все окончательно прояснится, перед ним извинятся и отпустят. Однако действительность оказалась куда ужасней, чем предполагал видный член партии. Когда он попытался объяснить милиционерам, кто он такой, те в ответ грубо оборвали его, обозвали «жидом» и, применяя рукоприкладство, затащили в кутузку. Там Арон Сольц провел несколько мучительных часов, деля крышу с настоящими преступниками.
Когда ситуация с личностью Сольца прояснилась и его выпустили с извинениями на свободу, он первым делом пошел к Феликсу Дзержинскому, грозному председателю ВЧК. Тот выслушал рассказ своего товарища по партии и, не теряя ни секунды, взяв с собой с десяток чекистов, лично отправился в злополучное отделение. Явившись туда, Дзержинский арестовал начальника, весь штат милиционеров уволил, а само помещение приказал заколотить досками до лучших времен.
22
…В тот же день Джафар отвез Нюрку к мадам Залесской. Взяв с нее слово, что та никому не даст ее пользовать, кроме него, он вернулся на базу.
Когда Пузырь узнал, куда бригадир девал девушку, он предложил Леньке с Мишкой отправиться на ее поиски. И так как те тоже успели проникнуться симпатией к этой бедняжке, они тут же согласились. Вечером, взяв с собой Цыгана, Циклопа и Беляша, они двинулись в путь. Где находится бордель мадам Залесской, они уже примерно знали, поэтому, взяв лихача, велели ехать ему в квартал «красных фонарей». Тот решил, что молодежь захотела развлечься, и повез их прямиком к Залесской. «Здесь самые лучшие дамочки», – сказал он, когда они подъехали к двухэтажному кирпичному зданию, где все окна были залиты электрическим светом. – Счастливо повеселиться! Только знайте, по ночам мусора устраивают облавы, я много раз видел, как они у Залесской наводили шмон.
Пузырь дрожащей рукой открыл дверь борделя. Да и товарищи его не особенно уверенно чувствовали себя – ведь они впервые входили в этот храм разврата и не знали, что там да как. Внутри играла музыка. Где-то этажом выше, где, по идее, находились номера, визжала какая-то пьяная дамочка. А в просторном вестибюле первого этажа сновали полупьяные мужики с девицами, тогда как распоряжавшаяся всем здесь полная красивая дама, которую окружающие называли не иначе как Мадленой Иосифовной, постоянно уговаривала не маячить у входа, а пойти наверх и «заняться делом». Это, видно, и есть мадам Залесская, решили друзья.
– А вам что, молодые люди, нужно? – спросила их она.
– Мы, это… – заикаясь, начал было говорить Пузырь и осекся.
Ну что он мог сказать? То, что они пришли искать девочку по имени Нюрка. Так их быстро выпрут отсюда. А то и морду набьют. Вон какие здоровенные мужики ходят по коридору – не иначе охрана.
– Мы пришли развлечься, – пришел ему на помощь Мишка. – Есть у вас хорошие девочки?
– А вам не рано по таким местам ходить? – в свою очередь задала вопрос Мадлена Иосифовна.
– В самый раз! – за всех ответил Пузырь и этак вызывающе посмотрел на хозяйку заведения. – А если вы думаете, что у нас денег нет, то вы глубоко ошибаетесь! Мы может всех девок у вас на ночь купить. А вообще, что мы болтаем – налейте-ка нам лучше водки, – эдак по-взрослому распорядился он.
– Ой, девушки, гляньте – женишки к нам пожаловали, – обратилась невысокая крашеная блондинка к подругам, сидящим за столиком и распивающим шампанское.
– А у них разве уже выросли женилки, чтобы свататься к нам? – рассмеялась одна из подруг.
– А ты проверь! – улыбнулась блондинка.
В ответ в вестибюле раздался громкий хохот, и скоро на лестницу высыпало несколько пьяных девиц. Заметив это, друзья подняли глаза, и Ленька узнал знакомое лицо. Это была Нюрка. Та тоже заметила его и знаками указала, чтобы он обошел здание и пробрался к черному ходу. Ленька тут же бросился к двери.
– Ты куда? – спросил его Пузырь.
– Я сейчас вернусь, – ответил тот.
Леньке пришлось ждать минут десять, пока Нюрка не нашла причину, чтобы улизнуть из здания и оказаться на улице. Она была легко одета, поэтому быстро замерзла.
– Ты хоть бы погрел меня, – попросила она Леньку. – Ты же кавалер, неужто не видишь, что дама мерзнет.
И она сама прильнула к нему. Ленька снял пиджак и накинул его на плечи девушке.
– А вы что приперлись, девочек вам захотелось?
– Да какие девочки! – возмутился Ленька. – Мы за тобой пришли.
Нюрка даже прослезилась после этих слов.
– За мной? – переспросила она. – Значит, думали обо мне?
– Еще как думали, особенно Пузырь страдал, что тебя нет.
– А ты? Мне ведь ты приглянулся, Ленечка, – призналась девушка. – С тобой я готова хоть куда бежать! Честно сказать, я уже было сама хотела удрать из этого вертепа. Ведь он не отстанет от меня…
– Ты это про Джафара? – произнес Ленька.
– А про кого ж еще? Про него, зверя, – сказала Нюрка.
– Ну а с нами побежишь? – спросил Ленька.
– А куда, снова на эту вонючую базу, где вы с пацанами прозябаете? Да и Джафар этот ваш там – вот уж он обрадуется! Снова снасильничает меня и назад к этой проклятой Мадлене Иосифовне отправит. Вот ежели б ты меня к себе домой забрал, я б тебе хорошей женой стала. Я и пироги могу печь, и борщи готовить, а уж тебя бы я как ласкала!
– Забудь! – нахмурился Ленька. – Тебя ведь Пузырь любит, а я не привык друзьям подлянку делать.
– Да разве это подлянка, когда все по обоюдной любви? – удивилась девушка.
– Подлянка! – стоял на своем Ленька. – Но вам, бабам, этого не понять. Ваша башка по-другому устроена. Для вас, может, все это и нормально, а для нас впадлу.
– Ленечка, ну что ты такое говоришь? – обняла его девушка.
– То, что думаю, то и говорю, – отвечает тот. – Ты лучше скажи, что ты будешь делать, если сможешь избавиться от этой мадам Залесской. И вообще, кем ты хочешь быть в этой жизни? Думаешь ли учиться?
– Конечно, если бы у меня в жизни было все хорошо, я бы пошла учиться. На какие-нибудь курсы, где готовят учительниц. Уж больно я детей люблю, – призналась девушка. – А ты, ты хочешь учиться?
– Обязательно! Я буду летчиком. Вот уйду от Джафара, поступлю на завод – и запишусь в аэроклуб.
– А я знаю, где в Самаре находится аэроклуб, – говорит Нюрка. – Там по соседству есть дом, куда я молоко ношу. Носила… – поправила она себя.
– Ты покажешь мне?
– Ты про аэроклуб? Обязательно покажу!
– Ну так побежишь с нами? – спросил Ленька.
– Я ж уже сказала: с тобой хоть на Луну. Увези меня, милый, увези! – с этими словами она обвила Ленькину шею и с чувством поцеловала его в губы.
– Ишь ты, как целуешься! – удивленно произнес мальчуган. – А в подвале бывшей овощной базы мы больше не кантуемся, – сообщил он.
– И где же тогда? – поинтересовалась Нюрка.
– На Николаевской, там где раньше помещалась читальня общества потребителей «Самопомощь». Эту хату выбил нам Чума под спортшколу, где по договору с городскими властями якобы опытные инструктора будут готовить будущих воинов для Красной Армии.
– А что на самом деле? Тот же бандитский притон? – спросила девушка.
– Ну что-то вроде этого, – кивнул ей в ответ Ленька. – Но у нас там все не так, как на овощебазе… И столовая есть, и спальни, где стоят нормальные железные койки, которые нам военные передали. Списанные, конечно, но ничего, спать можно.
Нюрка вздохнула.
– Нам бы с тобой, Ленечка, какую-нибудь квартирку снять одну на двоих. Вот бы мы зажили!
– Я же, кажется, уже сказал: тебя Пузырь обожает! – резко отреагировал Сокольников.
– Ну как ты не понимаешь? – покачала головой девушка. – Он же еще малыш. Что я буду с ним делать?..
Когда Ленька, вернувшись с улицы, рассказал друзьям, что Нюрка согласилась бежать вместе с ними, они обрадовались. Больше всех, конечно, был рад Кешка.
– Но она не хочет идти туда, где будет Джафар, – тут же озадачил их Ленька. – Надо что-то думать.
– А что думать-то, – тут же нашелся Беляш. – Я попрошу свою бабку, чтоб она взяла ее на постой. Вместо платы будет помогать ей по хозяйству, а там и мы когда-никогда деньжонок подбросим.
На том и порешили.
23
Джафар, узнав о Нюркином побеге, три дня ходил чернее тучи.
– Найду суку такую – убью! – гремел он. – А если кто из вас ей помог, – он обвел пацанов пылающим взглядом, – я и вас всех прикончу. Вы слышали, шушера долбанная?
Ленька и его товарищи поняли, что этот зверь не шутит, и решили предупредить Нюрку, чтобы она не высовывала нос из дома.
Тем же вечером Ленька с Мишкой в сопровождении Беляша, Цыгана и Циклопа отправились проведать Нюрку. А за дня два до этого Ленька встречался с молочницей – та сама просила не оставлять ее одну надолго, да еще нужно было выполнить Ленькину просьбу и показать, где находится Самарский аэроклуб. Путь оказался неблизким, и им пришлось нанять лихача – тот вначале отказывался везти их так далеко, но Ленька сунул ему в руку червонец, и лихач благополучно довез их до поселка Октябрьский, на аэродром Бобровка. Когда Ленька еще издали увидел взмывающий ввысь самолет, сердце его заколотилось. Вот оно, вот о чем он мечтал с самого детства! Ну теперь осталось недолго ждать до того момента, когда он сам сядет за штурвал и направит самолет в небо. Только бы его не посчитали слишком маленьким и записали в аэроклуб. Иначе… Зачем жить?..
На Ленькину беду, в аэроклуб его не записали, сославшись на то, что они берут в основном заводскую молодежь. Да и грамоты, мол, у вас, молодой человек, не хватает для освоения сложной техники. Давайте-ка, говорят, идите на завод и записывайтесь в вечернюю школу рабочей молодежи, а через год приходите. И как Ленька ни пытался выглядеть солидно, как ни старался объясняться умными, почерпнутыми из книг фразами, это не помогло ему убедить авиационных начальников.
Но о том, что он потерпел фиаско, Ленька решил не сообщать своим товарищам, поэтому, когда они шли к Нюрке-молочнице, он рассказывал им всякие интересные истории, которые прочитал в книжках и говорил о том, как прекрасно будет при социализме, когда не станет ни нищеты, ни банд, и подростки смогут вести нормальную жизнь и заниматься любимым делом.
– Когда это еще будет, – ухмыльнулся Пузырь. – Пока страна построит этот социализм, мы уже состаримся. Так что нужно жить сегодняшним днем. А что для нас сегодня самое главное? Правильно – деньги. Вот и надо думать, что нам делать, чтобы они всегда у нас были.
– Я думаю, нам нужно свою банду сколотить, – предложил Мишка. – А то этот Джафар нам дышать не дает. А тут, когда мы похитили Нюрку, он и вовсе озверел. Слышали, что он сказал? Всех порешу, кто помогал девке бежать от мадам Залесской. Ну а этот хмырь слова на ветер не бросает. Давайте сбежим от него и сколотим такую банду, которая прогремит на всю губернию. Для этого надо съездить в Кураповку и подобрать себе подходящих пацанов, а там их хватает. Выберем тебя, Ленька, бригадиром, после чего надо провести громкую акцию, чтобы о нас услышали. Глядишь, через годик-полтора нас признают самарские бандюганы, а Леньку коронуют авторитетные воры – и заживем мы, братцы, как короли!
– Брось! – произнес Ленька. – Не об этом надо нам думать, а о том, как выучиться и стать настоящими людьми. Не бандюками же нам ходить всю жизнь. Ведь у тех один конец – тюрьма или же пуля в лоб. А надо нам это?
«Интересно, что бы сказала Нюрка, узнай, что я накануне весь вечер веселился с биксами? – подумал Ленька. – Простила она б мне это или нет?»
В последнее время он стал все чаще думать об этой девушке и сам удивлялся: ну что может быть общего у меня с этой полуграмотной девицей? А вот ведь думал о ней. И чем дальше, тем больше она нравилась ему. Может, потому что в ней уже угадывалась будущая женщина, этакая самка, которая притягивает к себе своей сучьей плотью?
…Нюрка встретила друзей так, как встречают самых близких родственников – доброй улыбкой и блинами, которые они только что испекли с бабкой Беляша. Бабулька тоже была рада видеть мальчуганов, которых успела полюбить и жалела, как собственных внуков.
На этот раз Нюрку трудно было узнать – лицо ее было сильно напудрено и нарумянено, брови безобразно подведены. Похоже было, что за несколько часов пребывания у мадам Залесской она успела кое-чему научиться у своих товарок, которые показались ей невероятными красавицами в своем ужасном гриме.
– Ты это, больше не делай так, – улучив момент, сказал ей Ленька. – Ведь так размалевывают себя только падшие женщины. И вообще, вульгарность – это не для тебя. Ты девушка от природы красивая, так что тебе не нужен этот ужасный грим.
– Хочешь сказать, такую ты не смог бы полюбить? – спросила Нюрка.
– Никогда! – утвердительно кивнул он. – Девушка не должна быть похожа на куклу. Ну немножко, конечно, можно подкраситься, но не так же, как это сделала ты.
– А я-то хотела тебе понравиться, – призналась девушка. – Специально бегала на рынок, чтобы купить у цыганок белила с сурьмой. А вот губную помаду мне так и не удалось достать.
– Ну и бог с ней! – улыбнулся Ленька. – У тебя и без того губы алые, как лепестки роз.
– Правда?
– Ну, конечно, правда… Твоему будущему мужу всегда будет приятно целовать тебя.
24
…То, что творили бандиты на улицах российских городов, не укладывалось в сознании простых обывателей. Счет преступлений этих людей – побои, грабежи, вооруженные налеты – ежегодно исчислялся сотнями тысяч. Постепенно уличное хулиганство стало переходить к террору, так называемой «рельсовой войне», срыву митингов и других массовых мероприятий. Общество потребовало от правительства принять чрезвычайные меры для защиты его от насилия. Большевики, не обремененные никакими буржуазными привычками типа «суда присяжных» или «презумпции невиновности» и приравняв любое уголовное преступление к категории политического, железной рукой принялись наводить порядок в стране. 28 октября (10 ноября) 1917 года была создана советская милиция, а 20 декабря того же года появляется ВЧК.
Люди вначале с пониманием восприняли красный террор, посчитав, что только с помощью него и можно навести порядок в стране. По-другому заговорили они, когда, согласно закону инерции, террору подверглись и совсем невиновные люди. Боясь попасть «под раздачу», многие граждане решили подстраховаться и заслужить благосклонность властей, клевеща на своих знакомых и соседей, коллег по работе, известных и малоизвестных людей, обвиняя их во всех смертных грехах. Расчет был таков, что при случае это им зачтется. В конце концов доносительство, очернительство, клевета стали нормальным явлением для многих граждан страны.
А красный террор тем временем набирал силу. Для него не существовало государственных границ. Даже за рубежом, куда бежали тысячи и тысячи спасавшихся от революции граждан, политические убийства стали обычным делом. Если враг не сдается – его уничтожают, говорили большевики, а если сдается, иногда тоже уничтожают. Одной из первых тайных казней, осуществлённых чекистами, стал расстрел царской семьи в Екатеринбурге, произошедший в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Позже советские агенты среди бела дня на одной из парижских улиц схватили, усыпили хлороформом и похитили бывшего белого генерала Кутепова. Похищенный скончался от сердечной недостаточности по пути из Марселя в Новороссийск. Таким же образом в Париже днем был захвачен и в дальнейшем вывезен в Москву генерал Евгений Миллер. В августе 1940 года, после первого, майского покушения на Льва Троцкого, организованного НКВД и закончившегося неудачей, советский агент Рамон Меркадер насмерть зарубил Троцкого ледорубом. И это лишь самые громкие, резонансные убийства, спланированные чекистами. Сколько всего секретных миссий по ликвидации врагов режима было ими реализовано – никто не знает.
Громким делом стало уничтожение большевиками Крымской морской эскадры.
После крымского поражения белой армии остатки русского флота покинули Россию и встали на рейд в тунисском порту Бизерта, на территории колониальной Франции. В течение четырех лет корабли, тысячи офицеров и моряков, входивших в антибольшевистский Русский общевоинский союз (РОВС), воспринимались советской властью как реальная угроза. Большевики считали, что в любой момент последняя, чудом сохранившаяся боевая эскадра русского Императорского флота могла осуществить нападение и высадку десанта на юге России. По личному распоряжению главного российского чекиста Дзержинского сотрудники ВЧК-ОГПУ вели работу в Бизерту: следили за перемещением кораблей, вели пропаганду среди русских моряков и деятелей белого движения. 30 октября 1924 года правительство Франции официально признало Советское государство. Существование Русской эскадры в Бизерту стало невозможным, и она была окончательно ликвидирована.
Надо сказать, что враги нового режима восприняли большевистский террор как сигнал начать широкомасштабные действия, направленные на постепенное подтачивание, а в конечном итоге – уничтожение советской власти.
…Поздним октябрьским вечером на конспиративной квартире в предместье Самары собрались руководители и активисты самарских контрреволюционных организаций, чтобы наметить план дальнейших совместных действий.
Совещание открыл глава политсовета организации Платон Аристархович Сорокин, член партии эсеров с 1906 года.
– Господа! – начал он. – На днях я получил письмо из Парижа, подписанное одним из руководителей нашей партии. В нем сообщается, что руководство партии приняло решение о смене тактики борьбы с большевиками. С этого момента главный акцент будет сделан не только на террористических акциях, но и на антисоветской пропаганде с целью подрыва авторитета партии большевиков, а в целом – дестабилизации морального духа населения страны. Надо сказать, что наступает время высшего суда, а, по сути, нашего реванша, когда все антисоветские силы Запада готовят Крестовый поход на Красную Россию. На нас возлагается роль этакого «троянского коня», который должен будет изнутри подтачивать устои нынешнего государственного строя, тем самым подготавливая почву для вторжения наших друзей извне…
– Уж не о войне ли вы говорите, голубчик, – перебил его старейший член партии эсеров, заместитель председателя губисполкома Савельев, которого, несмотря на его многочисленные отговорки, все же уговорили участвовать в совещании, ссылаясь на исключительную важность поднимаемых на нем вопросов.
Это был преданный партии человек, считающий ее самой народной и наиболее соответствующей российскому духу. Цельный, умный, надежный и решительный, он снискал любовь и уважение к нему всех членов организации, целью которой была борьба с большевизмом.
– Не буду скрывать, Афанасий Генрихович, именно о войне! – торжественно, как всем присутствующим показалось, произнес Сорокин. – Ведь война, и это стало давно понятно на Западе, является нашим последним шансом, чтобы навсегда избавиться от коммунистической заразы. И чем скорее она начнется, тем больше шансов осуществить свою давнишнюю мечту. Так что будем готовиться к ней. Чтобы наладить эту работу, к нам из Парижа выехали очень серьезные люди. Да и мы здесь решили объединить все антисоветские силы для осуществления громких акций, которые дестабилизируют обстановку в регионе.
– Так что ж, выходит, взрывать кончаем и начинаем раздавать листовочки антисоветского содержания? Не слишком ли наивно? – с издевкой в голосе спросил бывший член боевой группы эсеров, а ныне школьный учитель математики Петр Штельман.
– Я прекрасно понимаю вашу иронию, Петр Борисович, – сказал Сорокин. – Но вы должны помнить, что не только убийства и взрывы привели народ к революции – мы смогли завладеть умами людей и заставить их сбросить ненавистный царский режим. Точно так же мы рассчитывает поступить и сегодня. Но должен вас успокоить: если потребуется, мы возобновим и террористические акты.
А еще Сорокин помнил, о чем в свое время говорил им, молодым революционерам, незабвенный Сергей Васильевич Зубатов, начальник Московского охранного отделения, который хитростью и уговорами принудил многих из них к сотрудничеству со злейшими врагами всех революционных сил – жандармами. «Самым сильным оружием против врага, – говорил тот, – часто является даже не динамит и револьверы, а хитрость и расчетливость. Так что если хотите победить пусть даже самого идейного врага, возглавьте его организацию, а потом разрушьте ее изнутри». Этой тактики потом придерживались многие эсеры и меньшевики. Вот и зампредисполкома Савельев идет сейчас тем же путем. Все считают, что он с большевиками, а на поверку – он такой же заговорщик, как все присутствующие на этом совещании. И надо сказать, он здорово помогает им…
– Самое верное средство расправиться с большевиками – это устроить голод в России, – заговорил Штельман. – Голод сводит людей с ума и толкает их на бунт. А нам только этого и надо. Необходимо уничтожать посевы, угонять скот, взрывать зернохранилища и хлебозаводы, пускать под откос поезда с продовольствием.
Сорокин был полностью согласен с ним. Конечно же, чтобы довести людей до отчаяния, нужно лишить их хлеба. А здесь сгодится все, начиная от террористических акций и кончая вредительством на производстве. Но для этого снова, как и раньше, потребуется привлечь немало людей, готовых любыми средствами бороться с большевизмом. У самого у него опыт такой был, ведь сам он некогда являлся одним из самых активных боевиков в местной эсеровской боевой дружине. Он бы мог рассказать этим господам о многих своих подвигах. Например, о том, как однажды в 1916 году около двух часов дня он вошел в двери Самарского губернского жандармского управления, поднялся на второй этаж, где находилась приемная начальника и канцелярия, и, открыв дверь канцелярии, с порога бросил внутрь бомбу с дымящимся бикфордовым шнуром. Пока пять человек, находящихся в канцелярии, остолбенев, глядели на этот дымящийся предмет, сюда же зашел и начальник управления. Сорокин улыбнулся и с сознанием выполненного долга быстрым шагом направился вон из кабинета, после чего, спустившись вниз по лестнице, вышел во двор. Он понимал, что взрыва этой шашки будет достаточно для того, чтобы разрушить весь дом до самого основания. Но за несколько секунд до взрыва один из унтер-офицеров, придя в себя, подскочил к брошенному предмету и выдернул запал. Взрыв был предотвращён. А совершивший геройский поступок унтер-офицер бросился искать злодея, но того уже и след простыл. Перемахнув через забор, отделявший управление от соседней усадьбы, он быстро переоделся в робу заводского рабочего и скрылся.
Этот случай пришел Сорокину на память не случайно. Как раз в этот момент присутствующие заговорили о тактике борьбы с Советами, и надо было самому что-то предложить им. Речь его была недолгой, но убедительной, ведь у него был большой практический опыт борьбы. Правда, то была борьба с самодержавием, а теперь вот предстояло бороться против, как он выразился, узурпировавших власть большевиков.
После Сорокина слово взял руководитель самарской ячейки Русского общевоинского союза, бывший штабс-капитан Василий Чумаков. По обыкновению тот пришел на совещание в своем неизменном вицмундире и форменной фуражке в цвет сюртука. Кто-то говорил ему, чтобы он поостерегся появляться в городе в таком виде, ибо любой красноармейский патруль мог посчитать это вызовом советской власти. Однако Чумаков и не думал менять привычки. Негоже, говорил он, русскому офицеру трястись перед большевиками – на то он и русский офицер, ну а русский офицер не бывает бывшим. Он даже в гробу остается в строю…
У этого человека не было такого опыта борьбы с внутренним врагом, как у Сорокина, но в нем, как и в бывшем боевике, кипела ненависть к людям, которые, искусственно нарушив естественный исторический ход развития России, внесли в него отвратительный диссонанс, а кроме того, пошли на предательский шаг, заключив с немцами сепаратный договор, по которому Россия лишалась не только права называть себя победителем в Первой мировой войне, но и многих своих земель. А этого настоящий офицер, каким считал себя Чумаков, потерпеть не мог.
– Господа! – обратился он к собравшимся. – Как вы знаете, покинув Константинополь, солдаты и офицеры русской армии оказались в разных странах. Руководству нашими войсками во главе с адмиралом Врангелем надо было организовать управление всей этой силой, которая не оставила мысль о том, чтобы возвратиться в Россию и изгнать отсюда большевиков. С этой целью в 1924 году в Париже был создан Русский общевоинский союз (РОВС) – орган, «призванный оградить армию от вредного влияния различных политических, прежде всего, коммунистических, партий и группировок, сохранить ее для борьбы с большевизмом». После этого была проделана большая работа по созданию ячеек организации по всей России. В Самаре также появилась такая ячейка, которой вот уже несколько лет руководит ваш покорный слуга. Мы быстро нашли общий язык с местным антибольшевистским подпольем и все эти годы вели с ним совместную работу. Однако пришло время придать этой работе большую динамику, и на это нацеливает нас наше руководство в Париже. Да, господин Сорокин сказал вам правду: Запад готовится к войне против Советов. Для этого он инвестирует большие деньги в военную промышленность и вооружает свои армии современным оружием. Как вы знаете, Советы пытаются делать ответные шаги, они объявили о начале полной перестройки всей военной промышленности, а в целом – о всеобъемлющей индустриализации страны. Это означает, что красные тоже решили готовиться к войне, и если учитывать их нынешние возможности и те ресурсы, которыми они владеют, то Западу следует спешить, ведь вожди коммунизма ясно дали понять, что их конечная цель – это мировая революцию. А коль так, есть опасение, что они уже начали осуществлять эти далеко идущие планы. Я призываю вас немедленно переходить к наступательной политике, ибо промедление смерти подобно. Кстати, мы нашли новых партнеров в борьбе против большевиков – это бандитские формирования в Поволжье, люто ненавидящие красных.
– Да о чем вы говорите, господин Чумаков! – возмущенно воскликнул Савельев. – Неужели мы дожили до того, что будем дружить с этим отребьем?
– Не спешите, господин Савельев! – остановил его Чума. – В борьбе за правое дело все методы хороши. И об этом тот же большевистский вождь Ленин еще говорил.
25
Памятник Ленину был установлен в центре Алексеевской площади в Самаре в торжественной обстановке при огромном стечении народа 7 ноября 1027 года, а за неделю до этого в Самару вечерним поездом из Москвы прибыл бывший член Государственной Думы, теперь проживавший в Париже и состоявший в антисоветской организации, входившей в Русское монархическое объединение (РМО), Петр Арнольдович Щедрин. Его сопровождал бывший боевик эсеровской организации Михаил Шаронов. В город они явились неспроста.
После неудачных попыток организовать народные восстания в разных уголках Советской России антисоветские эмигрантские объединения, возникшие в ряде европейских стран и в Китае, пришли к выводу, что в ближайшее время уничтожить большевистскую власть им не удастся, и поэтому расчет был сделан на длительную борьбу. Для этого все силы были брошены на проведение работ в широких крестьянских массах Страны Советов, а также Красной Армии, дискредитацию большевиков и их руководящих структур, террористические акции для запугивания граждан, убийства руководителей советских политических организаций и членов их семей. Чтобы это осуществить, в Советскую Россию были отправлены эмиссары всевозможных антисоветских политических организаций. Задача большинства из них была попасть в те районы, где, по слухам, существовали какие-то социально-экономические проблемы, которые вызывали протестное движение населения, а попав туда, выявить наиболее активных приверженцев прежней власти, организовав их в ударные боевые группы. Не случайно со многими такими эмиссарами отправились опытные террористы, некогда участвовавшие в борьбе с царским режимом, которые умели с помощью терактов дестабилизировать обстановку в городах и других населенных пунктах, тем самым морально обезоруживая власть. Ведь те, кто посылал их «мутить воду», знали, что от деморализованного руководства избавиться легче. Тому примером стало свержение царя и уничтожение его ближайшего окружения, деморализованного и запуганного нескончаемыми диверсиями.
Зарубежные эмиссары, как говорится, сразу решили взять быка за рога. На экстренном совещании подпольной антисоветской организации Шаронов, прознав о готовящемся открытии памятника пролетарскому вождю, предложил устроить громкую акцию, спровоцировав кровопролитие. Это была излюбленная тактика всех негодяев от политики – натравить одну группу людей на другую, чтобы под шумок вершить свои черные дела. На этот раз задача была конкретная – дестабилизировать обстановку в городе, а если выйдет, то и во всем регионе. Когда на Алексеевской площади собрался народ, чтобы поприсутствовать на историческом событии, туда же нагрянула толпа каких-то странных людей, сильно смахивающих на босяков. В руках многих из них были транспаранты, на которых черным по белому было написано: «Нет памятнику главному узурпатору власти», «Долой ненавистную советскую власть» – и все в этом роде. И в тот самый момент, когда первый секретарь горкома партии большевиков стал с импровизированной трибуны зачитывать послание советского правительства к самарцам, которых партия хотела поблагодарить за «замечательную инициативу» – увековечить память вождя пролетариата в бронзе, кто-то открыл пальбу по собравшимся. Люди остолбенели, не понимая, что происходит и кто по ним стреляет. А стрельба тем временем продолжалась – стреляли из-за деревьев, из припаркованных возле площади грузовиков, со стороны обеих групп собравшихся; падали раненые, стонали в предсмертных судорогах лежавшие на земле. Охранявшие мероприятие милиционеры и чекисты суетились в толпе, не в силах взять в толк, как им действовать в данной ситуации. Кто-то из старших сотрудников пытался организовать их для того, чтобы дать злодеям отпор. Пытаясь перекричать толпу и грохот выстрелов, кто-то надрывно орал: «Окружай!», «Бери их в кольцо!», «Заходи слева!», «Заходи справа!», «Огонь!» Люди в форме выполняли эти команды, но изменить ничего не могли. И только когда на площади появился конный милицейский отряд, какой-то порядок наконец был наведен. Тут же, на месте, были расстреляны с дюжину тех, кого заподозрили в нападении на граждан. Еще столько же было арестовано и отправлено в милицейский участок. Только среди всех этих людей не было тех, кто устроил провокацию. Впрочем, история показывает, что такое в порядке вещей. Ведь исполнителей поймать легче, чем тех, кто их послал убивать…
26
До появления органов милиции в Самарской губернии их роль до осени 1918 года выполнял Штаб охраны города, который координировал деятельность местных отрядов Красной гвардии, уголовной милиции, ГубЧК и пяти городских милицейских участков Самары, а также так называемую «народную» милицию во главе с представителями меньшевиков, кадетов и правых эсеров, поддерживавших контрреволюционные силы.
В конце октября 1917 года, по решению революционного Совета народных комиссаров, созданная еще Временным правительством «народная» милиция была распущена и одновременно юридически было закреплено создание в составе Народного комиссариата внутренних дел уже советского органа охраны правопорядка – советской рабочей милиции, чьи структурные подразделения появились во всех городах и губерниях красной России. Появилась такая структура и в Самарской губернии.
К тому времени, когда на работу в Самарскую милицию пришел Николай Николаевич Федоров, штат городской милиции был небольшим. Он состоял из семисот восьми сотрудников, ста пятидесяти милицейских постов, а весь город был поделен на шесть участков.
…Николай Николаевич Федоров – высокого роста, слегка сутулый, поджарый мужичок с внешностью сельского старосты – в Самару перебрался из родной деревни в самый разгар массового голода, охватившего Поволжье вскоре после Октябрьского переворота. То было время, когда в стране создавались органы правопорядка, куда поначалу было трудно заманить людей, ибо свежи еще были в памяти образы полицейских и жандармов, служивших оплотом ненавистного всем самодержавия. Поэтому зачастую в ту же рабочее-крестьянскую милицию брали людей, как говорится, с улицы – лишь бы они были согласны верой и правдой служить новой власти. Федоров, соблазнившись стабильным милицейским заработком, бесплатным обмундированием и служебным пайком, не колеблясь написал просьбу принять его на службу. Начинал Николай Николаевич с простого участкового. Был оперуполномоченным, боролся с уличными воришками, хулиганми, гопниками. Быстро проявил себя и в тридцать лет был назначен начальником одного из милицейских отделений Самары.
27
А тем временем преступность в России продолжала расти. Теперь к многочисленным убийствам, грабежам и бандитским разборкам прибавился еще один вид громких преступлений – подделка продовольственных карточек, с помощью которых советское правительство надеялось решить проблему продовольствия в стране, где следовала одна волна голода за другой.
И то… После трех с половиной лет войны и восьми месяцев революции экономика страны находилась в руинах. Начавшиеся в 1918 году Гражданская война и интервенция докончили развал экономики, нарушив важнейшие продовольственные, сырьевые и топливные пути страны. На предприятия перестали приходить донецкий уголь, криворожская руда, бакинская нефть, туркестанский хлопок. Украина, Сибирь и Поволжье не могли поставлять хлеб и мясо. В конце 1918 года около сорока процентов промышленных предприятий прекратило работу, началась массовая безработица.
Крестьяне, продолжавшие вести индивидуальное хозяйство, не могли распоряжаться произведенной продукцией по своему усмотрению. Прибывавшие из городов так называемые продотряды насильно изымали продовольствие на нужды армии и рабочих. Полученного таким образом продовольствия также не хватало.
В апреле рабочие многих крупных городов получали в среднем сто граммов хлеба, и то не каждый день. Положение становилось угрожающим.
Сложившиеся обстоятельства вынудили советское правительство провести ряд чрезвычайных политических и экономических мер. Декретом от 13 мая 1918 года Народному Комиссариату по продовольствию были даны широкие полномочия по урегулированию продовольственной проблемы. Была введена государственная монополия на хлебную торговлю. Запрещена частная торговля хлебом и многими видами сельскохозяйственных продуктов. Губернским продовольственным управам даны полномочия регулировать проблемы питания населения губерний. Вводилась карточная система снабжения населения продовольственными и промышленными товарами.
Однако уголовные элементы тоже не сидели сложа руки. Они были в постоянном поиске. Самара не стала исключением. Пока губернское управление милиции составляло планы борьбы с преступностью, местные банды продолжали действовать. Та же «бригада» Джафара лишила сна и отдыха правоохранителей города. Бандиты занимались грабежами, совершали махинации с продовольствием и убийства. Уголовники наладили контакт с немецкой разведкой и получили из-за рубежа типографские шрифты. Взамен они печатали немецкие пропагандистские листовки. А когда были изготовлены фальшивые карточки, бандиты стали получать по ним продукты, которые потом продавали на черном рынке, выручая за это огромные деньги. В ходе своих преступлений они убили не одного милиционера. Порой блюстителям правопорядка удавалось арестовывать с поличным бандитов, и те представали перед судом, который не щадил ни убийц, ни тех, кто занимался подделкой продовольственных карточек. Так произошло и с одним любителем подделывать карточки – гравером Афанасием Осиповым. Тот работал на одном из самарских оборонных заводов, где украл шрифт и затем организовал подпольную типографию. Осипов и его жена печатали все: карточки, пропуска, документы. Полученные преступным путем продукты они продавали на черном рынке. В деле был и сын Осипова, который воровал на заводе инструменты. В банду входило еще несколько приятелей и коллег старшего Осипова, имевших, благодаря своей работе, доступ к необходимым расходным материалам. И все бы еще долго так продолжалось, но однажды директор магазина, где отоваривалась жена гравера, случайно увидел Осипова в другом магазине, который находился довольно далеко от его собственного. Он решил, что здесь что-то нечисто, и сообщил об этом в милицию. После проверки банда была обнаружена. Всех преступников арестовали и по приговору суда расстреляли, кроме жены и детей Осипова, которых отправили в тюрьму.
В этой операции по поимке осиповцев отличились сотрудники отделения милиции, которое возглавлял Николай Николаевич Федоров.
Успешную операцию милиционеры Федорова провели и по разгрому банды Диярова, одной из самых жестоких и дерзких во всей Самарской губернии – эти бандиты не только избивали конкурентов, но и убивали их. Дияров развивал в своих подчиненных культ силы – члены банды активно тренировались в спортивных секциях. Банда долгое время не давала житья горожанам. Бандиты вламывались в помещения во время увеселительных мероприятий, торжественных вечеров, сопровождавшихся концертами самодеятельности и танцами, и избивали отдыхающих. Они не боялись устраивать карательные акции даже в самарской филармонии и опере, заранее зная, что заявления на них пострадавшие писать не будут – жертвы просто боялись дальнейшей расправы. И если поначалу «дияровцы» использовали в своих налетах арматуру, кастеты и штакетины, то вскоре в ход пошли гранаты и огнестрельное оружие. На поимку Диярова и его бандитов было поднята вся самарская милиция. В этих операциях участвовали и люди Федорова. С помощью своей агентуры они вызнали о ближайших планах бандитов, и когда те попытались ворваться во время концерта в красноармейский клуб имени Карла Либкнехта, который находился в бывшем Общественном собрании, то нарвались на засаду. Во время короткой стычки бандиты были ликвидированы милиционерами огнем из табельного оружия. Тех же, кто остался жив, в том числе и главаря банды, отдали под суд, который и приговорил одних к высшей мере наказания – расстрелу, других – к длительным срокам заключения.
28
Однажды фортуна отвернулась и от джафаровских бандитов, которые при очередном ночном налете на склады самарского военного гарнизона попали в засаду все к тем же людям Федорова, проводившим операцию по их поимке. Во время перестрелки были убиты двое милиционеров и и трое бандитов. Двоих же – Джафара и Цыгана – удалось арестовать и под усиленной охраной доставить в местный следственный изолятор, хотя, как позже признавались своим товарищам конвоиры, уж очень у них велико было желание по дороге ликвидировать арестованных. Благо они имели законное право расстреливать преступников на месте без суда и следствия согласно декрету «Отечество в опасности!», выпущенному в феврале 1918 года. Высшую меру разрешено было применять также в отношении «неприятельских агентов, спекулянтов, громил, хулиганов, контрреволюционных агитаторов и германских шпионов», а позднее «всех лиц, имеющих отношение к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам».
…А через месяц в зале Самарского трибунала над арестованными бандитами начался суд. Зал был переполнен. В самый разгар процесса, когда прокурор зачитывал обвинение подсудимым, в дверях раздался шум – это стали ломиться в зал вооруженные товарищи подсудимых. Их пытались остановить дежурившие у входа милиционеры, однако бандиты расстреляли их в упор, после чего настала очередь прокурорских работников и судей. Их также уложили на месте. Сделали попытку встать на пути бандитов и некоторые граждане, присутствовавшие на процессе, – так тех буквально исполосовали бритвами. Старались все – и опытные бандиты, и малолетняя шпана, которую авторитеты привлекали для своих акций. А руководил нападением бывший штабс-капитан Василий Чумаков. Сам орудуя револьвером и финкой, он не переставая отдавал команды своим людям, направляя их действия.
– Ну спасибо тебе, Чума, – оказавшись на свободе, поблагодарил товарища Джафар. – Считай, что я твой должник.
– На том свете сочтемся, – ответил Василий. – Давай поторопимся, мусора, поди, уже вызвали подмогу. Как бы солдат с винтовками не пригнали сюда. Перестреляют ведь нас, гады.
29
Однако Джафар оказался неблагодарным человеком. Не привыкший быть должником у кого-то, он решил устранить Чуму. Сделать это попросил Черепа, пообещав тому, что после смерти бывшего штабс-капитана именно он займет его место и станет заместителем его, Джафара, в бригаде. Череп наотрез отказался от такого предложения, заявив, что это впадлу. И тогда Джафар решил обратиться к местному авторитету Яреме Сытнику по прозвищу Хохол. У Яремы был южно-славянский говорок, и он бы хитрым и расчетливым человеком. Благодаря своей наглости и напористости, он смог завоевать доверие местных жиганов и даже сколотил банду, которая не продержалась и года: кто-то выдал ее правохранительным органам, и конный отряд чоновцев буквально изрубил всю братву, как ту капусту. Уцелеть удалось немногим, в том числе Яреме. Он остался в одиночестве, а что может одиночка? Вот он и попросился в банду к Джафару. Тот ему вначале отказал, решив, что Сытник, привыкший распоряжаться, захочет сместить его. А так как он был человеком упорным и бесстрашным, то не побоится открыто пойти против бригадира. Но вот теперь Джафар вспомнил о нем. Пообещав ему высокое место в иерархической лестнице бригады, он заказал ему Чуму. Тот дал согласие и стал думать, каким образом убить бывшего офицерика. Он думал так: убив Чуму, он станет вторым человеком в банде, а там прямая дорога в бригадиры, ведь он знал, что Джафар так пристрастился к наркотикам, что мог целыми днями находиться в состоянии полной апатии и не видеть, что творится за его спиной.
На «мокрое» дело Сытник подговорил двух своих бывших подельников, которым пообещал, что как только они помогут ему убрать Чуму, он заплатит им большие деньги.
И все бы, наверное, получилось, если бы однажды Чума, вернувшись с совещания политсовета подпольной антисоветской организации, не сообщил бандитам о том, что они больше не будут заниматься мелкими делами и грабить старушек на рынке, а займутся настоящим делом.
– Нами заинтересовались очень серьезные люди, – сказал он. – Так что нас ждут большие дела…
Чума не блефовал. В самом деле, прибывшие из Парижа эмиссары антисоветских объединенных сил потребовали от действовавшего на территории Советской России антиреволюционного подполья развернуть бескомпромиссную борьбу с большевиками. Первоначально-де нужно уничтожать то, что мешает подполью проводить свои акции.
– Я думаю, – сказал Чумаков, – следует объявить беспощадный террор силовым структурам большевиков. Ведь это они в первую очередь не дают нам дышать. Взять те же ночные облавы. Кто в них участвует? Правильно – сотрудники губернского управления милиции, конная милиция и чекисты. Так давайте начнем с поджога конюшен конной милиции. Если нам удастся это сделать, мусора лишатся мобильности.
– Кстати, и чоновские конюшни не мешало бы поджечь, – сказал в приватном разговоре с Джафаром Чума. – Скоро нам предстоит снова схлестнуться с краснопузыми на поле боя, а без лошадей им туго придется. Представляешь? Мы будем на лошаках, а большевички на своих двоих. Вопрос – за кем будет победа? Кавалерия – это сила! Как там сказано у Лермонтова?
«Блеснула шашка раз – и два! И покатилась голова…».
В самом деле, самарская конная милиция была грозой для хулиганов и бандитов. Патрулируя в городских парках и на массовых мероприятиях, милицейские конники обеспечивали безопасность и порядок. И если от того же пешего милиционера преступники могли убежать, то куда убежишь от конного патруля? Самарская милиция была одной из самых хорошо оснащенных и многочисленных в стране, а в ее рядах служили не просто необученные бывшие крестьяне, а прошедшие фронты Первой мировой и Гражданской войн бойцы. Но милиционеры в основном были грозой для отдельных преступников и мелких хулиганов. Их было в Самарской губернии на начало двадцатых всего-то до тысячи сотрудников. Поэтому против серьезных банд в основном вели борьбу Части особого назначения, ЧОН, и подразделения Красной Армии. Бандиты же представляли собой грозную силу. Эти по характеру своих преступлений делились на несколько категорий. «Лесные» действовали в лесистой местности и держали в страхе окрестные деревни. Небольшие конные банды «поджигателей», дабы оставить крестьян без хлеба и тем самым вселить в них страх и чувство безысходности, поджигали хлебные поля и амбары с зерном. А были еще и так называемые «налетчики» – тоже конные, но более крупные, до сотни сабель, банды – эти, бывало, совершали налеты сразу на несколько деревень или на крупный населенный пункт, хватали партийных активистов, милиционеров и всех, кто сотрудничал с Советской властью, прилюдно устраивали над ними судилища, после чего избивали до полусмерти и даже убивали. Кроме этих трех категорий имелись и повстанческие отряды, состоявшие из бывших белых офицеров и уголовников. Они действовали по наущению глубоко законспирированного антисоветского подполья, захватывая населенные пункты и устанавливая там свою власть. Эти всегда были готовы объединиться, чтобы начать широкомасштабную войну против Советов. Именно на такие вооруженные отряды делали ставку руководители зарубежных антисоветских организаций. У Джафара и Чумы была задача создать из своих подопечных именно такой повстанческий отряд и в условленный час воссоединиться с основными силами головорезов. Такой опыт у них и их людей уже был. В свое время присоединившись к отряду налетчиков, они несколько месяцев провели в нем, совершая рейды по заволжским просторам и оставляя за собой взорванные мосты, разгромленные гарнизоны, сожженные склады и виселицы с казненными людьми. Появление бандитов в населенных пунктах всегда было внезапным и дерзким. И только подготовленная против них армейская операция смогла остановить этот напор, уничтожив основные силы бандитов и рассеяв по степи оставшихся в живых, которых потом уже добивали и отлавливали конные группы чоновцев и милиционеров.
30
…Конюшни конного отряда милиции располагались возле бывших казарм Александрийского гусарского полка. Эти казармы представляли собой два протяженных кирпичных здания. Сбоку к ним примыкали казармы конно-артиллерийского дивизиона. Кроме того, на территории казарм размещался крытый манеж для выездки лошадей. В августе 1914 года, с началом Первой мировой войны, Александрийский гусарский полк, погрузившись в эшелоны, первым среди частей самарского гарнизона отправился на фронт. На берега Волги гусары не вернулись уже никогда. Самый прославленный российский гусарский полк, снискавший себе славу в нескольких войнах, был распущен представителями советской власти весной 1918 года. Лошади же их в большинстве своем ценных пород вместе с конюшнями были переданы государству.
И вот теперь все это подлежало уничтожению.
– Шакалы! – возмущался Цыган, – таких лошадей хотят отправить на тот свет. Да лучше бы выкрали и продали моим сородичам за Волгу. Вот бы те обрадовались! Никаких денег не пожалели бы на это…
Конечно, Цыган боялся говорить громко, чтобы не рассердить Чуму и Джафара. Но вот товарищам своим он все же предложил часть коней вывести из конюшни и отправить за Волгу.
…В одну из темных ночей сентября банда Джафара, вооружившись ножами и прихватив с собой канистры с керосином, отправилась на дело. Путь был неблизкий, поэтому, чтобы добраться до бывших конюшен Александрийского полка и оренбургских казаков, где теперь находились лошади конной милиции, бандиты наняли несколько лихачей. И вот конная дружина, оглашая округу цокотом лошадиных копыт, мчит по ночному городу. И невдомек было припозднившимся горожанам, что это за люди сидят в пролетках и куда они держат путь. Не доехав пару кварталов до места, пролетки остановились. Ночь была безлунной, и бандитам удалось незаметно подкрасться к конюшням. Возле ворот одной из конюшен крутилась охрана – несколько вооруженных винтовками людей, одетых в милицейскую форму, зеленые гимнастерки и синие галифе. Их было видно издалека, потому что подступы к конюшне освещали несколько подвешенных к карнизу керосиновых ламп.
– Часовых придется снять! – прошептал в темноте бывший штабс-капитан. – Джафар, возьми с собой пару крепких пацанов и убери вон тех мусоров, что справа. А я займусь теми, что слева. Давай-давай, что ждешь? Время уходит!
