Совиная тропа
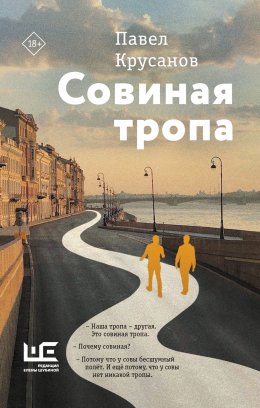
© Крусанов П. В.
© ООО «Издательство АСТ»
Переехав через гору и спустясь в долину, осенённую деревьями, я увидел минеральный ключ, текущий поперёк дороги. Здесь я встретил армянского попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани. «Что нового в Эривани?» – спросил я его. «В Эривани чума, – отвечал он, – а что слыхать об Ахалцыке?» – «В Ахалцыке чума», – отвечал я ему.
А. С. Пушкин. «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»
И придут два посланника от Тейри-Хана – один принесёт людям любовь, другой даст справедливость. Так получат люди сначала добро, а потом достоинство.
Из аланских сказаний
Тайное благодеяние, как и всё божественное, нечасто встречается в этом мире – и всё же список нераскрытых благодеяний, возможно, не меньше, чем перечень не изобличённых злоумышленников…
А. Секацкий. «Этика правой и левой руки»
1. Профессор прелестей
Говоря попросту, я человек обмирщённый – в том смысле, что не адорант, не праведник, – поэтому понимаю, и опыт мой о том свидетельствует, что мы, люди, – это то, что думают о нас другие. Что думают и как думают. Да, и как – как думают, какие чувства переживают, это существенно. Печаль, зависть, тихая радость, разочарование, брезгливая неприязнь – эти тона порой красноречивей самих мыслей. Ведь чувства если и захочешь утаить – поди попробуй.
Особенно наглядно это (что мы – то, что и как думают о нас) становится после смерти. За гробом. Не для умерших, а для пока ещё живущих. В своё время на поминках Овсянкина сказали так много и с таким надрывом, что впору скорбеть – какой исполин духа, букет каких дарований, доблестей и ума рассыпался и нас оставил. Не абы кто – эталон современника, не меньше. А что на самом деле? А на самом деле – пузырь земли, и только. Благо что при своём деле – хозяин заведения, где для знакомых доступна выпивка в кредит. Или я чего-то о нём не знаю? «Там, где на русских небесах сияла его звезда, теперь зияет дыра, из которой сквозит космический мороз…» Так сказал один из поминающих; и заткнуть, мол, эту дыру некем, никого нет покойному равномасштабного. Готовился, должно быть, прежде чем сказать, – чтобы другие не только о покойном хорошо подумали, но и о нём, сообщившем про звезду и дыру.
За собой, конечно, тоже замечаю, как важно для меня, вопреки известной заповеди, не быть, а казаться. Чтобы все знали, какая перед ними птица. Сделал чепуховину – пусть будет на виду, пусть всякий понимает, какой мной свершён изысканный пустяк, какой изящный завиток заверчен. А если вдруг интрижка – зачем её таить? Пускай дивятся на удальство. Скрывать? Разве что от жены (если есть) и от её, жены, родни – это милосердно. А так – с какого перепугу?
Задумался сейчас, что, верно, тороплюсь, должным образом не объясняю мотивировки – поэтому, возможно, есть ко мне вопросы. Побуждения туманны? Тогда пример из русской сказки. Вот колобок. Он, озорник, и от дедушки ушёл, и от стряпухи-бабушки – со свистом и с песенкой. От зайца ушёл и от волка ушёл. И от медведя ему не хитро уйти. И непременно с песенкой. А что в ней, собственно, такого? Зачем она, казалось бы? А вот нужна! Нужна, и всё там неспроста. Там каждое «ушёл» – манифестация его, колобка, сладчайшей самости, гимн, так сказать, ликующего бытия: я есть! Если подумать: ушёл – и слава богу. Раз такой ловкач, тихо сиди, как мышь под веником, – подольше проживёшь. Но всё как раз наоборот: желание поведать о себе миру – неодолимо. О том, как ты ушёл, как был хитроумен и вон куда сумел добраться в этом сумрачном лесу. И он, колобок, вновь и вновь без устали вещает, и раз за разом достраивает свою историю, продолжает – ведь он, такой румяный, такой душистый и желанный, ушёл, воспользовавшись собственной недооценённостью, не только от дедушки и бабушки, но и от зайца, и от волка… И ему внимают, удостоверяя тем самым его существование. Потому что если ты не ушёл от дедушки или от бабушки – тебя нет. И если ты ушёл, но никто не знает об этом – тебя тоже нет. А если ты хочешь быть – ты должен непременно уйти и поведать об этом миру.
Когда говорю «быть» – речь, конечно, не о бессмертии души, но о долговременности памяти. Памяти о тебе. О, так сказать, консервации этой памяти. Потому что есть путь благочестия, ведущий к праведности и спасению, а есть вот этот – путь колобка с его историей, которая способна при удачном стечении обстоятельств тебя увековечить. Опустим печальный финал этой хвастливой выпечки; его никому не избежать.
Однако тот, о ком пойдёт речь, – исключение. В отличие от колобка и легиона его, колобка, последователей он исповедовал иное правило: лучше дела без слов, чем слова без дел. Поэтому он – не то. Совсем не то, что о нём думают. Да и обмирщённым его назвать никак нельзя – разве что в смысле мирского подвижничества, заковыристой мирской святости. Он, что ли, олицетворял особую форму юродства – засланец неба в юдоли скорбей. Как жук-навозник, он смиренно работал с тем материалом, который имел в наличии.
А вот я, как и несомненное большинство вокруг, – колобок. И нет сраму в том, чтобы походить на большинство. Что такого? И без меня тут каждый выпрыгивает из штанов, чтобы не быть как все, чтобы непременно иметь выражение лица необщее. Такое, чтобы не спутали с другим. Все как один не желают быть как все. И что выходит? Смех и грех: уже только через это своё желание они, точно на параде, точно в шеренге на армейском плацу, – как все. Пусть в эти игры играет дурачок. Есть собаки с врождённым нравом: хаски – добродушны, спаниели – ревнивы, ягдтерьеры – бесстрашны. Так и люди – они тоже рождаются с характером, с чудинкой, с голосом внутри. И тут ничего не попишешь. Станешь натаскивать собаку поперёк натуры – поломаешь собаку. Попробуешь исправить или воспитать характер у человека – сломаешь человека.
Словом, я – колобок, а он, Емеля, – нет. Он другой. Он не рассказывает о себе истории. Истории рассказывают о нём.
И вот ещё.
Сказав, что я – колобок, я, разумеется, имел в виду не форму, не телесность, не внешний облик, а способ предъявления себя другим. Нет, в смысле внешности я совсем не колобок. Ни прежде, ни теперь. Хотя теперь и нагулял шесть лишних килограммов – в госпиталях сейчас прилично кормят. И тем не менее, я в хорошей форме – подтянут, бодр, не на диете, интересуюсь женщинами и лёгок на подъём. Надеюсь, мои дела ещё не скоро накроются бордовой шляпой.
Да, я ценю себя, и не вижу в этом срама. Ценю, но не надутый гусак, не Нарцисс – без перебора. Просто смертельно хочется жить (слышал, что так бывает на войне; там – особенно). Такой вот – ни хороший, ни плохой, не идеал и не обсевок в поле. Видел как-то в телевизоре выступление хора зрелых, но бойких кумушек под названием «Ещё не вечер». Это про меня.
Хотел сразу начать рассказ о нём, о Емеле, но почему-то начал с себя. Потому, наверное, следует ещё чуть-чуть добавить – для, так сказать, довершения пейзажа.
В пять лет я был чистейшее создание. И в шесть. И в семь… Падение случилось в девять. Произошло это прискорбное событие в Доме культуры Ленсовета, на новогодней ёлке. Нет – вовсе не Баба-яга, и не Снегурочка, и не рыжая пройдоха Лисичка-сестричка… Снежинки – эти бестии с преступно стройными, затянутыми в белые колготки ножками, – нарушили моё безгрешие, мою кристальную невинность. Глядя, как они в своих воздушных пачках-юбочках порхают по сцене, я в первый раз почувствовал, что вожделею. О ужас! Это был удар, которого я никак не ждал. Удар, прерывающий дыхание. Так нас настигает пугающее откровение об истинном устройстве мира – о смерти, о равнодушии к тебе непостижимой и ужасающей Вселенной. Откровение о том, что центр мироздания – не ты. Это как падение с велосипеда на раму пахом. Снежинки – вот исчадия и соблазн для детских хрустальных душ!
С тех пор я – тот, кто есть. С тех пор мир для меня из года в год во все стороны пропитывался эротизмом, а окружающие предметы в первую очередь рассматривались с точки зрения того, насколько удобно будет на них расположить женщину. (Впоследствии я узнал, что подобный взгляд на вещи был знаком и Чехову, который писал издателю Суворину про московских дам, готовых к употреблению на каждом диване: «Диван очень неудобная вещь. Его обвиняют в блуде чаще, чем он того заслуживает. Я раз в жизни только пользовался диваном и проклял его».) Что говорить о женщинах? Непостижимым образом я находил sex appeal, чувственность, воспалявшую фантазию, повсюду – то в облаке, то в поезде метро, несущемся в тоннель, то в шевелении кустов, то в пышнобёдрой вазе на столе, то в музыке, то в закате… Да, и в закате тоже! Помнится, даже сочинил по случаю стихи (в юности было дело – кто без греха):
- Густой и вязкой массой света
- Закат стекал по небу вниз.
- На мягком животе планеты
- Посевы Бога растеклись.
Думаю, для довершения пейзажа достаточно.
С Емельяном (выше про Емелю сказал не для словца, именно так зовут его приятели: он, как и колобок, родом из сказки – Красоткин Емельян) мы знакомы с университетской лавки. Учились на одном курсе истфака. Он был иногородний – то ли из Луги, то ли из Тихвина, а может, из Ивангорода, – и жил поначалу в общежитии, куда я часто наведывался в поисках веселья и альковных авантюр. Тамошние обитательницы в большинстве своём только-только освободились от опеки родителей, забивавших бедных деточек своими советами и поучениями по шляпку в доску. И теперь деточки спешили насладиться желанной взрослостью, не слишком задаваясь проблемами морали, поскольку ещё не ощутили её закон внутри своих томящихся сердец. Да и бес не дремал, подрывая рылом устои нравственности, – то, что вчера казалось совершенно недопустимым, сегодня подавалось со всех углов как добродетель. С теми, кто рано ускользает от родительской опеки, обретённая свобода часто шутит опасные шутки, поскольку, не найдя ещё опоры в характере, свобода эта не может устоять перед соблазном тёмной вседозволенности. Всем известен этот беспечный юношеский промискуитет – профессором не надо быть. (Профессор прелестей – подумал сейчас – есть ведь и такие…)
Подробно, однако, об этом не буду. Скажу лишь о двух камелиях, запомнившихся лучше прочих.
Есть такой южнорусский тип: русые или соломенные волосы (не чёрные, только не чёрные – это другое), серо-зелёные глаза, мягкие покатые черты и гладкая, чистая, смугловатая кожа, которая будто подсвечена изнутри тёплым светом – словно тронутый лёгким загаром опал. Таков её портрет, увы, ныне безымянный (не помню имя). Волосы помню – соломенные. И этот чудный поворот головы и шеи – тоже помню. А имя – нет.
Мы бражничали в студенческой компании в одной из комнат этого беспутного вертепа (общежития), где окна были такие грязные, будто не мылись со времён потопа. Представлены мы не были, я видел эту гурию впервые. С какого курса? Что за факультет? Да какая разница! Она была без кавалера – бесконвойной. Вино горячило кровь, я кидал в её сторону обжигающие взгляды, и – да, она плавно, с этим вот бесподобным поворотом головы, тоже смотрела на меня с интересом. В процессе перегруппировок (люди приходили и уходили, вставали и вновь садились за стол) мы оказались рядом. Все знают – в отношениях полов есть грани, преодоление которых невозвратно: за теми рубежами бурлят энергии, которые сильнее нас. Жизнь, в принципе, гораздо проще, чем принято об этом говорить, но в простоте своей – разнообразна. И счастье – в простом, не в сложном. Несколько слов, улыбок, бережных касаний – и проскочила искра. Да, ты дал понять, что её женственность тебя пленила, околдовала, что она желанна – тут редкая дева останется равнодушной и не откликнется на зов. «Ты куришь?» – спросила она, играя сигаретой. «Нет, – был мой ответ. – Я все силы без остатка отдаю вину». Она приняла шутку благосклонно. Но это ничего ещё не значило – на этой стадии легко врубить и заднюю. А вот когда наши пальцы сомкнулись и наши губы свели знакомство – тут уже конец. Мы словно бы очутились на обледеневшей крыше и оба заскользили в пропасть. И здесь уж всё – не уцепиться, не спастись. Падение неизбежно, какие бы ни имелись обязательства перед другой или другим.
Что добавить? Ночью она проявляла фантазии, но не назойливо, и умела скрашивать паузы отвлекающими пустяками, а утром умудрялась быть озорной и ничего не помнящей. В такую можно и влюбиться. Да, собственно, я и был немножечко влюблён.
Что ещё? Однажды я застал её плачущей у телевизора. На экране мелькало нечто научно-познавательное, приглашающее заглянуть в область тайн природы и загадок бытия – что-то из цикла «Ребятам о зверятах». «Представляешь, ежата… – всхлипнула она. – Какие они… какие крошки. Я раньше думала: ну как же, как же они, как же… А тут… Вообрази – рождаются с мягкими иголками…» По щекам её текли слёзы умиления.
Вторая была старше, лет двадцати двух. Ушла с третьего курса геофака в академку, но продолжала жить нелегально в комнате с подругой, таясь от строгой комендантши. Родом она была из валдайской глубинки, с крестьянскими корнями, что сказывалось в её деловитости и хватке. Звали валдайку Тамарой – запомнил, потому что другой Тамары за всю жизнь не знал, – волосы она выбеливала перекисью, а ногти её, всюду, где были, покрывал фиолетовый лак. Она вела свой скромный бизнес – возила на продажу шубы, которыми на Троицком вещевом рынке (такого нет уже) торговала её напарница, державшая там палатку. Вторая половина девяностых, «челноки» с огромными непромокаемыми клетчатыми сумками… Европа тогда уже голосовала размягчёнными извилинами за близкородственные отношения с природой – и по идеологическим соображениям отдавала предпочтение химическому меху перед норкой и куницей. В России же по-прежнему была сильна инерция традиции – и натуральные меха носили без стыда. Челночной торговлей в ту пору занимались многие. Кто-то доставлял из Польши косметику и палёные ликёры, кто-то – из Китая фальшивые кроссовки «адидас». Тамара возила тугие клетчатые сумки с шубами то ли из Турции, то ли из Греции, то ли из Хорватии, – словом, из какой-то средиземноморской страны, где знают толк в морозах, вьюгах и пушных нарядах.
Она отлично разбиралась в изнаночных скорняжных швах, и у неё был строгий график поездок. Она вообще старалась держаться заведённого порядка и чёткой последовательности действий как в области предпринимательства, так и в личной жизни. Как божество древнего мира, она со страстью пожирала детей, не позволяя им проливаться ни на живот, ни на простыню. Но если я, например, говорил ей: «Томка, ты мне вчера приснилась. Приснилась, и я проснулся как последний идиот – счастливым», – на её лице тут же проступало замешательство, она терялась, в её голове начиналась сложная работа. Дело в том, что все прежние Тамарины мужчины, похоже, были под стать ей и её коммерческим запросам – циничны и расчётливы. Им нельзя было верить, их нужно было ждать, их следовало добиваться, и чем сложнее это давалось, тем слаще была награда: любовь – крапива стрекучая. А я? Полагаю, я выпадал из ряда её прежних мужчин и вообще из её вселенной товарно-денежных взаимосвязей – ей представлялось, что я жажду не только её тела, но и души. А душой, надёжно прикрытой симпатичным лицом, она была не готова делиться – потому что этим она ни разу прежде не делилась, а стало быть, не знала рыночной цены товара, и с врождённой крестьянской подозрительностью боялась продешевить. Должен признаться, мне было хорошо с ней, я чувствовал исходящее от неё заботливое тепло. Но это ничего не значило. Рядом с батареей парового отопления тоже не холодно, но жениться на ней никому не приходит в голову.
Обе истории длились недолго, стояли в длинной череде других (а что делать, если я такой обаятельный?), и рассказаны лишь для того, чтобы понять дальнейшее.
Теперь вернёмся к Емельяну.
Однажды в университете Красоткин доверительно сказал мне, что по неосторожности подцепил кое-какую стыдную хворь. Я посочувствовал, и даже искренне, – но он искал не сочувствия, нет. Какой прок в сочувствии при подобных обстоятельствах? Он искал помощи – и я, по его мнению, мог по-товарищески прийти ему на выручку. Просьба заключалась в следующем: я окажу неоценимую услугу, если предоставлю ему ненадолго свой паспорт, чтобы он, Емеля, смог отправиться в мой районный КВД, записаться на приём к врачу и пройти курс лечения. (Тогда был такой порядок, а о платной анонимной помощи в те времена не слыхивали слыхом.) В противном случае, мол, ему придётся обращаться по месту прописки (Луга? Тихвин? Ивангород?), а тут – сессия, пропустить никак нельзя… Ну что ж, бывает. Мы не звери – я вошёл в положение и дал паспорт. Он через пару дней вернул.
Стоит ли говорить, что он меня подлейшим образом подставил?
Я позабыл уже об этой истории, когда примерно через месяц нашёл в почтовом ящике уведомление: в такой-то срок явиться в КВД. Хорошо, в тот день почтовый ящик проверил я, а не отец, – у отца был суровый нрав, и тяжёлой сцены родительского изумления (вот до чего дошло! в кого такой ты уродился?!) было бы тогда не избежать. Понятное дело, я не желал ни огласки (событие не из тех, какие колобки выставляют напоказ), ни повторных извещений. Я пошёл.
Всё разъяснилось быстро. Оказывается, я был в диспансере (не я – Красоткин), где признался, что подцепил, что грешил самолечением и, вроде бы, управился с недугом. Однако, как сознательный член общества, полагаю, что надо удостовериться в полной победе над нехорошим и, увы, успевшим проявить себя процессом. У меня (не у меня, у Емельяна) взяли мазок, сделали анализ, инфекции не обнаружили, но прописали полный курс лечения – болезнь могла спуститься вглубь, укрыться в недрах организма, укорениться и оттуда прорасти вновь, грозя опасностью мне и тем, ну… кому – понятно. На процедуры я не пришёл (не я, уже понятно всем), поэтому, выждав время, меня (теперь, действительно, меня) и вызвали уведомлением.
Что дальше? Требовали указать имя и адрес предполагаемой разносчицы заразы, а также выдать тех, с кем имел близость после. Ничего не оставалось, как солгать о случайной связи на панели – а так, мол, я анахорет. Потом мне две недели ставили уколы в ягодицу (больно), брали мазки, засовывали металлическую трубку (чертовски неприятно) в уретру… Словом, пришлось пройти через непростительные унижения. Сорвись я, сбеги – дело бы завершилось принудительными мерами. То есть я – здоровый – лечился взамен того, кто действительно был болен. Впрочем, последнее неочевидно. (Теперь уверен: всё – спектакль, обман.)
Законно ли моё негодование? Нет сомнений. Я был демон мести. Я был буря.
Попробовал отыскать мерзавца. Но сессия закончилась, народ из общежития разъехался… Собственно, Красоткин туда больше и не вернулся – жил в дальнейшем, перебираясь с одной на другую, по съёмным берлогам. Да и я потерял отчего-то вкус к охоте в тех угодьях.
Я долго был в тяжёлом гневе. Весь кипел. Потом немного поостыл – шприцы и трубки остались в прошлом, нехороший осадок таял. Стал рассуждать: за что?
Да, за что? Он, Емеля, жил в том месте, где я искал весёлых развлечений. Искал открыто, не таясь, и даже бравируя амурными интрижками. Он всё видел. Возможно, молча осуждал. Ведь я вносил в его дом… Что? Грязь? Не соглашусь. Но и чистотой это назвать никак нельзя. Только болван станет утверждать, что любовь всегда права – пусть даже устремления её чисты (а чисты ли были мои?..), но и из самой белой глины можно слепить отъявленную непристойность. Быть может, Емеля хотел таким вот вероломным способом меня наставить и предупредить о будущих последствиях моей неизбирательности? (Хотя это неверно – я выбирал, и вовсе не согласен был пленяться женственностью там, где её не находил.) Может, он так ломал меня, поскольку эмоциональная окраска его мысли обо мне имела вид брезгливой неприязни? Ломал, как кобеля с не в меру озорным характером… То есть, как сам он думал, не ломал – а исправлял, облагораживал, будто болванку, заготовку, полуфабрикат творения. Возможно, он даже скорбел, горько сочувствуя тому пустому, суетному пути, который мог привести меня в беспутство и застенки диспансера. Не знаю. Я не понимал. Ведь говорил уже: он был другим, не таким, как большинство, как я. А стало быть, и соображал иначе.
Как соображал? Каким был? Позже я, кажется, понял: ему не хватало в жизни огня – обыденность казалась ему такой пресной и безвкусной, что за обеденным столом он, не снимая пробы, перчил харчо и досаливал в тарелке солёный огурец. Не то что бы буквально – нет, в фигуральном смысле. А ещё он хорошо умел хотеть. Не чушь какую-то из череды – шмотки, рубли, «порше», сексуальная рабыня, два пива, личные хоромы, – какую хочет всякий ювенал, а ого-го чего. Сказать по чести, он жаждал невозможного – чтобы его подвижному уму стало послушно мироздание. Но, разумеется, не сразу, а постепенно – в ногу с взрослением души. Недурно, да?
Однако я забежал вперёд. Вернёмся в предысторию.
Итак, гнев мой остыл – и, когда мы наконец вновь встретились, я не стал с ним драться…
2. Пражский крысарик
Драться не стал, но – как встретились – сгрёб за грудки и чувствительно встряхнул. Емеля улыбнулся хорошо поставленной улыбкой – светлой, смущённой и доверчивой (она до сих пор при нём, и он её, когда потребуется, пускает в ход).
– Ну что, родной, ответить надо, – сурово сообщил ему, сгущая внутри себя грозу. – Скажешь, пошутил? Блеснул идиотизмом? Что зубы скалишь? Всё, кончилась потеха…
Я заводил себя – ещё немного, и из меня наружу молнией бы полыхнул разряд.
– Где ж тут идиотизм? – Красоткин не пытался высвободиться, но и страха в его глазах не было. – Идиотизм – это реклама обувного магазина: «Готовы вас обуть». Видел такую недавно на Большом проспекте Петроградской. У нас с тобой другая штука…
– Какая штука, окаянная душа?
– Аттракцион: глазок в грядущее.
– Ты рака-то не заводи за камень!
Я всё пытался разбудить в себе злость, достойную этого слова; аргументы по большому счёту закончились – брал голосом.
– Да брось… Ведь обошлось, всё на места вернулось. Зато в багаже – ясное представление о перспективе. То, что нас не убивает… и так далее.
– Кончай юлить! Свинью подкинул – должен почками ответить.
– Опять двадцать пять. Скажи лучше, ты слышал что-нибудь о пражском крысарике? – спросил внезапно Емельян.
– Какого… – начал я, но порыв мой был уже наполовину обезврежен. Помните, у поэта: «Шла борона прямёхонько, да вдруг махнула в сторону – на камень зуб попал…». – Зачем бодягу эту замутил – не хочешь разъяснить? Не слышу!..
Дело было возле факультета, в грязно-жёлтой аркаде галереи. Пахло ранней осенью, старая охра стен, пестревшая студенческими автографами, шелушилась и опадала чешуйками.
– Видишь ли, Парис… – (Забыл сказать: зовут меня Александр, а кто-то (уж не он ли, не Емеля?) на факультете перекрестил в Париса – и прижилось…) – Ты понял, да? Там оказаться можно и при более печальных обстоятельствах… – Он снова улыбнулся. – Да ладно! Зачем о грустном?..
Я отпустил его ветровку.
Читал когда-то, будто есть в голове у человека специальные нейроны – зеркальные. Они отвечают за копирование действий и чувств других. Мы смотрим на чужую радость – зеркальные нейроны пощипывают наши внутренние струны, и мы, улыбаясь, радуемся тоже. Смотрим на чужие мучения – и, сострадая, испытываем боль.
– Пойдём, – его взгляд излучал дружелюбие, – я знаю место, где смешивают потрясающий коктейль!
– Гад ты, Емеля… – Запал мой окончательно иссяк. – И чем же он хорош?
– Наутро ты ничего не помнишь. Зато тебя запомнят все. Осушим мировую? Угощаю!
Начало сентября. Совсем начало – летнее ещё, без красок осени. Мы стояли в аркаде галереи Новобиржевого гостиного двора, нарисованного архитектором Кваренги, где размещались исторический и философский факультеты – и во мне не было ни злости, ни возмущения. Улыбка и слова Емели слизали их, словно корова языком.
И мы пошли – скверами, дворами, переулками… Точнее – он повёл.
Я знал, конечно, это заведение, скрытое на задах Кадетской линии, и бывал тут не раз. Снаружи по стене вился плющ, довольно редкий в Петербурге и потому желанный, радующий глаз. Стойка и окна в окопном стиле были задрапированы камуфляжной сеткой, рядом с бутылками на полках помещались макеты танков, самоходок и бронетранспортёров с таинственными опознавательными знаками, между ними россыпью и поодиночке стояли раскрашенные оловянные солдатики неизвестных армий. Кто же с исторического или философского не ведал про кабачок «Блиндаж»? Только зубрила и беспросветный олух.
Пожалуй, это было одно из немногих мест, где я, при всей своей предрасположенности, не находил ровным счётом никакого эротизма. Даже если за соседним столиком сидела Вечная Женственность, её словно бы тоже скрывала от меня незримая маскировочная сеть. Так скрывала, что не распознать ни по взгляду, ни по лодыжке, ни по узенькой пятке. И то правда – откуда в окопе женственность?
Обычно, если нелёгкая заносила сюда, я заказывал пиво или что-то крепкое – коктейли мне тут никогда не смешивали. Красоткин пошептался с владыкой барной стойки.
– Увы, – сказал он, вернувшись ко мне, – сегодня не все ингредиенты есть в наличии. Коктейль отменяется. – И добавил со значением: – Зато есть коковка. Я заказал.
Как выяснилось, коковка – настойка листьев коки на водке. Они, эти листья, в Боливии и в Перу доступны повсеместно и даже рекомендованы к употреблению в условиях высокогорья (мате-де-кока). Для мобилизации организма на случай гипоксии. В «Блиндаж» тянулся перуанский след – кто-то из друзей заведения доставил сюда этого добра изрядное количество.
Жидкость в графине имела прозрачный зеленовато-охристый оттенок и травяной вкус – лёгкий и приятный.
– А кто такой… ну, этот… пражский крысик? – поинтересовался я после второй.
– Крысарик? – Емельян крутил в пальцах пустую стопку. – Забавная история… Это такая мелкая собачка. Иначе – ратлик. В прекрасное Средневековье малыш спасал Прагу от нашествия крыс. Знаешь ведь эту притчу?
– Какую?
– Ну, ту придурь, что соседствовала в Европе с пламенеющей готикой. Чернокнижие, ведовство… Невероятно! Если обобщить их так, как обобщают нас они, то… Можно сказать: всех красивых женщин и кошек считали по той поре пособницами дьявола.
Действительно – как будто было дело… У нас повсюду медведи пляшут, у них везде костры чадят.
– Фундагиагиты, – продолжал Емеля, – альбигойская ересь, ведьмобесие и всё такое… Вот и докатились – ввиду падения стараниями святой инквизиции поголовья не только прелестных ведьм, но и кошек, пражский крысарик делал кошачью работу. Благо сам был с крысу ростом.
– Забавно…
Я решил на будущее крысарика заимствовать – девушки любят мягкие игрушки и всякие истории про них.
– Ещё его, благодаря размеру, держали в кармане рядом с кошельком – для рыночных воров отличный реприманд. – Красоткин помолчал, словно бы ожидая с моей стороны вопроса или реплики, однако не дождался; а может, и не ждал – просто расслабился, наслаждаясь мгновением юности. – Но пражский крысарик – только подводка к теме.
– Какой?
– Высокой. К теме красоты. – Он просиял. – Ведь культ прекрасной дамы возник в Европе исключительно ввиду катастрофического дефицита э-э-э… скажем так, женской прелести. А у нехватки этой, как и у минуты славы крысарика, одна причина. О которой уже сказал.
Мимо мелькнул владыка стойки, держа в одной руке салат «Мимоза», а в другой – железный букет из вилки, ложки и ножа.
Далее Емеля некоторое время рассуждал о странной двойственности европейского Средневековья, отдавшего предпочтение холодной красоте вещей, а красоту телесную назначив инструментом дьявола. Телесная была грешна уже только потому, что побуждала к грешной любви, а преображение её, грешной, во что-то высокое, приподнимающее человека над юдолью, никак не допускалось. Воюя с гностицизмом, Европа отравилась им, пустила заразу в свою кровь. Как яблоко-падалица – ударилось бочком о сыру землю и с краю этого подгнило, само обратилось в землю. Ведь именно гностическая ересь отвергала возможность преображения любви – от плоти к духу. В их вселенной – вселенной гностиков, – где противостоят друг другу Бог и дьявол, свет и тьма, добро и зло, небо и земля, любовь таит в себе великий сатанинский умысел – продлить бытие во плоти, – так говорил Емеля. В целях противодействия нечистому, по их учению, человеку следует воздержаться от брака, от удовольствий любви и рождения детей, чтобы божественная сила не могла и дальше в череде поколений оставаться пленённой – заключённой в материи. У них торжество Эроса означает победу смерти, а не бессмертия, отчего любовь со всей очевидностью попадает в разряд самых тяжких грехов. Этот гностический идеал не имеет ничего общего с христианским, однако же именно он возобладал в умах христианских борцов с ним.
– Вот прохвосты! – не сдержался я.
– Groccia capta ferum victorem cept, – блеснул Емеля латынью. – Греция, взятая в плен, победителей диких пленила. Из послания Горация. – Он наморщил лоб. – Книга вторая, послание первое.
Не помню, чтобы это нам преподавали. Должно быть, Горация Красоткин штудировал факультативно.
Между тем, коковка давала о себе знать.
– Странно, что они там доросли до готики, – возбудившись, высказал я о прохвостах категорическое мнение.
– Готика их спасла, – возразил Емеля. – Ведь искусство отчасти компенсирует роковую непригодность мира для счастья. – Он почесал переносицу. – Теперь, правда, искусство у них отцвело, дало плоды и даже немножко умерло.
– Давай договоримся, – предложил я. – Ну его к бесу, этот высокий стиль.
– Почему? – Красоткин поднял бровь.
– Потому что на ощупь обнажённые женщины очень напоминают голых баб. – И добавил, проясняя мысль: – Если хочешь быть счастливым, ешь картошку с черносливом.
Полагаю, он почувствовал, что мы при всём своём несходстве (то есть благодаря ему) недурно друг друга дополняем… (Подумал вдруг: а я не обольщаюсь? Вполне возможно, он чувствовал себя полным и без меня. Полным и самодостаточным.)
– Наблюдение верное. – Емеля взял графин. – Но те, кто с тобой согласятся, сделают это от недостатка воображения. – Он следил за прозрачной зеленоватой струёй. – А люди без воображения – мелкие мошенники в мире большой красоты.
И он поведал, что вчера, гуляя по городу, наблюдал, как на канале Грибоедова опиливают тополя, оставляя от мощно зеленеющих деревьев искалеченные корявые столбы с короткими культяпками, возле которых на земле в преступном небрежении валяются ещё недавно живые ветви в их цветном наряде. Искалеченные исполины выглядели как античные статуи, варварски лишённые конечностей. Но и не только это… Тут и дома… некогда блиставшие фасадами, теперь увяли, заболели, пошли паршой, посыпалась слоями штукатурка и лепнина… Так вот, он говорил, что мучился, смотря на это, и страдал. Три раза проходил туда и три обратно. Смотрел, осознавал, в душе его копились печаль и горечь… Пока вдруг его не озарило: мы ведь признаём и ценим античность даже в её развалинах, в ущербности, в безрукости, в её истерзанности. И очаровываемся домысливаемым совершенством, которое сумели разглядеть и в руине, поскольку само понятие о прекрасном никуда от нас не делось, оно живёт вместе с нами, в нас. Мы знаем, что с руками, ногами, удами, головами эти изваяния были бы ещё прекраснее, однако утраты мы в состоянии красоте простить, так как она, красота, там всё равно осталась – ею пропитан каждый львиный коготь, каждый изгиб, каждый локон, каждый угадываемый мраморный порыв. А что касается деревьев… Вот что он, Емельян, сказал:
– Они же по весне зазеленеют. Зазеленеют всё равно. Прошу простить мне мой мелкобуржуазный оптимизм. Ведь жизнь в них всё-таки осталась. А вокруг нас, в обступающей нас подлинности… в целом мире – ничего нет, кроме красоты. Той, которую мы видим, и той, которую пока не разглядели. Ничего другого – понимаешь? Ничего другого нет. И надо эту красоту, скрытую от взгляда, разглядеть…
Всё это, напоминаю, он говорил мне в то время, когда под нами рассыпалась страна, когда вокруг сгущался злой и бодрый мрак. В то время, когда мы очутились в какой-то исторической прорехе, в складке угасания, безвременья, в дурной дыре – там, где вокруг лишь пустота, засасывающая и разрастающаяся вокруг и в нас. (Откуда такой суровый тон? – теперь я изменился, стал другим, а в ту пору нам казалось, что падение – это чертовски весело, и так похоже на полёт…) Эти потерянность и ощущаемая обречённость жизни, подобно плесени, сеяли споры разрушения и задорного цинизма. Мы думали, что на поругание им отдаём лишь скверную часть нашего настоящего, – но они, эти споры, прорастая и оплетая нас своей грибницей, забирали всё. А он, Емеля, за этой сумрачной дырой пытался увидеть красоту. И убеждал меня попробовать её разглядеть. И я поверил, что она там есть.
Впоследствии я не раз размышлял: чем он привлёк, чем обаял меня? Дело в том, что прежде мне не доводилось (или так скрывали, что не замечал) встречать людей, которых бы по-настоящему интересовало что-то, выходящее за границы их самих – их чувственности, их телесности. Я говорю не о профессиональном интересе астронома или ортодонта, а об интересе человеческом, идущем от искреннего переживания. Так вот: ему, Красоткину, было интересно – что же там, за гранью. И неподдельный этот интерес мерцал в его глазах.
Вряд ли кто-то всерьёз поверит в реальность наших намерений – а между тем, они были чистосердечны, – но в тот день в «Блиндаже» мы с Емелей договорились сделать мир по возможности пригодным для счастья. Хотя, пожалуй, каждый имел в виду немножечко своё. Но разве может быть иначе? У каждого, когда дело доходит до счастья, свой вкус и своя манера (кто любит арбуз, а кто офицера). Так уж заведено.
Осенние мухи кружили вокруг лампы и бессмысленно бились в белый потолок. Их маленькие крылатые тела, бесформенные в полёте, как стремительные кляксы, делали «з-з-з», а шлёпаясь с разгона в штукатурку свода, барабанили «тук-тук», как тихий карандаш о стол. Эта изнуряющая музыка никуда не годилась, но музыканты полагали иначе… Глядя на них, я почему-то вспомнил, как иной раз Петербург розовеет от томления и заката, и какая, случается, встаёт над мостами огромная красная луна, и как удивительно хороши бывают скрипачи и флейтисты в переходах метро.
Мимо нашего столика проходила девушка – в походке её была красота движения, которая зовётся грацией. Впрочем, присущая месту незримая камуфляжная сеть, полагаю, скрывала от меня большую часть её достоинств.
– Пойдёмте, сломаемся в танце, – предложил я ей, хотя в «Блиндаже» танцпола не было.
– Нет, – холодно отвергла она предложение.
– Вы замужем? – спросил я с пониманием.
– Хуже, – ответила она загадочно.
Вот как они умеют это?.. Немыслимо!
Но умеют и по-другому. Подхваченный воспоминанием, я рассказал Емеле случившуюся со мной однажды историю знакомства, так сказать, вслепую. Как-то я позвонил одной подружке (в то время телефоны были стационарные, на привязи – надо было звонить из дома или из будки и цифры набирать вручную). На том конце подняли трубку. Я говорю: «Здравствуй, Оля». (Подружку звали Олей.) А она мне: «Здравствуйте, только я не Оля». Ошибся номером – бывает. А голос такой грудной, воркующий, сразу дающий образ создания нежного, мечтательного, с мягкими губами… Что делать – извинился. Собрался уже дать отбой, а тут она мне говорит: «А что вы хотели предложить?» – «Кому?» – «Ну, той Оле, которой звонили». Редкая непосредственность. Мне понравилось. «Хотел предложить прогуляться, – а сам предвкушаю уже занимательный поворот. – Вместе вечер провести». – «А вы именно с ней хотели вечер провести, или не обязательно?» – «Пожалуй, не обязательно». – «А может, я вместо неё?» – и в голосе такая трогательная надежда – не робкая, а так, по-женски, под робость сыгранная. Ты понимаешь? Как тут устоять! Договорились встретиться в Летнем саду у вазы. Пришла. Забавная девица – сама непринуждённость и раскованность, – и всё, что нужно, у неё длинное: ресницы, ноги, воля… «И что вы дальше, – спрашивает она, – собирались делать с той… ну, с Олей?» – «Мороженое съесть и хересу на Итальянской выпить». Одобрила. Съели мороженое, хересу выпили. «А что потом? – говорит она, стреляя влажными глазами. – Что потом хотели делать с Олей?» Представляешь? И так вот этим самым «что потом хотели делать с Олей?» меня пытала, пока до греха не довела. Всю ночь проводила надо мной свои бесчеловечные опыты: «А так вы с Олей не делали? А вот так?». Целеустремлённость необычайная!..
– А что, разве не прекрасно было бы, если б наши желания подобным образом, как бы сами собой, сбывались? – Красоткин оживился, но посчитал нужным пояснить: – Я не о женщинах. – И тут же: – Впрочем…
– Для этого надо бы в рай…
– Погоди, – Емеля отмахнулся, – успеется… Мы что, в жизни уже всё устроили, как должно?
– О чём ты?
– Далеко ходить не надо. Взять заповеди, которые нам завещано блюсти… – Он коротко задумался. – Хватит даже одной. Вот этой: когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая.
– И что? – Я не успевал за его мыслью – мы думали на разных скоростях.
– Христианское богословие не отдало этому наказу должного. Толкование и вовсе никудышное: долой фарисейство и начётничество! Стыд и срам. А речь ни много ни мало о пути достижения благодати – через творение добра тайно, через скрытую милость и незримое содействие. Здесь корень понимания божественного Провидения! Надеюсь, ты не считаешь христианство дремучим мракобесием, достойным сегодня только насмешки и забвения? – Красоткин заглянул мне в глаза и, думаю, увидел там космос. – И правильно. Стало быть, если Христос заповедал вершить благо сокровенно, не напоказ, то разумно предположить, что и сам Он действовал точно так же. А что это значит? Это значит, что явленные Им чудеса и публичные благодеяния – лишь небольшая частица Его свершений! Основное – в тени. Но разве нам известно учение о тайных чудесах Христа?
– Куда только богословы смотрят… – Мысль его мне показалась интересной, хотя и отвлечённой от наших грешных будней. – Профукать такую тему… Впрочем, – припомнил я, – отдельные деяния святителей на этом поприще известны: Николай Чудотворец тайком подбросил золото трём бедным бесприданницам. Обнищавший отец собирался продать их в блудилище.
– Но тайну сохранить не удалось… – не то продолжил, не то возразил Емеля.
– Дважды вышло тайно, а вот на третий раз дал маху – засветился.
– Вывод: нельзя действовать по одной схеме. Шаблон непозволителен.
– Возьмём лень за ремень…
– И вообще, что касается учения о тайных чудесах Христа – здесь открывается возможность постигнуть многие, так сказать, загадки бытия. Истолковать кое-какие тёмные его места. – Воодушевление Красоткина было заразительным. – Именно учение о скрытых благодеяниях Господа может дать к этому ключи. Ведь происходящее с нами выглядит разумным, если подходить к действительности с той меркой, что всё могло быть хуже… Могло. Но это худшее от нас отведено, мы от него избавлены. Избавлены именно волей незримого божественного чуда. С этого угла многое, что обычно считается делом рук дьявола, то есть искушение, соблазн или сама телесная смерть, видится всего лишь посильным испытанием, которое милостиво предотвращает испытание невыносимое.
– Жаль, что это учение так и не дождалось своего создателя, – посетовал я; Емеля был, конечно, молодец, но в моём представлении на богослова не тянул. – А мы-то что? Что мы устроить в жизни можем? Сам же сказал – надо бы устроить как должно…
– Да. Это правда. – Он уклоняться не желал. – Что касается скрытого блага как небесной истины, то поиски его ведутся из рук вон плохо. А вот идея тайного зла, напротив, является излюбленной для… как говорят философы, практического разума. Разоблачить тайное коварство, обнаружить подковёрные козни, вывести на чистую воду злой умысел – любимые у нас забавы. Никому и в голову не приходит задуматься: если зло все и повсеместно стараются выдать за благо, то кем нужно быть, чтобы прятать в тени благо истинное?
– И кем же?
Красоткин посмотрел на меня убийственно, испепеляя холодным огнём сочувствия.
– Богом, – сказал он. – Или рыцарем тайного милосердия.
Я усомнился:
– Родной, если уж христианство за всю свою историю не разродилось рыцарским или монашеским орденом такого рода, то…
– Почём нам знать, что такого ордена не существует?
– ?..
– Что это, скажи пожалуйста, за тайное милосердие, если тебе и мне о нём известно? Это ведь осечка – как у святителя Николая с третьей бесприданницей.
Я в уме прикинул и:
– Уел, – признался.
– Согласись, мир, которым в своих нехороших интересах коварно манипулируют масоны, атлантисты, аннунаки, рептилоиды и прочая мировая закулиса, – это уже порядком надоевшая пластинка.
Как тут не согласиться – шубка молью бита.
– А что, если этой заезженной пластинке противопоставить свежую мелодию? – Сверкнул глазами Красоткин. – Такой порядок мира, где вовсе не тайное зло, а именно скрытое благо определяет ход вещей? Скрытое благо – понимаешь? Не только божественное, но и мирское…
– Постой… – В голове моей полыхнуло озарение. – Так ты подвёл меня под КВД, чтобы посильным испытанием спасти от больших бед? Чтоб честь не растерял? Чтоб не отдал кому попало поцелуя без любви?
Емеля, кажется, смутился. По крайней мере, улыбнулся так же, как тогда, когда я его приподнял за грудки.
– Видишь ли, Парис… – Он старался подбирать слова. – Разбрызгай-ка по стопкам.
Я разбрызгал.
– Человеку испорченному, нетвёрдому в устоях нравственности, – продолжил он, – тоже стоит подать руку помощи. Но тут помощь должна иметь другие свойства… Содействие трудностями – так примерно. И это тоже будет в свой черёд благое дело. В такой форме оно, возможно, даже нужнее добра, так сказать, прямого действия. – Красоткин поворошил волосы на темени. – Да, с диспансером вышло не того… Согласен. Тут известен благодетель, причастный к содействию. А так быть не должно. Косяк. Это не тайное – это, скорее, бескорыстное добро…
Я хотел сказать: «Скорее, зло бескорыстное», – но не успел, потому что он тут же, без заминки, изложил мне свой замысел, в котором местами угадывались положения, определённо требовавшие предварительных раздумий. То есть, предполагаю, он размышлял о чём-то схожем и прежде, просто теперь мозаика окончательно сложилась.
Честная мать! Отец небесный! Оказывается, чтобы рыцарю нашего ордена, подвижнику скрытого блага, не оказаться разоблачённым и остаться незамеченным, следует свой путь хитросплетать и ухищрять не менее, чем ухищряет и хитросплетает свои пути поборник тайного зла! Ведь объекту заботы ни в коем случае не следует догадываться о том, что некто о нём печётся, иначе он, опекаемый, как пить дать отнесёт негаданную помощь на счёт своей избранности, а это, как известно, здорово вредит характеру.
Ведь люди таковы, что все так или иначе в предчувствиях своих готовы к скрытым пакостям от окружающих, а также другим злоумышлениям в свой адрес, даже немотивированным, и очень редко кто рассчитывает на безымянную доброжелательность. Понятно, когда кто-то, кому вы невзначай перешли дорогу, тайком подбрасывает под колёса вашей машины саморезы. Но чтобы кто-то из-под ваших колёс втихую саморезы убирал – это увольте. Не бывает! Нет, невероятно! Померещилось… Так, вроде бы, при первом взгляде кажется. Ведь мы ничего не знаем о тайном добре, заведомо и скрупулёзно творимом именно как добро и именно как тайное. Но если приглядеться к рутине повседневности с вниманием, настроив взгляд так, чтобы предмет интереса не проскользнул размытым облачком, а оказался в фокусе… то – вот и нет. Бывает! Есть и такое в жизни. Есть как принцип! Более того: скрытая предрасположенность кого-то к вам (или вас к кому-то) суть подвиг нравственного подражания Христу. А это – сила. И энергия этой силы на диво велика. За такой безымянной заботой, существующей в режиме неуловимого (или едва уловимого) миража, стоят незримые таинственные рыцари, которые и убирают из-под ваших колёс саморезы, а в случае нужды могут распространить свою заботу вширь, вдаль и вглубь, выбрав себе кого-то в подопечные для долгого возделывания, будто сортовой саженец, который в будущем чреват отменными плодами. Плодами не для них, но вообще… Для мира.
В чём их, этих призрачных благодетелей, этих рыцарей тайного милосердия, мотив, кроме подвига подражания Ему? Если кому-то вдруг покажется, что одного этого мало… Да в том уже хотя бы, что они будут наслаждаться своей незримостью. Счастьем тайного, доброго и справедливого властелина.
Согласится ли современник, взыскующий публичного мнения о себе (камень в мой огород), желающий стать королём молвы, болеющий за репутацию (неважно с каким знаком), быть обречённым в благих своих делах на анонимность? Сомнительно. Весьма сомнительно. И всё же. Если он сберёг детскую веру во Всевидящего… если сберёг детскую душу (а христианство по сути – это вера детей и стремление сохранить детскость души: мы – дети Божьи, говорит Евангелие; будьте как дети, говорит Иисус), то – да, согласится. Поскольку знает, что его усилия и дела, не видимые окружающими, наверняка видит Тот, Всевидящий. Видит и воздаёт своим судом.
Что ж, речь Емели звучала убедительно.
– Так значит, другие о наших делах ничего не узнают? – уточнил я. – Не заподозрят в добре и никак о нас не подумают? Ни хорошо, ни плохо?
– Именно, – кивнул Красоткин.
Это было против моих представлений. Решительно, навыверт… Ну, тех самых: дескать, человек – это то, что думают о нём другие. Поэтому, должно быть, и показалось мне заманчивым.
– Согласен, – согласился я. – Всемером и батьку бить легче. Когда выходим на тропу бескорыстного добра?
– Сперва договоримся о понятиях, – вздохнул Красоткин. – Бескорыстное добро и скрытое благодеяние – вещи разные. Говорил уже… Бескорыстное добро, как следует из его названия, отвергает лишь корыстное. То воздаяние, которое может быть выражено в деньгах… или какой-нибудь товарной форме. Но другая награда вполне приемлема – скажем, фимиам восхищения. Кроме того, в случае бескорыстного добра речь не идёт об отказе от авторства в отношении поступка. Наша тропа – другая. Это совиная тропа.
– Почему совиная?
– Потому что у совы бесшумный полёт. – Емеля оказался натуралистом. – И ещё потому, что у совы нет никакой тропы.
– Теперь понятно.
Далее он пояснил, что тропа тайного благодеяния многого потребует от того, кто на неё ступил. Так что придётся поработать над собой. Зато она и многое дарует тому, кто идёт по ней. Она погружает в другое, давным-давно утраченное нами измерение – то измерение, что родственно пространству мистерии, горизонтам героического и жертвенного или сокровенному опыту веры. Потому что тропа тайного добра со всеми своими извивами и петлями – тоже не от мира сего. И она возвращает идущего по ней в то сверхчувственное состояние, которое некогда было присуще человеку и которое он потерял. Потерял – и теперь тоскует по нему, толком не понимая причину своей тоски. То состояние, которое Лев Толстой описывал как инстинктивную, блаженнейшую первобытную потребность добра в человеческой натуре, теперь напрочь задавленной воображаемыми знаниями о свободе, деспотизме, цивилизации и варварстве. Но на этой тропе, на совиной тропе, чувства вновь начинают обретать былую подлинность. Вот только для начала надо отбросить тиранию чужого мнения, погоню за успехом, жажду воздаяния и другие обольщения мира, склонившегося к ногам золотого тельца. Всё это придётся сделать, иначе ты просто не увидишь никакой тропы.
Примерно так.
Что там, в «Блиндаже», было дальше? Ещё не раз разбрызгали. Кажется, я изливал Красоткину беспутную душу. Всплывает фраза: «Понимаю: ты не мой духовник, но я всё равно не могу заткнуться и избавить тебя от потока этих нелепых откровений…»
Потом жидкость в очередном графине закончилась. К нам подошёл владыка стойки (по фамилии Овсянкин), таинственный, как теорема Ферма, – глаза его, подобно глазам хамелеона, смотрели в разные стороны. Час расплаты. Емеля, отсчитывая деньги (угощал), высунул от усердия язык, словно малыш, вырезающий из бумаги снежинку.
Итог? До этого дня мы были знакомы с Красоткиным верхами. После двух графинов коковки сошлись накоротке. На годы. Сговор между нами о мире, пригодном для счастья, – Фаустом себя не мню, – был заключён и, как ни странно, укоренился в памяти, свернувшись до поры, как сворачивается в кишке бычий цепень.
Потом вышли на улицу, где я тут же проглотил шального осеннего комара. Вечерний воздух пах дождём, уже, хвала небесам, прошедшим. Под светом фонаря кирпич стены казался воспалённо-красным, будто ошпаренным, а лужи драгоценно блестели, точно напоказ.
Коковка воодушевляла отменно, пьяня и зовя в полёт. И сны дарила весёлые, гулкие, пенные – словно газированные. После «Блиндажа» ночью я впервые упал во сне с кровати.
3. Не Дюймовочка
Накатывали и отступали волны лет. На языках державших хвост по ветру философов, деливших с нами, историками, здание Новобиржевого гостиного двора, затрещали сорочьи термины нового времени, своей бездыханностью словно бы иллюстрируя постулат: дескать, автор умер. Правительственные реформы, обещавшие прогресс и процветание, шли своим путём, повседневная жизнь – своим. В то, что им суждено когда-нибудь встретиться, не верили уже ни экономисты, ни фантасты. Потом второй раз полыхнул Кавказ (как сказал Красоткин позже, война сделала страну сильнее – так прививка делает сильнее организм; в данном случае – прививка опасности).
Потом и университет оказался за спиной, в беспечном прошлом. Мой строгий отец ушёл в другую семью (новой его семьи я не видел, по настоянию матери дав слово очно с отцом не встречаться), не испугавшись в пятьдесят сойти с привычной колеи. (Вот и ответ, в кого такой я уродился…) А мать, промаявшись несколько лет в печали и обиде, вышла на пенсию и завела тетрадь, куда принялась записывать полученные за время жизни комплименты – с памятью у неё всё было в порядке.
Красоткин устроился редактором в издательство. Душа его взрослела, и вслед за этим желания Емели росли и взрослели тоже, становясь столь велики, что, казалось, реши он окунуться в море, обременённый их грузом, как море тут же выйдет из берегов. Я же, представлялось мне, оставался прежним – бодрым и скорым на подъём.
Выше я писал, что с годами изменился, стал другим. Тут нет противоречия – изменился в том смысле, что сделался сложнее, глубже, как требовала того тропа тайного блага. Но лёгкость характера и темперамент меня не оставляли. Поэтому выходит – как будто изменившись, не изменился.
До того застолья с Емелей в «Блиндаже» я жил довольно просто – с огоньком, но, скажем так, линейно. Красоткин через идею тайного добра внёс в мою жизнь большую загогулину.
Первый шаг оказался неожиданным. Спустя некоторое время после нашей знаменательной беседы, Емеля рассказал, что недавно был на встрече одноклассников, и с той поры всё время думает об одной девице – о Кате Кузовковой с задней парты. В хорошем, то есть, направлении думает – как ей помочь. Врачи нашли у неё предрасположенность к диабету, и эта самая предрасположенность печально нарастает. А ей всего-то двадцать с небольшим! Девчонка славная – работает и учится на заочном в Институте культуры, добрая душа, затейница, в школьном хоре пела звонко… И скромная – не навязывает окружающим своё существование. Беда только – в ней центнер веса. Надо непременно избыток тела – того… Иначе диабет её сожрёт. А ей не хватает волевого усилия: только булочку сладкую или батончик карамельный с орехами увидит – теряет всякий над собой контроль. А булочки и батончики эти – в каждой витрине.
– Придётся посодействовать, – сказал он.
– Как тут посодействуешь? – я удивился.
– Очень просто. – Красоткин с прищуром улыбнулся, будто кот на пригреве. – Любовь чудеса чудесит.
– Ха-ха! – я хохотнул. – А кто счастливчик? Что-то равновеликое? Какой у голубчика удельный вес?
Емеля посмотрел с укором.
– Да ты уже одурел совсем… от буйного счастья продолжения рода! – (У меня по той поре сложились сразу две лирические истории. Ребром стояла проблема выбора. Я с Емельяном поделился.) – В тебя она должна влюбиться! Понял? В тебя, голубчика…
– В меня? – опешил я.
Сначала подумал: шутит. Однако Красоткин не шутил. Тогда я возразил: мол, я с бестиями этими – только по зову сердца. Что я – жиголо по вызову? Девушка сперва должна зажечь во мне чувства. А ты говоришь – там центнер… Никогда! Пышки не зажигают мои чувства.
– Нет, – сказал Емеля, – ты не жиголо. Ты – Парис, соблазнитель чужих жён.
– Так она ещё и замужем!..
Я был сбит с толку. Настолько, что даже не обиделся.
Катя Кузовкова была не замужем – я Красоткина неверно понял. Он имел в виду, что я не жиголо, а бескорыстный обольститель (это потом уже обольщённые девы станут чужими жёнами и матерями, о чём, естественно, ни я, ни кто другой, за исключением Емели, не думал).
Однако верно ведь, всё так и есть – бескорыстный обольститель. В том смысле, что не приемлю вещественную корысть – не жду в награду ни денег, ни чего-то в товарном виде. Награда здесь другая… Такая, что в ожидании её мышиной дрожью бьёт колени. Вот говорят о том, кто сильно нервничает в ожидании чего-то: дрожит, как девица в опочивальне. А что, только девиц то самое… то самое предчувствие манит, томит и обращает в трепет? Не только, нет. Трепещет каждый… если, конечно, не большой руки прохвост. Это потом, уже пообтеревшись, понимаешь, что то, что происходит между тобой (каким-то тобой абстрактным) и ней (абстрактной тоже) в постели, дарует лишь сиюминутную отраду – здесь и сейчас, и никогда ничего не обещает в будущем – ни любви, ни мудрости, ни героической смерти. И даже не переносит тебя на острова блаженных, а лишь даёт смутное представление об их существовании. Такая торопливая экскурсия в авто без остановок. Экскурсия, которая тебя никуда не привозит, но, сделав круг, возвращает обратно, туда, где до того и куковал. Какая всё же злая ирония таится в уместном к этому случаю глаголе «познавать»!
План у Емели был следующий… Собственно, никакой даже не план, а так – соображение. Типа, она грустит в зябком одиночестве, в тихой печали от неполноты жизни, обусловленной её избыточной телесной полнотой, а тут – я в балетных туфлях… Словом, я должен был явиться перед очи Екатерины неотразимым образом. Так нарисоваться, чтобы не стереть. Чтобы она мной беззаветно прельстилась. Беззаветно и – что делать, раз пышки мне не по сердцу, – безответно. А дальше эта безответная любовь сама её иссушит диким жаром. (Вот написал – и оторопь берёт: как вообще могло такое в голову прийти? Что были мы за идиоты? Но это всё теперь, с вершины нынешнего дня, а тогда… Пустоголовая юность, студенты – что с нас взять?)
Мне идея не понравилась. Я представлял себе совиную тропу иначе. Совсем не так. Но Емельян уговорил.
– А что, если от безответной любви, – последний раз взроптал я, – она впадёт в хандру и чёрную тоску? Впадёт – и набросится на сладкие булочки для утешения? Её ведь только шире разнесёт.
– Нет, – возразил Красоткин. – Этого мы не допустим. Если дела пойдут не так, будем корректировать план.
Ночью мне приснилась незнакомая, очень толстая девушка. Дрожащие ляжки, бугристые от целлюлита, будто слепленные из комковатой манной каши, чудовищный живот, складчатые валики на боках, белая мощная грудь, влажные, постоянно потеющие ладони, заплывшие глаза-щёлки, и этот запах – тяжёлый запах сочащегося жиром тела… И всё это любит, и всё это меня жаждет! Какое тут сладострастие? Бежать, бежать!.. Во сне я испытал неимоверный ужас. Малодушно? Быть может. Но я не контролировал себя. Мне даже захотелось перестать дышать.
Утром я решил: нет, нас ждёт поражение – такие толстые любить не могут. Это невозможно. У них должна срабатывать природная защита от любви: техника безопасности – щёлк! – и перегорает предохранитель, тот, что оберегает психику от перегрева, не даёт ей пойти вразнос. В них, в непомерно толстых, любовь должна задохнуться, придавленная гнётом сала. А если нет, если она всё-таки не задохнулась, оказалась выносливой, двужильной, то им же, жирным, хуже – никто их не полюбит. Ну, разве что такой же жирный – от безысходности. А это надо? Любовь – предмет эфемерный, нежный… большой вес её расплющит. Как задом на соломенную шляпку сесть.
Так я подумал. И ошибся.
– Да, вот такая – не Дюймовочка, – сказала Катя Кузовкова в ответ на мой нескромный взгляд.
Она работала продавцом в зоомагазине. По наводке Красоткина я в тот зоомагазин и зашёл. За прилавком, верх которого был заставлен клетками с пернатыми и грызунами, а застеклённый низ – разнообразными домишками и когтедралками, увидел Катю. Она стояла на фоне пакетов с кошачьими портретами – выставка сухих пайков, не способных, впрочем, смирить природные инстинкты изображённых на них мурлык. Пахло зоопарком. Можно было предположить, но я почему-то удивился.
Что сказать? Дела оказались не так уж плохи, по крайней мере в отношении того, что возвышалось над прилавком, – ни рыхлости, ни складчатых зобов, ни отвислых валиков там, где бывает талия, ни заплывших век… Я невольно раздел её в мыслях. Такой тугой пузырик получился. И взгляд весёлый. Даже мила. Нет, не героиня моего романа, разумеется – тела всё же слишком много, – но и не мой ночной кошмар.
Следя за моим взглядом, Катя сказала:
– Да, вот такая – не Дюймовочка. Что-то хотите? Или дождь переждать зашли?
Снаружи небо и вправду с самого утра то скупо кропило, то щедро поливало город октябрьским дождём. И я действительно был без зонта – волосы слегка намокли, и куртка потемнела на плечах и груди.
– Переждать, – я ухватился за предлог. – Позволите? Грянул потоп, – кивнул на окно, в раме которого плыла сквозь небесные воды улица Декабристов, – а я сегодня без ковчега…
Пузырик улыбнулся.
– Пожалуйста. Человек – не рыба. – Катя в свою очередь кивнула на аквариумы с пёстрой мелочью, стоящие на стеллажах вдоль стены – компрессоры качали в воду кислород, водоросли колыхались, рыбки шныряли или важно помавали вуалевыми хвостами. – Он – почти что сахар.
Посетителей в магазине не было – только я и она. Город за окном рокотал трамваями и машинами, вдалеке, казалось, скрежещут краны «Адмиралтейских верфей». Что ж, нрав у пузырика оказался живой, общительный – не прочь поболтать с незнакомым человеком; надо было закреплять успех. Однако усилий не потребовалось.
– А вы не замечали, сахарный человек, что в центре города дождь – не такой, как на окраинах? – Вопрос застал меня врасплох. – Я, знаете, не люблю дождь. Он мокрый и почти всегда холодный. Но здесь, в центре, – дождь другой. Не то, что на Гражданке или в тридевятом Кудрово. Здесь дождь… добрее, что ли. Не бьёт в лицо, не оскорбляет, не грубит. Не замечали? Он такой… мягкий, будто разговаривает.
Вот оно, подумал, невозможное сочетание крупной формы и нежного, хрупкого содержания. Вот такая она, Россия… Противоречивая.
– Не замечал, – признался я. – Но теперь придётся приглядеться.
Тут, как и было задумано, в магазин, тряся сложенным зонтом, зашёл Красоткин. «Пакость, – бормотал он. – Какая пакость». На встрече одноклассников Емеля пообещал Кате сванской соли, которой делился с ним Овсянкин из «Блиндажа». А где уж брал последний, в какой такой Сванетии – бог весть.
Сначала он меня как будто не увидел. С приветливой улыбкой, овеянный свежим запахом небесных вод, Емеля устремился к Кате. Передал пёструю соль в баночке из-под горчицы. Сморозил какую-то шутку (я не расслышал – но Катя рассмеялась). Вспомнил про им двоим известную Бобылкину… Мне оставалось ждать, постукивая пальцем по стеклу аквариума, – целил лупоглазому риукину в лоб.
– Саша? – Обернувшись, Красоткин словно бы нежданно опознал во мне меня. – Вот те раз! Ты как здесь? Завёл домашнюю скотину?
– Скажешь тоже… – Я пожал Емеле руку. – В доме довольно одного кота. – Шутка, кажется, не слишком удалась. – Мать нож от мясорубки наточить просила…
– Катя, – он обратился к Кате, – ты тут и за точильщика?
– В Дом быта шёл, – пояснил я (по соседству, на углу Декабристов и Лермонтовского, в ту пору находился Дом быта, набитый кучей полезных услуг). – Там точат. Но ливануло – не дошёл. Вот, – кивнул я в сторону прилавка, – девушка любезно разрешила переждать.
Катя-пузырик смотрела на нас с интересом.
– Катюша, это Саша, – представил меня Емельян. – Мы вместе с ним грызём гранит на историческом. А это, Саша, одноклассница моя, Катюша. Вот вам и город Петербург – не разминуться!
– Очень приятно, – сообщил я, хотя ещё не разобрал: приятно мне, или тоска щемит от отведённой здесь для меня роли.
– И мне, – сказал пузырик. – И мне приятно, – и сразу – по-приятельски на «ты»: – Ты, значит, мамины котлеты любишь?
Вот оса! Тут, помнится, твёрдо решил: я иссушу тебя, я сожгу твой жир, я вызову на тебя огонь!
Дело было сделано – Красоткин познакомил нас. Спешить, однако же, не стоило – в тот день знакомством всё и ограничилось.
Когда я говорил (точнее, говорил Емеля), что совиная тропа требует от ступившего на неё определённых правил поведения, что я (он) имел в виду? А вот что. Мир тайного добра, чурающийся не только какого-либо достоверного присутствия и оглашения, но даже малейшего намёка на своё существование, в противовес распущенности мира повседневной суеты требует от своих подданных стойкости (не разболтать), нравственной собранности и, так сказать, чувства самоуважения, не нуждающегося в стороннем одобрении. Короче, читай «Генеалогию морали» – этика господ. По мнению Красоткина, этим мне и следовало заняться (не читать (читал уже), а нравственно собраться и освободиться от ярма чужого мнения).
И действовать теперь тоже следовало строго определённым образом – по законам совиной тропы. Как действовать? Шаг за шагом – целеустремлённо. Помогать тем, кто взывает о помощи, но особенно тем, кто помощи не просит, однако в ней нуждается. Если это мелочь, вроде милостыни, – сделай так, чтобы твоё подаяние не указывало на тебя, оставайся в глазах окружающих непричастным: пусть получивший милостыню благодарит Всевышнего, а не тебя. От мелкой чепухи он не вознесётся в небеса гордыни – дескать, я избранный, и обо мне Господь печётся персонально. То же и во всём: выполняя чью-то посильную просьбу, сумей убедить того, кому помогаешь, что сам ты не имеешь к делу никакого отношения – пусть спишет на счастливое стечение обстоятельств. И тогда, обещал Емельян, когда подвиг тайного благодеяния кристаллизуется в тебе своим путём, ты обретёшь особого рода чувство, описать состав которого вряд ли возможно, потому что испытать его смертным доводится редко.
Про это загадочное чувство, думаю, Красоткин хитрил. А может быть, и нет. В ту пору я этого ещё не знал наверняка. Зло, а тем более тайное зло, должно иметь мотив – тогда оно обосновано и, стало быть, понятно. Живая природа (про мёртвую мне неизвестно) устроена по принципу сбережения энергии, хозяйской экономии затрат – это универсальный закон жизни, которому следует и микроб, и устрица, и кашалот. Избыток энергии допускается лишь при решении задачи сохранения себя как вида – здесь все средства хороши, поэтому всё живое расточительно в любви. Значит, зло тоже будет экономить на затратах, не станет изводить силы впустую. Но… Взять Толкина: в его вселенной отсутствует политэкономия зла – мотивация гоблинов и орков на производство ненависти загадочна и потому недостоверна. А ведь должны быть механизмы поощрения чёрта за то, что он вовремя подкидывает дровишки под котёл с кипящим маслом – иначе он начнёт филонить. То же и с добром. Оно бывает материально бескорыстным, но должно иметь мотив. Чувство, которое редко доводится испытывать смертным, – вот мотив Емели. Ему интересно было знать, что творится в сердце ангела.
А мне? И мне. Мне тоже было интересно. Хотя тогда, в начале нашего пути, я, скорее, не столько самостоятельно ощущал это желание внутри себя, сколько просто подпадал под обаяние его, Красоткина, речей. Но постепенно желание узнать, чем живо сердце ангела, укоренилось и во мне.
И как, скажите, не подпасть под обаяние, когда он так ловко распутывал самые заковыристые узлы, что спорить с ним и сомневаться в его выводах хотелось хотя бы уже ради того, чтобы услышать его просветляющие разъяснения.
Так вот, в тот раз знакомством всё и ограничилось. Но через день, пока нелёжкая девичья память ещё свежа, мы снова повстречались с Катей Кузовковой. И снова будто невзначай. Стоял ясный жёлто-зелёный октябрь, я шёл от Лермонтовского по Декабристов к Театральной, она – от Театральной к зоомагазину. Открывать торговлю. Столкнулись нос к носу на мосту через Крюков канал. У меня была легенда: навещал мать, которая живёт неподалёку – в «Доме-сказке». (Хотя на самом деле я жил с родителями на улице Жуковского.)
Да, вот ещё. Тут надо бы сказать… Есть у меня такое наблюдение. Когда вы с девушкой вдвоём, выкаблучиваться, строить из себя того, кем не был и не будешь, – только портить дело. Будь собой, таким, каков ты есть, без лицедейства. И говори, что думаешь. Будешь собой – тебя или примут, или нет. Ты никого не сможешь разочаровать, поскольку никем другим не представлялся. А вот очаровать… очаровать искренностью слов очень даже возможно. Фальшь же всегда не к месту, если только не имеешь дело с полной дурой. Даже хорошо сыгранная (если возможно фальшь хорошо сыграть), она даст душок – и всё равно откроется. А простодушие с наивностью – простятся.
Тут такое дело: говоря с человеком начистоту, от сердца, ты как бы открываешь дверку в заветное, туда, куда обычно не пускают. В пещеру Али-Бабы, полную доверчивых и ранимых чувств. Или просто показываешь детский секретик, который девочки мастерили раньше в земле под стёклышком. Помнится, было такое в дворовом детстве… И получается, что у вас сложилась общая на двоих и со стороны никому не видная тайна. Небольшая, но – повторяю – общая. Это сближает. Вот это тебе доверили, а стало быть, могут доверить много что ещё… Такая перспектива – притягивает, манит. Вот так же поступила Катя, высказав мне свои наблюдения о свойствах дождя. И я почувствовал, что меня впустили в заповедный край, о существовании которого другие, с ней незнакомые, ведать ничего не ведают. Они не ведают, а я… а я допущен. Короче, отворив перед кем-то мир своего простодушия, ты допускаешь собеседника к себе, в свой скрытый погребок, по сути – в самого себя. С учётом рокового различия полов, это чревато многими последствиями.
Знаете, как манком-свистулькой подманивают птицу? Селезня или рябчика? Некоторые слова действуют на людей похожим образом. Особенно на женских. На женских людей. Но и на нас, зубров, конечно, тоже действуют.
«Люблю тебя», или «без тебя мне свет не мил», или «все мысли только о тебе», – это тяжёлая артиллерия. Иной раз срабатывает как наживка в капкане – р-раз, и вы оба в клетке. Но если действовать умело – вещь надёжная. Опасно, спору нет. Тем более, как поведал нам Данте, за лживые любовные клятвы сидеть грешнику вечно в вонючей жиже выгребной ямы, то и дело ныряя туда с головой, – как при жизни рот плутов любви был полон сладкой лжи, так после полон смрадного дерьма. Такая участь постигла Таис Афинскую в восьмом круге Ада, и чем мы будем лучше, последовав её примеру?
Есть манки с другим, менее роковым свистом: «не думал, что смогу ещё чему-то удивиться», или «я много в жизни повидал, но ты такая…». Вздор, конечно, однако же работает.
А есть совсем простые заклинания: «глупышка», или «свет мой ясный», или «голубка», или «госпожа хозяйка», или вот это – «цветочек аленький». Вроде бы чепуха, пустяк, – а сердце тает…
Некоторые скажут – чушь собачья, давно уже словам нет веры. Скажут – и обманут. Сами как миленькие поведутся на эту дудочку. Если подумать: чтобы судить о замыслах, поступках, побудительных мотивах – требуется их взвесить, оценить. А все оценки состоят из слов. Из слов – и только.
– Саша, здравствуй! – увидев меня на мосту, Катя улыбнулась во всю свою щекастую мордашку. – Помнишь, с Емелей в зоомагазине?.. Нож от мясорубки наточил?
– Помню, конечно, – я тоже улыбнулся. – Спасла сахарного человека от потопа… Такое забывать нельзя. Память – главное, что у нас есть. На неё надежда.
– Главное? – Она была настроена на лёгкий тон, на шутку, – и не ждала серьёзных поучений. – Всего-всего главнее?
– Зануда уточнил бы: после совести. А если нет совести, тогда… А у кого она сегодня есть?
И я впустил её в свой погребок.
– По правде говоря, – признался я с задушевным видом, как всё на свете повидавший многомудрый пень, – память – единственное, что для человека важно. Просто туда не надо брать… хлам и мерзость. Понимаешь? Пусть она будет доброй, чистой, светлой… Только такая память – вечная. Потому что память – это, Катя, и есть… другого слова не найти – любовь. В широком, то есть, смысле – мать, родина, друзья… Ну, и любимый человек, конечно. Я храню там – только тёплое, то, что греет, как собачий свитер, как солнышко весеннее, как ласковое слово… Только это. И в памяти моей – тепло. Разве не в этом счастье?
Кажется, я испугал её. Во всяком случае, она насторожилась. И впрямь, мы были ещё не настолько близки, чтобы открывать друг другу исповедальные глубины. Да и само соображение было сомнительного свойства. Случаются такие мысли, громоздкие и тесные, вроде того, как жить не по лжи, где взять деньги, бывает ли любовь чистой… Стоит заговорить об этом – и такое создаётся впечатление, будто загоняешь фуру в переулок, где потом мучительно пытаешься вырулить и развернуться.
– Впрочем, – я обратил исповедь в шутку, – с вечной памятью – это я погорячился. С годами к нам приходит не только опыт, но и герр Альцгеймер.
– Стало быть, я тёплая? – задумчиво спросила Катя; на лице её отражалось любое движение чувств: удивительно, но при её полноте, в своём жировом скафандре, она была словно бы прозрачной.
– Тёплая, – кивнул я.
– Как собачий свитер?
– Как ласковое слово.
На её тугих щеках полыхнул румянец.
– Ты была права: дождь на окраинах действительно другой, – снимая напряжение, я напомнил ей о прошлом разговоре. – Вчера ездил на Гражданку в гости – так там дождина мне хамил, задирался, в драку лез… Еле отбился.
Смех у Кати был звонкий и заразительный.
– И нож наточил, – соврал. – Куда же я без маминых котлет!..
По Крюкову каналу плыла пёстрая палая листва. Рядом громоздилась певучая Мариинка, напротив которой, через тёмную воду, в ту пору ещё не сложили кубик Второй сцены взамен ампирных колонн и башни сталинской «Пятилеточки»… Пару минут всего и поболтали – а, попрощавшись, разошлись приятелями. Легенда про мать из «Дома-сказки» осталась невостребованной.
И хорошо. Поменьше б нам в жизни вранья.
В следующий раз мы повстречались спустя дня три-четыре. Над пыльным городом светило вечернее солнце, по остывающей лазури плыли мелкие облака, будто кочевала голубыми степями в белых кибитках небесная орда. Катя в уличном ларьке у «Чернышевской» покупала сникерс, а я… как водится, делал вид, что здесь случайно. То есть нет, не случайно. Оказалось (какая неожиданность!), мы оба идём в гости к Емельяну, который недавно переехал в новую нору – съёмную комнату в коммуналке на Радищева. По этому поводу затеяна пестринка, что-то вроде новоселья.
Подивившись вслух высокой концентрации счастливых случаев, ставших причиной наших частых встреч, я принятым порядком поинтересовался:
– Как поживаешь?
– Честно, но бедно, – ответила она с достоинством. – Кручусь как штопор. Так людоед один сказал. И куда только деньги деваются…
– Не пилось бы, не елось, никуда б и не делось. – Подумал с опозданием, что заявление рискованное.
– А как твои дела? – спросила Катя.
– Блестят. Не стоит ли поостеречься, – кивнул я на ореховый батончик. – Чтобы быть принцессой, девушкам мало одной внутренней красоты. А ты, Катюша, если… – замешкавшись, я призвал на помощь классика, – тебя сузить, чудо как мила.
На лице её отразилось такое искреннее страдание, что я на миг усомнился в правоте нашего с Красоткиным дела. Думал, сейчас пошлёт меня, куда и следует. Что мне до её романа с булочками и шоколадными батончиками? Я кто ей? Кум, сват, брат? Никто и звать никак. Но не послала. Напротив – одолев внутри себя несчастье, смутилась, и снова на щеках полыхнул румянец.
– Прости, – сказал я. – Вечно сую нос куда не надо. Когда-нибудь прищемят.
– Пустяки. – Катя положила сникерс в карман широкого плаща. – Уже привыкла. Если и скажут комплимент, то лишь на вырост… То есть, наоборот – сперва нужно отсечь от этой глыбы всё лишнее, – она провела руками вдоль пышных боков, – чтобы соответствовать любезности.
– А в чём дело? – Я проявил осторожный интерес. – Неправильный обмен веществ?
– Правильный обмен – такой, как надо. Меня родители к врачам водили, – Катя боязливо улыбнулась, словно опасаясь спугнуть воспоминание. – Я ведь не всегда была такой… Когда-то и талия своё место знала, и ножки как точёные… – («И талия» так произнесла, будто помянула страну-сапожок, – отметил я про себя.) – В шестом классе влюбилась по уши. До чёртиков. Самозабвенно. Как может только невинная девочка влюбиться. И он тоже… Гуляли вместе. Дразнилки сыпались со всех сторон: тили-тили-тесто… Когда он меня бросил – всё как отшибло. Будто о злое веретено укололась – сделалась совсем другой. Словно подменили. Распухла, все девчоночьи мечты – коту под хвост. С тех пор – такая. – Она посмотрела мне в глаза с внезапным вызовом. – Но как же дальше-то? Ведь я хочу любить!
Вот так раз! Сочувствие моё было искренним:
– Катюша, цветочек аленький, да кто же запретит тебе…
Ответа не последовало.
Возле кафешки с игральными автоматами, щетиня бритые затылки, дымили табачком два быка в тренировочных костюмах. Тогда многие почему-то ходили по городу как физкультурники – в трико на резиночках…
Странное было время – дурное, чёрное, задорное, взрывное. Смута. Такая, что ли, революция наизнанку – революция стяжания. С одной стороны – фейерверк творческих энергий, самовыражайся как в голову взбредёт, концерты, выставки, вечный праздник в сквотах художников и музыкантов. С другой – все, кто не исповедовал барыш и силу, оказались лишними, только косточки трещали в этой давильне. А вслед за тем и паладины корысти стали жрать друг друга… Умом это понятно, а вот поди ж ты: разворошил, казалось бы, осиное гнездо памяти, а вспоминается не то, не гнойное и злое, повылезавшее из всех щелей, – а брызги молодости, озорной её задор. Как же ещё, раз мы туда, в память, кладём лишь тёплое?
Перешли с Катей на зелёный свет светофора Кирочную и двинулись по улице Восстания к красавцу-особняку братьев Мясниковых. Тогда, до реставрации, он был красив особенной, предсмертно-гордой красотой, которая, как правильно Емеля говорил, не истребится и в руине.
Конечно же, она была права. Подспудно я думал так же. Что толку ей любить, если в ответ – недоумение, испуг или злая насмешка? Есть, правда, тут одна загвоздка… Не знаю, как для пузырика, но для многих женщин любовь – не цель, не счастье обретённое, а только средство обрести его – желаемое счастье. Счастье семейной жизни. Как будто в этом замкнутом сосуде оно, счастье, будет поймано и запечатано навек, как ананас в сиропе – только тягай его оттуда ложкой! С чего бы это? Семейная жизнь – не консервная жестянка, не пожизненный компот…
Хотела ли Катя любить, или видела в любви только средство, – вопрос. Для того, чтобы разрешить его, надо было глубже увязнуть в отношениях, а мне и без того затея с этим искренним и симпатичным (на вырост наоборот) пузыриком – ну, чтобы она прельстилась мной, – была не по душе. Впрочем, как я понимал, в план Красоткина глубокое, так сказать, погружение тоже не входило.
В гости к Емеле мы явились вместе, как парочка – гусь да цесарочка. Там был ещё какой-то длинноволосый художник Василёк (так представил его Красоткин) с бледной подружкой (глаза навыкате в обрамлении синих теней) и крепкий угрюмый поэт, похожий на человека, чьи угрозы сбываются.
В гостях я вёл себя как кавалер – следил за Катиным бокалом, занимал беседой, сыпал корректные остроты. Она не раз отметила моё внимание благодарным взглядом.
Подружка художника, говорившая так быстро, будто шинковала морковь на тёрке, оказалась из числа тех людей, рядом с которыми иметь собственные проблемы было неприлично. Список её недугов, о которых она со скорбным наслаждением рассказывала, тянул на карманный медицинский справочник. Плюс, конечно, житейские ужасы: тирания отца, старшая сестра – психологический садист, одноклассники и одноклассницы – подлые крысята, сокурсники по институту – насильники и психопаты. Есть такие странные создания, в бедах которых всегда виноваты другие. Словом, если бы в ту пору был запрос на литературу травмы и возьмись она за перо – имела бы успех. В какой-то момент я даже подумал, что Емеля примет девицу на заметку в качестве объекта тайной опеки. Впрочем, после решил, что здесь справится и сам художник – напишет с неё Юдифь, перерезающую глотку психопату-сокурснику, тем сердце её и успокоится. Главное, побольше крови.
Длинноволосый художник и вправду, похоже, был смышлёный – ловил шутки на лету, брал и сам посылал подачи в застольном разговоре и время от времени, убирая спадающую на глаза чёлку, по-доброму, необидно подкалывал бледную жертву жизненных обстоятельств: «Заморыш мой ненаглядный…». Запомнилась рассказанная им история: оказывается, одна из картин Пита Мондриана более полувека экспонировалась на выставках, а потом висела в музее Дюссельдорфа вверх ногами. Немудрено: геометрическая абстракция была исполнена на холсте полосками цветной клейкой ленты – не то что Малевич, сам Пифагор не отыскал бы, где у неё низ, где верх.
Угрюмый поэт время от времени острил одной и той же прибауткой: «Не болтайте глупостями». После чего надолго погружался в напускную созерцательность – за беседой-то всё-таки следил.
Сам Красоткин выступил образцовым хозяином – выдал тапочки, да и на столе были не только сухое красное и водка, но даже пара колбасных нарезок, сыр и вяленые щупальца кальмара, которые Катя-пузырик тут же перекрестила в щупальца кошмара (поэт, показалось мне, моргнул, впрок запоминая зловещий образ).
– Если мы решим в чём-нибудь разобраться, – вещал Емельян, – например, в неразборчивом…
Восполняя утраты, я плеснул в Катин бокал пино-нуар.
– Бургундское, – сказал пузырик. – В Бургундии пино-нуар – козырный сорт.
– А я вина чего-то опасаюсь, – доверился я ей негромко, как бы только между нами.
– Водка не такая страшная? – спросила Катя.
И тут я тоже показал, что при нужде смогу отыскать Францию на карте:
– Как выпью бургундского, сразу вспоминаю «Трёх мушкетёров» – и хочется кого-нибудь проткнуть шпагой.
Катя хорошо рассмеялась. Как-то счастливо, с полнотой чувств. Подумал даже, что я такого смеха не заслужил.
– Стыдно, – признался ей.
– Отчего?
– Красуюсь, как петух, гарцую…
– Не страшно, – успокоила она.
Но я уже отворил дверцу в погребок:
– И ладно бы красовался и делал дело, но делал бы и говорил своё… А то ведь всё… все труды и речи – всё взято со стороны, сдёрнуто по крохам у других, будь то живые люди или книги. А где же я? Где настоящий я? Ау! Ужасно сознавать, что никакого настоящего тебя и нет, ужасно…
Я по-прежнему говорил негромко, только Кате. И заработал в ответ долгий изучающий взгляд.
– Вот пластиковый бак, – вещал Емеля, играя пустой рюмкой и развивая мысль, зачин которой я прослушал, – он лёгок, его нетрудно перенести, подвинуть, его может опрокинуть ветер. Но наполни его водой – и он отяжелеет и упрётся. Так же и человек… – Красоткин со значением взглянул на Катю. – Подчас он не противится ни внешнему влиянию, ни собственным желаниям в виде… соблазна сладкой булочки или чего-нибудь похлеще. Но стоит любви наполнить человека – и та уже не позволяет ему сдать позиции: он тяжелеет, он упорствует, он стоит на своём. Это хорошая, вдохновенная тяжесть – так сказать, весомость самой жизни, спуд неодолимых природных чувств. Не будь в человеке тяжести любви, он был бы человеком перелётным. Как саранча. Как птицы, которые норовят свинтить по осени из мест, где родились. Те, кто знает – куда.
– Но есть ведь и другие наполнители, – художник Василёк рвал зубами щупальце кошмара. – Зависть, мнительность, страх…
– Да, – согласился Емельян, – бывает, что и страх наполнит… Но если страх вольётся в человека, он не воодушевит его – он его просто-напросто придавит. Придавит и обездвижит. Тяжесть страха – плохая тяжесть. Много чего могли бы сотворить люди, если бы их не подминали опасения.
Вот чем мне нравился Красоткин – аргументы у него никогда не иссякали.
– Не болтайте глупостями, Емельян, – вышел из спячки поэт. – Страх движет миром. И зависть. Зависть тоже им вовсю ворочает.
– Алёша у нас со всеми на «вы», даже с собственной кошкой, – дал для нас с Катей разъяснение художник; мрачного поэта звали Алёшей.
– Вы, господин Василёк, метлу-то придержите, – невесть на что обиделся поэт Алёша. – Я человек городской, я в дикой природе василёк от цикория не отличу. И кто там из вас сорняк, мне по барабану.
– Угроза? – бесстрашно принял вызов художник.
– Вроде того, – поэт угрюмо кивнул.
– Напугал белку орехами. – Взгляд у Василька был решительным. – Время – единственное, что ты способен убить. Хочешь исполнять соло для одинокой шутки – валяй. Но здесь у нас вообще-то хор. А гармония хора – в различии голосов.
– Вот те раз! – Красоткин сгладил зреющую на ровном месте ссору. – Даже с кошкой на «вы»! Про кошку я не знал.
– Нет, не со всеми на «вы», – сдвинул брови Алёша. – Я с Богом на «ты». А остальных от Бога отделяю. Вы хотите, чтобы я вас вровень с Богом поставил?
Сказать тут определённо было нечего. Тут надо было помолчать.
Присутствующие, даже подружка художника, под завязку отягощённая претензиями к реальности и медицинскими подозрениями в отношении своего молодого организма, посмотрели на поэта с недоумением и досадой.
– Интересно, какие сны видят слепые от рождения? – прервал затянувшуюся паузу Емеля.
Раздор так и не вызрел – рассосался.
– И часто у вас так? – шепнула Катя мне в ухо.
– Как? – шепнул я в ответ.
– Часто такие конфликты случаются?
– Какие конфликты? – удивился я. – Мордобои бывают, а конфликтов у нас нет.
К концу застолья мы с пузыриком уже несколько раз касались друг друга – вроде бы невзначай, но одновременно с трепетным значением. И слова – невиннейшие слова! – сказанные мною ей и ею мне, сами собой вдруг обретали какой-то волнующий подтекст. А ведь единственное, что я себе позволил, – это всё тот же безобидный «цветочек аленький»…
В коридоре и прихожей витал кислый запах старости: в коммуналке, кроме Красоткина, жили ещё два божьих одуванчика, две ветхие бабуси – одна сухая, как прошлогодняя былинка, торчащая из-под снега, другая в вялом теле (видел их на кухне в затрапезе). Из приоткрытой двери в комнату сухой соседки доносились крики братвы и отважных ментов, рвущихся в квартиру через экран телевизора. Прощаясь с Красоткиным в прихожей, Катя деликатно прижала к носу надушенный платок, защищая нежное обоняние.
По закону жанра я должен был Катю проводить. И проводил, конечно.
Пока ехали в метро, она рассказывала о себе. С юных лет была очень правильная: обмануть ожидания окружающих – это невозможно, нельзя никого подвести, нельзя нарушить слово, не исполнить обещание, нельзя врать, подслушивать, брать чужое, опаздывать… Вот бы ещё стать принцессой и всех вокруг в себя влюбить… Но если не выходит, то и ладно.
– Вообще я из тех людей, – призналась Катя-пузырик, – кого в хамстве и грубости больше всего пугает шум. Если бы те же самые гадости жизнь шептала мне на ушко, я бы чувствовала себя спокойнее.
Она жила у тётки на улице Решетникова, недалеко от метро «Электросила», в монументальном сталинском доме. Там, в тёмной гулкой парадной, мы поцеловались. Подозреваю, что был неловок (я обнимал её, необъятную, и её грудь – серьёзная преграда – упиралась в мою, так что мне пришлось вытягивать шею вперёд, к её губам, будто между нами была подушка), – но получился жаркий, очень жаркий поцелуй.
Из кармана своего широкого плаща Катя достала сникерс.
– Возьми, – протянула мне, поднимая взгляд, полный влажного огня. – Это теперь не самое желанное.
Внутри меня, в переполнявшем моё существо тёмном смятении, вдруг что-то вспыхнуло и содрогнулось – так молния внезапно рассекает грозовую тучу. Захотелось выглянуть на улицу, проверить: вдруг в мире сдвиг какой произошёл – свернулись свитком небеса, и из гробов уже восстали мёртвые…
– Эй, алё, приём… заснул?
В сумраке парадной Катино лицо светилось.
4. Светлая энергия
В тот вечер подумал: какой я, к чертям собачьим, рыцарь тайного добра? Я даже не мелкий жулик, я – подлец каких мало. Почему? Да потому, что из гулкой парадной на Решетникова поехал прямиком в картинную галерею на канале Грибоедова, где подрабатывал в ту пору ночным сторожем (не хотел сидеть на шее у родителей, к тому же полученных от них карманных денег в «Блиндаже» хватало разве что на стопку коковки, а как известно, пятьдесят граммов за ужином – не только полезно, но и мало), охраняя вовсе не живопись, а, скорее, оргтехнику: ксерокс, принтер, сканер и пару компьютеров с массивными мониторами (жидкокристаллические ещё не вошли в обиход).
Тут надо обернуться в прошлое.
Однажды хозяйка галереи Анна Аркадьевна, решительная женщина богемного круга, праздновала именины у себя в квартире на Мойке. Я тоже был приглашён. Думаю, случайно – просто подвернулся в галерее под руку.
Помнится, удивился, когда дома у Анны Аркадьевны обнаружил живую обезьяну. Какая-то мартышка, должно быть, – подробностей об этом племени не знаю. Она была на цепи – сидела в комнате на сундуке и от нечего делать этот сундук разбирала. Хороший старинный сундук с оковкой и резьбой. Обезьяна его колупала, скребла, вытаскивала гвоздики. (Говорили потом, кончилось тем, что от антиквариата ничего не осталось – разобрала до щепочки.) Мартышка эта отличалась крайней эмоциональностью: смотрела со своего сундука на тот бардак, что происходил вокруг, вертелась, взвизгивала, скалила клыки… Впрочем, к делу это не относится. Просто в доме была обезьяна. А ещё были на именинах фотографы (один невысокий, с бородкой, в круглых очках; он умер той же зимой – впоследствии я догадался, что это был Смелов, легендарный Пти-Борис), дизайнеры, два театральных режиссёра и, кажется, какой-то муниципальный депутат. Ну, и несколько девиц. Хотя обезьяна запомнилась больше всех.
Я за столом хорошо выпил. До того хорошо, что приобнял и потрогал в коридоре одну девицу. Мартышка на сундуке увидела – и прямо в акробатический пляс пустилась. Но я не оправдал обезьяньих ожиданий: так просто приобнял, безо всякой перспективы. В конце концов, не для того здесь собрались. Из коридора снова отправился к столу.
Наверно, я бы забыл этот случай, но потом, спустя довольно короткое время, звонит мне вечером в галерею эта девица, которую я трогал в коридоре, и говорит:
– Анна Аркадьевна дала мне телефон, где можно тебя найти.
– Прекрасно! – отвечаю. – Ты хочешь что-то мне сказать?
– А что, если я к тебе приеду?
Подумал: вроде, от дел не оторвёт, поскольку неотложных дел у меня нет, – а нежности по той поре в организме столько, что хлещет через край.
– Давай, – говорю ей, – приезжай.
А я и как звать её не помнил.
Сижу, сторожу. К ночи дело. И тут – звонок в дверь. Открываю. Стоит мужик. Я говорю:
– Здравствуйте. Вы к кому?
– К тебе.
– А какой вопрос?
Он говорит в рифму:
– Гостей привез.
– Где?
Он руку протянул – смотрю, у тротуара, присыпанного снежком, такси, и дверца открыта, а там, внутри, сидит эта девица.
– Что же она не выходит? – спрашиваю.
– Так она пьяная в дым.
Ну, я извлекаю её из машины, а она тащит с собой здоровенный пакет. Оттуда торчит горлышко бутылки коньяка, и всё остальное, что требуется, там тоже присутствует. Я её, значит, забрал – с таксистом она, оказывается, расплатилась, только сама вылезти не могла. Проходим в галерею. Она, пьяненькая, садится на диван в диванной (так называли один из залов, где стоял диван, на котором сторож отдыхал).
– Ты не знаешь обо мне самого главного, – говорит девица вместо «здрасьте». – Меня зовут Ани Багратуни.
– Очень интересно. А я – Саша.
– Дело в том, что я армянская княжна. Я дочь родовитого семейства, и у меня братья – бандиты. Зарежут за меня любого.
– Хорошее, – говорю, – начало. И что ты предлагаешь?
– Выпить.
После чего, покопавшись, достаёт из пакета бутылку коньяка. А этих бутылок там – штуки три, не меньше. Потом закуски появились…
Выпиваем, а она всё чешет как сумасшедшая: княжеский род, ля-ля-ля, принцы Армении, ля-ля-ля, дом Багратуни, ля-ля-ля… Потом спрашивает:
– Ну что, понравился тебе коньяк?
Я говорю:
– Нормальная вакса.
– А закуска?
– И закуска соответствующая.
– Ну, раз так, приступим к сладкому.
И снимает с себя футболку и джинсы…
Когда сладкого наелись, она привела себя в порядок, и мы ещё немного выпили. А в меня, признаться, коньяк этот уже не лезет. В конце концов удалось её как-то выпроводить.
Так бы и осталась княжна эпизодом, но неожиданно эта история получила продолжение. Через смену-другую опять звонит в дверь таксист и говорит: «Забирай, к тебе приехали». Та же притча: опять она на кочерге с таким же пакетом, полным коньяка и всяких яств. Ну, и сама – на сладкое…
Не то что бы у неё были какие-то чрезвычайно выразительные, как у горной козочки, глаза, божественная грудь, как у Елены Прекрасной (по форме грудей спартанской царицы изготовили чаши для алтарей храма Афродиты), и непревзойдённые лодыжки, но в целом – ничего себе девица, вполне достойная внимания. Как всякая армянка, она была в восторге от поглаживаний. Очень ей нравилось, когда её тело трогают, – приходила в совершенное восхищение.
Какое-то время так и продолжалось – не сплошь, иной раз с перерывами недели по две, – должно быть, год без малого. А потом это стало меня доставать. Не очень я люблю пьяных девиц, да и выпивать иной раз – ну, категорически не хочется. Да ещё этот коньяк… Я его всегда терпеть не мог, а тут лакаем как зарезанные. Да и уши уже вяли от её рассказов о своём княжении, о том, какие у неё братья. Мол, они её и холят, и лелеют, и содержат, так что она никогда в жизни нигде не работала – ведь с такими братьями нет смысла работать. Потом сообразил, что и симпозиумы наши, выходит, оплачивала какая-то армянская братва… Но уточнять не стал.
Словом, Ани Багратуни произвела на меня сильное впечатление. Не скажу точно, сколько раз её таксист привозил, но, как писал классик: достаточное число…
Одновременно стремительной пружиной развёртывался ещё один сюжет (уже упоминал, что по той поре сложились сразу две лирические истории – об этом и речь). Незадолго до знакомства с княжной меня на концерте «Колибри» в клубе «Fish Fabrique» свела судьба с одной скромной девочкой. После весёлого представления я позвал её с собой в галерею, а по дороге мы заглянули в кулинарию – надо же и тело питать: винегрет, говяжий отварной язык, два пирожка с яйцом и зелёным луком…
– А что ты покупаешь? – спросила она. – Мы с тобой это лопать будем?
– Будем.
– Ах вот как! – и ещё крепче взяла меня под руку.
Её почему-то звали Жанной; не очень популярное в ту пору имя.
Прямой тонкий нос, узкий подбородок, живые серые глаза. Миленькая такая, миниатюрная шатенка, волосы всегда с блеском… Тоже звонила в галерею, спрашивала: «Ты очень занят?». Обычно, если княжны рядом не было, я честно признавался: мол, нет, какие могут быть дела важнее нашей встречи. «Тогда я еду», – сообщала. И уж если она приезжала, то не за тем, чтобы вешать на уши лапшу, а чтобы заниматься делом. Была, правда, у неё одна особенность, которую я до сих пор не разгадал. Ей хотелось, чтобы в момент восторга… и в преддверии его… и вообще всегда… Словом, чтобы вокруг была какая-то особая торжественность – ковры, шелка, Чайковский с Пуччини, и чтобы чёрные евнухи её обмахивали опахалами из страусовых перьев. Что-то в этом роде. Я ей говорю, что с евнухами будут сложности, а ковры… Вот плед, который на диване под тобой, – только это.
Такая была эта Жанна. И вместе с тем – не дурочка, совсем не дурочка. Кино смотрела и много про него читала. Находила в нём какой-то толк, вникала в нюансы. Кажется, метила в режиссёры.
К чему я? А к тому, что разрывался. Две эти истории мешали друг другу, вносили в мою жизнь нервозность, всякий вздор, враньё и беспорядок. Надо было определяться. А тут ещё Катя-пузырик, тайное милосердие… Говорить можно что угодно, но, как правило, люди куда больше нуждаются в комфортном убежище, в собственном тёплом угле для ночлега и жизни, нежели в романтической, но холодной и беспокойной свободе неба, волн и ветра. И избыточных увлечений. Из озорных и волнующих кровь, они, эти увлечения, тоже довольно скоро становятся холодными и беспокойными. И уже не увлекают. Наоборот – виснут обузой, душат. И хочется от них бежать в покой или куда подальше.
Когда в тот вечер, проводив Катю, я приехал в галерею сторожить имущество, таксист как назло доставил гостью – Ани Багратуни с её неисчерпаемым пакетом. Теперь точно не скажу, чем было вызвано моё раздражение – её ли бесконечными рассказами о княжеской судьбе и братьях-разбойниках, или недовольством собой из-за того жаркого поцелуя в парадной, многообещающего поцелуя, который, как мне прекрасно было известно, не мог иметь продолжения, – но я твёрдо решил, что с армянской принцессой пора завязывать.
Вот почему написал, что я – не мелкий жулик, а подлец каких мало. Потому что не о ней думал, не о княжне, как следовало бы ступившему на совиную тропу. Я думал о себе – определённо тут именно я нуждался в милосердии. (Какая только чепуха не заведётся в голове под музыку досады и уныния!)
Собравшись с духом, я сказал:
– Познакомь меня со своими братьями.
– Зачем? – удивилась она.
– Хочу жениться на тебе. Попрошу у них твоей руки.
В ту ночь за десертом она свела разговор к шутке, но, забегая вперёд, скажу, что расчёт оказался верен – по счастливой случайности мы больше никогда друг друга не видели.
Красоткин тем временем развивал и двигал на все четыре стороны теорию тайного добра.
По сути, я – Парис – даю барышням то, чего они желают, рассуждал Емеля. И в этом тоже есть нечто от милосердия – какая-то его крупица. Но вершины мастерства идущий по совиной тропе достигает тогда, когда от нужд взывающих о помощи переходит к нуждам тех, кто ни о чём не просит. Ведь если человек не просит, это вовсе не значит, что он не обездолен. Он просто горд, или кроток, или празднует смирение, или силён той силой, которая позволяет ему держать свою нужду в узде внутри себя и не пускать наружу (что, по существу, то же смирение), но на деле он всё-таки взыскует – удачи, похвалы, внимания или того, о чём сам не догадывается, но о чём догадывается тайный покровитель. И в этом случае скрытно творимое добро имеет зачастую лучший результат из тех, на которые возможно рассчитывать, – хотя бы потому, что тут милосердие не ограничивает самостоятельность нуждающегося, но не просящего о помощи, а наоборот, содействует обретению им внутренней уверенности в своих возможностях.
– А что это даёт тем… ну, другим… не молча нуждающимся, а творящим тайное добро? – спрашивал я Красоткина. – Ведь если даже чёрту требуется поощрение, чтобы пакостить, то доброхот тем более вправе ожидать какой-нибудь награды.
– Когда ты исполняешь тайные или явные желания своих прелестниц, разве ты остаёшься без награды? – коварно изворачивался Емельян. – Разве не знаешь, на какой полке ждёт тебя пирожок?
Потом он всё же пояснял, вновь возвращаясь к тому, о чём говорил прежде: скрытое милосердие даёт такую настройку чувств, какая редко бывает доступна человеку. В частности, речь о вибрациях, которые ты теперь способен уловить. Уловить – и, как живая мембрана, срезонировать им в тон. Например, ощутить вибрацию тайного братства, к которому отныне принадлежишь и сам. Ведь если ты увидел результат собственного дружелюбного, но анонимного вмешательства в чужую жизнь – пусть даже масштабы этого вмешательства, как и его результат, смехотворны, – ты словно бы обретаешь иной взгляд на мир, на людей, на их историю. Многие события и свершения видятся уже как бы в ином свете. Ведь как обычно происходит: тот, кто может, увы, не делает, а тот, кто не может, к превеликому сожалению изо всех сил демонстрирует, как именно он не может. И тем не менее жизнь продолжается, история движется, свершения свершаются. Почему? Теперь ты понимаешь, поскольку можешь разглядеть, так сказать, недостающую массу, неучтённую тёмную энергию с отрицательным давлением, которая в действительности – энергия светлая, и давление её – положительное.
– Зачёт! – Я беззвучно хлопал в ладоши.
Емеля продолжал. И вот ты перебираешь имена: Ломоносов, Воронихин, Достоевский, Саврасов, Куинджи, Фет… Да мало ли их! Перебираешь – и тихо так сам себе улыбаешься. Потому что понимаешь, что не с тебя всё это началось, что дела твоего тайного ордена тянутся в седую даль столетий! Что всё это время, состоя из людей, возможно, совершенно не сведущих друг о друге, он, этот орден, незримо трудился! Где ещё, скажи на милость, найдёшь ты пример столь яркого проявления свободы воли человека? Столь очевидного её подтверждения? Ведь никто не отдаст тебе поручение и не взыщет за провал дела. Более того – никто не похвалит и не отметит проявленного тобой усердия. Ни личной благодарностью, ни пометкой в исторических хрониках. Воистину горизонт твоей свободы простирается в запредельную даль! Разве не так? Тайное благодеяние – незримый и неслышимый мотор нашего мира, мощная подземная река, питающая колодцы в человеческой пустыне!
– Замысел размашистый, – оценивал я речь Красоткина. – Он требует от исполнителей беззастенчивой уверенности в своей моральной и интеллектуальной мощи. А также в силе прочих добродетелей. В глубине их бездны.
В ответ Емеля засвистел как птичка. Мелодию я не узнал, но она была счастливая.
Мы стояли под аркой галереи Кваренги на свежем ветру позднего октября, летевшем с Невы и подхватывавшем невесомые брызги трусящей с неба мороси; истёк очередной учебный день.
– А что с Катей? – спросил я. – Может быть, хватит дурить ей голову?
Со времени новоселья, закончившегося нашим с пузыриком поцелуем, уже прошло дней десять. За это время мы виделись с ней только дважды мельком на улице (снова организованная случайность) – она была с подружками, а я – одинок, приветлив, но холоден. Так было нами с Красоткиным задумано.
– Согласен, – Емельян кивнул. – Миссия закончена. Теперь всё зависит от неё.
После чего достал из кармана куртки и протянул мне конверт.
Это сейчас бумажное письмо отсылает нас к ветхозаветным временам и пушкинской Татьяне. А между тем в ту пору, о которой речь, на просторах русской равнины с её неброской красотой только-только стали расцветать бледными цветами экраны компьютеров, да и те ещё без электронной почты (когда появится, её назовут емелей), так что конверт с письмом тогда совсем не выглядел дремучей дикостью. Про мессенджеры нечего и говорить – они в те времена вообще проходили по ведомству фантастики.
Итак, конверт. А в нём письмо. Оно было адресовано не мне – ему. Но подразумевалось, что этим жестом – дал конверт – Емеля позволяет мне его прочесть.
– Вот, – сказал Красоткин, – сегодня утром соседка нашла в почтовом ящике.
На конверте не было ни марки, ни штемпеля, ни адреса – только печатными буквами от руки написано: ЕМЕЛЬЯНУ КРАСОТКИНУ. Значит, доставил не почтальон.
Я вынул из конверта сложенный лист. Развернул.
Емеля!
Пишу, потому что при встрече не смогу сказать – в прах разревусь, всю жилетку тебе промочу. Но и в себе держать нет сил. Такая вот петрушка… В общем, спасибо тебе. Спасибо преогромное! Ты познакомил меня с Сашей – и, как перчатку, снял с моей жизни кожу. Месяц назад я и представить не могла, что дни мои обратятся вот в это – в такое счастье, в такое пекло, в сладкий ад.
Я не шучу – я в самом деле тебе безумно благодарна! Теперь я каждый день живу и умираю – такого вала чувств я раньше не знала, даже не представляла, что такое может быть. Все прежние влюблённости – смех, балаган, потеха. А тут… Только увижу его – сердце стучит с перебоем и душа впадает в птичий трепет. Только подумаю о нём – и солнце становится ближе, как будто опаляет. Ничего с собой поделать не могу – ликую щенячьим ликованием, и хочется делиться радостью, делать другим приятное. Подарить кому-нибудь что-нибудь. Неразлучникам насыпать лишних зёрнышек. Бородатую агаму угостить тараканом… Вот такая у меня любовь. Хочется совершать поступки – добрые, хорошие поступки. Чтобы всем было радостно. И самой радоваться, что это я, фея Катя, подарила им эту радость… Если, конечно, бывают в сказках феи-пончики. А я теперь как в сказке… Только, подозреваю, в грустной. Но всё равно при том – волшебной, пронзённой чудесным сиянием.
Ты умный, книжки мудрёные читаешь – скажи на милость, разве это плохо? Разве не для этого даётся нам любовь? А мне говорят: он тебе не пара. Как же так? Мне такое говорят, а я жить без него не могу… Так не должно быть. Сил нет, как люблю. Люблю – и стану ему парой! В лепёшку расшибусь, а стану!
Прости меня, голова идёт кругом. Не надо было, наверное, тебе писать. Но только внутри не удержать. Как горлом кровь, хлещет из меня моя любовь. Не буду больше. Пожелай Саше счастливых дней. Ещё раз извини за этот плач – сейчас слёзы сильнее меня. Но ничего, силёнки соберу и одолею… Про смерть мы уже всё поняли – Спаситель объяснил, Ему спасибо, – но что, скажи, нам делать с разлукой? Вот бы нам с тобой глазами поменяться, чтобы я могла на Сашу смотреть, как ты – хоть каждый день.
Невезучая-везучая толстушка с задней парты Катя.
Такой вот номер. Слов не было. Вернее, были, но не те – какие-то нечестные, пустые.
Письмо у меня Красоткин забирать не стал, сказал – мол, ясно же, кому оно на самом деле адресовано. Не знаю… Возможно, кто-то осудил бы его поступок (дал прочесть письмо), но лично я подспудно чувствовал его правоту: не он настоящий адресат. Словом, письмо Емеля забирать не стал, просто поднял воротник куртки, развернулся и пошёл прочь – счастливый, как мотивчик, который он насвистывал.
Он пошёл, а я остался под аркой, потому что не мог осознать нахлынувшие чувства.
Гудел ветер над Менделеевской линией, небо обложили низкие, глухие, беспробудные облака, пахло сырым палым листом, клёны, дубы и вязы за оградой здания Двенадцати коллегий, наряженные в багрянец и охру, нехотя кланялись осени. Пейзаж под стать той музыке, что звучала у меня внутри – и на Емелину трель ничуть не походила.
Будь под рукой бутылка вина, я бы поцеловал её в открытый рот.
5. Стрекозиный художник
С тех пор я много лет ничего не знал о Катиной судьбе. Емельян же, думаю (без всяких, впрочем, оснований), связь с ней на первых порах не обрывал, однако меня держал в неведении.
На следующий год мы с Красоткиным благополучно завершили курс обучения в университете. Дальше – открытый космос нового большого мира, холод невостребованности, жизнь без гарантий и ясных перспектив.
Ещё через пару лет развелись родители, но на обстоятельствах моей жизни заметным образом это не сказалось: отец просто ушёл от одной женщины к другой, не создавая для меня, как сына, проблемы выбора и не претендуя ни на понимание, ни на квадратные метры. Иное дело, что та женщина, от которой он ушёл, была моя мать, – и поначалу она плакала, стоя у окна, на стекле которого образовалось жировое пятнышко от её лба. А слёзы матери простить нельзя, как оскорбление чести. Впрочем, её жизнь и чувства мало-помалу вновь вошли в берега, и она заново обрела страсть деятельности, непоседливость и любопытство к окружающему миру. (Когда она вышла на пенсию, в нашем доме исчезла пыль – от безделья мать убирала квартиру три раза в неделю. Потом в ней окрепла тяга к путешествиям – к середине нулевых страна и граждане больших городов стали обрастать жирком благополучия. К тому же бабушка-покойница оставила ей квартиру на Васильевском, которую мать сдавала, – отличная прибавка к скромной пенсии. Так что при первой возможности мать собирала свой зелёный чемодан на колёсиках и по горящему туру (не шиковала, искала подешевле) отправлялась к чёрту на кулички – в Камбоджу, Эмираты, Турцию, Бразилию, Египет, или на Готланд, Гоа, Кубу, Бали… Весь холодильник облепили пёстрые магнитики, точно короста.) К тому же, всё пухлее становилась тетрадь, куда она записывала комплименты…
Что до меня, то я пробовал найти призвание то на одном шестке, то на другом, не слишком ясно представляя вышний о себе расчёт (для чего задуман и какими путями предстоит брести?), да и был ли он – этот умысел обо мне? Сначала полгода преподавал в школе; быстро понял – не моё. Одна пчёлка на цветке мила – в мохнатой шубке, забавно деловита, но подними крышку улья и загляни – тут страх божий, скорей бежать, пока не изъязвили. Если, конечно, ты не пасечник, не пчелиный бог. Это о школе. Я бежал. Потом работал подмастерьем при менеджере по продажам мыла – не увлекло. Затем попал в команду кандидата в градоначальники – сочинял листовки для почтовых ящиков, изобретал вопросы от избирателей для рекламных сюжетов, типа: как хвост прищемите коррупции и чиновничьему самоуправству? В итоге избрали не того. Да никакого того среди соискателей мандата, собственно, и не было. Потом устроился в контору, штампующую путеводители по всевозможным странам и городам, – отвечал там первое время за достоверность исторических сведений, а после самому доверили состряпать гид по Мальте. В конторе этой, как оказалось, чтобы написать путеводитель, совсем не обязательно было лично исколесить страну по всем углам – достаточно прогулок по справочникам, интернету и расспросов лягушек-путешественниц (в моём случае такой лягушкой стала мать – ей выпал однажды и горящий тур на Мальту). Ну, я и расписал красоты архипелага, где не найти булыжника, который не был бы отмечен историей и овеян ветрами сменявших здесь друг друга в чехарде разнообразных цивилизаций и культур. Всё расписал: от мегалитов и грота на Гозо, служившего пристанищем скитальцу Одиссею, до гостиничного сервиса, среднего чека в ресторане и расписания авиарейсов. Разумеется, отдал должное осаде Мальты Сулейманом Великолепным – вот уж была битва, каких немного припомнит мир! Вот где госпитальеры явили доблесть подлинного рыцарства!..
