Нам не привыкать жить в интересные времена
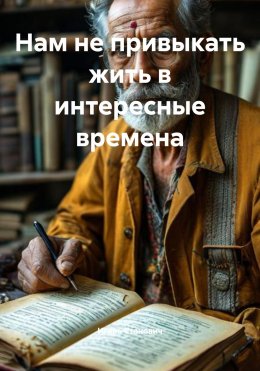
Вступление
Вступление
Это вступление к книге пишу, уже наваяв часть её. Опус получается забавный. Хотел назвать свою нетленку мемуарами, но гордо постеснялся. Во-первых, возраст ещё скромный и есть планы (попрошу Бога не сильно над ними смеяться); во-вторых, она описывает по большей части события и исторические факты, через которые приходилось и приходится проходить нашему поколению и мне лично. К тому же личность я уже давно не медийная, а сейчас известная не самому широкому кругу читателей моих книжек да пациентам, коим мне посчастливилось помочь со здоровьем путём применения методов древней китайской медицины – акупунктуры. И читать сии мои потуги будет интересно скорее тем, кто пережил описываемые времена, а также интересующимся историей и жизнью своих отцов и дедов. Судьба одарила меня множеством интересных встреч в жизни. Столкнула с людьми очень значимыми, некоторых можно назвать знаковыми в историческом плане. Они были и остаются весьма известными личностями в летописи страны, а кое-кто и планеты. Одни из них оставили заметный след, другие были просто популярными. Опять же, как писал я в одной своей биографии, кажется, для издательства ЭКСМО, заказавшего мне книгу про Гоа: «… ведь на долю нашего поколения выпали и хрущёвская оттепель, и брежневские заморозки с гололёдом, афганским градом, и андроповская изморозь, а также горбачёвский ураган межсезонья, и унылые ельцинские грозы 90-х, и распутье медвепутья…». Слава Богу, с распутьем Владимир Владимирович в наше время определился. Страну направил свойственным только ей путём….
Все эти коллизии мы естественным образом пропускали через себя, воплощая в жизнь лозунг: что нас не убивает – делает только сильнее. Память – штука нестабильная, особенно детская, потому я могу иной раз и попутаться в датах и точной хронологии. Однако моя старшая сестра утверждает, что я с детства был уникальным ребёнком (куда всё это делось с годами), например, я начал ходить ещё в полгода. А в десять месяцев произносил осмысленные фразы. Так вот, постараюсь излагать суть как можно ближе к историческим фактам, поменьше использовать художественный вымысел и приукрашивание, то есть быть максимально честным и публицистически точным.
Хотя свойственная моему поколению вредная привычка дружественных отношений с зелёным змием и выкосила наши ряды, я думаю, что остались ещё ровесники, которым будет интересно подержать в руках эту книгу, вспомнить себя и современников, помянуть ушедших приятелей. А тем, кто помладше – удивиться, как мы всё это пережили и до сих пор не являемся пациентами известных больничек. Хотя и с больничками познакомились не понаслышке. Итак, начнём, помолясь….
Немного предыстории
У нашей семьи существует генеалогическое дерево. Со стороны отца оно довольно полное и ведется аж с 1830 года. По маминой линии никто сильно не заморачивался его составлять, вести и поддерживать. Однако часто упоминалось, что её маму и маминых сестёр крестил Столыпин. Пётр Аркадьевич в начале прошлого века губернаторствовал в Саратове. А прадед наш – дед Саша Малинин, которого я тоже застал и даже образ его чётко запечатлелся в моём младенческом мозгу, был настоятелем прихода в деревне Васильково, куда реформатор наведывался на службу, и где они и подружились. Да так, что прадед стал его духовником. Соответственно, моя бабушка была крестницей самого великого Столыпина. С папиной стороны всё гораздо точнее. В самом верху таблицы стоит Петр Шостакович -польский дворянин из Литвы, который реально ратовал за Речь Посполитую. Он принимал участие в восстании 1830-1831 годов, направленного против России, за что и получил по полной. Был сослан на Урал, где и сидел от звонка до звонка. А по завершению срока перебрался в Казань. У него было четыре сына и две дочери. Болеслав стал дедушкой великого композитора Дмитрия Дмитриевича, а Казимир – дедушкой моей бабушки Наташи. Так вот, она и является представителем ближайшего ко мне поколения, которое общалось между собой, то есть с автором великой Ленинградской седьмой симфонии. Далее наши дороги по какой-то причине разошлись. Однако у меня имеется переданная мне на хранение через родителей большая старинная серебряная ложка, принадлежавшая Шостаковичам, которая используется мною по назначению, невзирая на то, что является реликвией, уж больно удобная. Почему она досталась именно мне, вопрос нехитрый, и ответ на него прост. Из всех своих четырёх внуков, а нас в семье было именно столько детей, дедушка с бабушкой больше всех любили именно меня и говорили, что как раз во мне проявились в полной мере наследственность и гены. Именно я являюсь настоящим Ильиным, такова моя фамилия по наследованию и паспорту. А литературный псевдоним Станович я себе сделал уже гораздо позже, выкинув середину из отчества. Папу звали Станислав. Бабушка с дедушкой были преподавателями в Саратовском университете. Дед, Борис Иванович Ильин, служил деканом факультета философии и являлся главным историком города Саратова. Написал несколько книжек на историческую тему о волжских землях. И даже ездил с лекциями по колониям и тюрьмам, коих было в тех местах изобилие. В его доме даже образовался небольшой музейчик из изделий зеков, которыми лектора одаривали начальники зон. Вот какие забавные факты сохраняют отдалённые уголки нашей памяти. Так что дед был в городе человеком известным, а в его лучах и нам доставалось. О дедовой молодости ходили очень впечатляющие истории. Говорили, что совсем юным он создал банду и грабил магазины в городе. А так как являлся инвалидом с детства и передвигался при помощи костылей, то долгое время был вне подозрения. Спалился по молодости и глупости. Будучи навеселе, его «бригада» угнала дрезину. И поехала по заводской узкоколейке в соседний городок. А туда по какому-то случаю должен был прибыть товарищ Сталин. Как полагалось, все подъездные пути взяли под особый контроль… и тут такая пьяная компания, на краденой дрезине… конец двадцатых годов…. На следствие его привезли в Москву, на Лубянку, где в камере он познакомился с генералом из армии Деникина. Которого, кстати, уже после войны встретил на каком-то большом партийном форуме в Москве, тот председательствовал на нём. Им было о чём вспомнить в кулуарах. Живым начинающий и так быстро закончивший с этой стезёй бандит, остался лишь потому, что был несовершеннолетним, к тому же хромым, одна нога короче другой, а его дядя – героем революции, бравшим штурмом Московский Кремль, конкретно Никольскую башню. В общем, сумели вытащить. Эту историю удалось потом замылить. Ну, а далее в биографии деда фигурировали лишь положительные моменты. Даже должность первого секретаря городского комитета Комсомола. Поступил в университет без проблем, ибо был весьма эрудирован. По окончании философского факультета он остался на нём преподавать и даже получил жильё. Отдельный дом прямо на территории учебного заведения, чтобы инвалиду было проще добираться до кафедры. Дом был относительно большой и очень загадочный для меня, мальца. Я любил бывать у деда Бори, когда мы приезжали в Саратов. Во-первых, там была настоящая печь-голландка. Во-вторых, как любимому внуку, дедушка всегда ставил передо мной трёхлитровую банку с чёрной икрой и деревянную ложку, приговаривая: «Вы там у себя такого точно не едали…». А себе наливал полстакана портвейна. Это деда и сгубило. Студенты любили его и часто заглядывали, благо далеко ходить не надо было. А времена были такими, что советский интеллигент идентифицировал себя по большей части компанейским человеком, с большими застольями, неотъемлемыми песнями под гитару, водочкой и рассуждениями о светлом будущем…. Диссидентство началось позже, это уже стало уделом будущего поколения. Дедушка умер рано, не дожив и до 70-ти, от инсульта.
Глава 2
5 февраля 1962 года я появился на свет в роддоме, номер которого не помню. Прописана семья тогда была на улице Цыганская, её потом переименовали в Чапаева, в полуподвальном помещении. Там, кроме меня, ещё жили мама с папой, старшие брат с сестрой, три бабушки, одна из которых родная, то есть мама моей мамы, те самые крестницы Столыпина, их отец, бывший священник, возраст которого тогда приближался к столетию. Помещение было, как мне запомнилось, довольно большим (а может, я был слишком маленьким и так казалось на контрасте) или я сделал такой вывод из рассказов старших поколений, сам-то, вроде, помнить не должен был. Хотя смутные картины и всплывают в мозгах. Дед не то чтобы впал в немилость у коммунистических властей из-за своей религиозной службы, наоборот, его поселили по выходу в отставку вполне комфортно по тем временам. Он сумел собрать воедино всех родственников в доме и избежал самых опасных репрессий тех времён. А времена, сами понимаете какие, бывали в тридцатые-сороковые годы. Дело в том, что будучи известным священником и человеком очень набожным, прадед из человеколюбия прятал у себя в подвале большевиков, когда в город вошли белогвардейцы. Потом, когда красные отбили у них город, в этот подвал переместились господа офицеры. И так происходило несколько раз («…то красные придут, то белые…»), как рассказывала мне бабушка Соня (сестра родной бабушки), воспитавшая меня и моих сестёр с братом. Это являлось в семье её обязанностью, так как родная бабушка Нина всю жизнь где-то работала, а старшая, Сима, наоборот, никогда к работе не притрагивалась, кажется, по религиозным соображениям (возможно я чего-то тут путаю). Когда большевики стали местной властью уже стационарно, то в благодарность обеспечили прадеду нормальную по тем временам жизнь.
Где-то через несколько месяцев после моего рождения и закончился период постоянного проживания нашей семьи в городе Саратове. Потом уже нас, детей, туда отправляли к дедам на летние каникулы. Это были сказочно прекрасные времена….
А теперь, собственно и само повествование, а всё, что вы прочитали до этого, было только вступление.
Глава 3
ДЕТСТВО
Как уже упоминал в предисловии, родился я в Саратове, в начале февраля 1962 года. Родители познакомились в юном школьном возрасте и не расставались до ухода отца. Такое раньше случалось. О создании семьи задумались ещё в детстве. Оба поступили на один факультет. Поженились. Так и прожили, родив четверых детей. Причём между старшей и младшей дочерью разница в семнадцать лет. Ушли с промежутком в двадцать. Отец сделал это первым, как то нередко случается у мужчин. У папы было два варианта исполнить своё жизненное предназначение. Первый – сцена, так как они всю свою школьную пору просидели за одной партой с Олегом Табаковым. Они имели общее увлечение. Вместе занимались в студии при Дворце пионеров, играли в спектаклях школьной самодеятельности. Олег Павлович, как всем известно, так и пошёл по этому пути. У папы всё было значительно извилистей. Потому как мама моего папы, то есть моя бабушка, была преподавателем на факультете химии СГУ (Саратовского государственного университета), это многое решило. Вот туда ему и пришлось поступить. Ещё учась в универе, он понял, что добраться до профессиональной сцены ему никто не позволит. И втихаря от родителей, не переча им в движении по пути продолжения династии, про себя задумался о журналистике. А по исполнении двадцати двух лет резко, ни дня не поработав по специальности, сменил профессию. Судьба дала ему шанс, он устроился репортёром в саратовское отделение редакции газеты «Правда». И начал писать статьи. А его вторая половина как раз определилась по части химии. Школы у родителей были разные, хотя и по соседству. Их общеобразовательная десятилетка пришлась год в год на эксперимент по раздельному обучению. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Но это не помешало им встречаться после уроков во дворе. По окончании университета мама стала не просто химиком. Она входила в группу авторов изобретения негорящей целлюлозы. О чём свидетельствовал патент, висевший у нас в рамке на стене. А позже, начиная с конца восьмидесятых, работала зам. директора НИИГА «Нефтегаз», что располагался на Варшавском шоссе, прямо у метро Нагатинская. Начинала она в нём трудиться ещё до постройки серой линии метро. Да и в первые годы карьеры должность занимала гораздо более скромную, это потом поднялась по служебной лестнице. В девяностые напротив обустроила свой офис компания МММ, лохотронная контора известного в те времена комбинатора Мавроди. Существует ли сейчас этот научно-исследовательский институт, я не в курсе, в тот период безвременья всё вокруг приватизировалось и коммерциализировалось. МММ точно почил в бозе. Видимо, и институт не избежал той же участи и в конце концов превратился в бизнес-центр. Папа же, как несостоявшийся актёр, всю жизнь жалел об этом и печаль свою компенсировал постоянным участием в разнообразной самодеятельности. Работая в Индии, например, режиссировал патетическую композицию, посвящённую столетию В. И. Ленина, привлекая на сцену своих подчинённых. А когда служил в фотохронике ТАСС, даже ставил спектакль по поэме Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца», где играл несколько ролей вместе с самим Филатовым, помогавшим в постановке и выходящим на сцену. Мать всегда гордилась тем, что увела отца из актёрской тусовки и сделала нормальным человеком с нормальной профессией. Папа же вполне продвинулся в журналистике – если человек талантлив, то он талантлив во всём, как гласит народная мудрость. Через несколько лет он был послан в Иркутск возглавлять корпункт АПН (Агентство печати новости) в Восточной Сибири. По должности ему приходилось встречать и возиться с высокопоставленными гостями СССР, приезжающими посмотреть, что из себя представляет Сибирь. Фидель Кастро – единственный, кого я запомнил из этой компании, так как он держал меня на руках и об этом было много разговоров в семье. СССР тогда окучивал Африку, и в Сибирь командами наведывались тамошние руководители стран и национально-освободительных движений. Естественно, детские годы помнятся фрагментарно, а реальность восстанавливается по рассказам старших, родителей и брата с сестрой. Но некоторые эпизоды всплывают в памяти, как кадры из старых кинофильмов. Иногда они бывают цветными, а иногда, как хроники незапамятных времён, черно-белыми или вуалированными. Так, я чётко помню эпизод, когда в десять месяцев лежал в туберкулёзном диспансере в городе Ангарск, куда меня изолировали от общества в связи с подозрением на бронхоаденит. Как сейчас, вижу приезды отца из командировок в Москву, куда он часто мотался по службе. Из столицы он всегда привозил гостинцы. Это были невиданные в Иркутске заморские лимоны и плавленый сыр «Виола» финского производства в круглом бумажном стаканчике (пластиковые квадратные коробочки изобрели значительно позже). Прогулки с бабушкой Соней по берегу «иркутского моря». Район Лисиха, что в городе Иркутск. И тот момент, когда вышеупомянутый дядя Фидель приезжал в Россию, и мой папа Стася (как мы звали его уже повзрослев, в семье) встречал его и возил по достопримечательным местам Сибири. По большей части на охоту в тайгу и на рыбалку на Байкал. Если бы сей визит происходил сейчас, во времена победившего капитализма и далеко вперёд шагнувших методов работы спецслужб, то, наверное, Фиделя бы возили в бронированном «Аурусе», в сопровождении роты специально обученных охранников. Тогда всё было проще и безопаснее. Дядя Фёдор Кастров, как его начали называть в СССР, как раз во время этого визита спокойно гулял по городу. Естественно, его сопровождали, но всё происходило как-то незаметно. Ему устраивали встречи с простыми работягами, которых, конечно же, предварительно инструктировали. Отец рассказывал о недавнем происшествии, которому был свидетель, так как тоже состоял в свите, сопровождавшей кубинского лидера и ехал с ним в одном вагоне. Где-то посреди тайги, примерно в районе знаменитой станции Зима, которую воспел в своём творчестве Евгений Евтушенко, местные лесорубы каким-то образом прознали, что в литерном поезде едет их любимец, вождь кубинской революции. Они вышли на рельсы и остановили состав, чтобы посмотреть на него воочию. Фидель, услышав шум и удивившись незапланированной остановке, вышел в тамбур и открыл дверь. Народ ахнул и начал скандировать его имя. Кастро стал им махать. Толкнул, как он умеет, речь. Лесорубы были в восторге. А Фидель находился в проёме двери лишь в одной рубашке защитного цвета. Снег хоть и сошёл, но температура держалась прохладная, сибирская. А бородач стоял в проёме вагонной двери на самом сквозняке. Кому-то из слушателей вскоре пришла в голову мысль, что южный человек сейчас замёрзнет, по крайней мере, схватит насморк или простудится. Тогда вдумчивый сибиряк снял с себя ватник, который сибиряки называли бушлатом, поднялся на ступеньки вагона и набросил его на плечи вождю, сам при этом оставшись в вязаном свитере. Фидель несколько мгновений стоял, оторопев. Как он потом рассказывал, его поразил такой бескорыстный поступок. Он порылся в карманах брюк и, найдя там пару сигар, передал рабочему в знак благодарности. Работяга взял обе в рот и раскурил их. Сделав затяжку, передал соседу, а тот, также затянувшись, далее следующему. А следующий дальше. Так сигары разошлись в разные от мужика в свитере стороны, чтобы все могли приобщиться к подарку вождя кубинской революции. Потом Фидель сидел в своём купе и со слезами рассказывал журналистам, что подобное возможно лишь в стране Советов. Такой народ живёт только у нас. Ведь каждый нармальный человек спрятал бы их себе в карман, утверждал он. А этот поделился с народом! Да, для нас Кастро был как бы свой парень, неформальный революционер из простого народа. Тогда папе разрешили взять меня с собой на Байкал составить компанию товарищу Кастро. Родители рассказывали, что об этом попросил сам команданте, так как любил детей, а я был общительным и непосредственным ребёнком. После этого в моей памяти периодически прокручивалась раскадровка, когда бородатый дядя на фоне кристально чистого озера поднимает меня на руках над головой, как я бы добавил из своей фантазии – не выпуская сигары изо рта (он тогда много курил этих вонючих достояний своего революционного острова). А мне ещё не исполнилось и полутора лет. Вспоминается ещё один эпизод с великим Фиделем. Если честно, то сам я его не помню и воспроизвожу по рассказам отца. Когда приехали на берег Байкала, гость спросил: «Будем ли мы купаться?» На дворе стоял конец мая или то уже было в начале июня, но всё равно время для водных процедур в Сибири неподходящее. Снег, естественно, уже сошёл, но иной раз мог с неба обрушиться мощный заряд «белых мух». Сопровождающие поёжились, но нельзя же было так просто отказать легендарному человеку. И сказали, что конечно будем, если тот этого хочет. Но ехидно предупредили, что для южного человека вода немного холодновата. Сибирь всё-таки! Кастро быстро скинул с себя одежду и в одних трусах побежал в воду, прыгнул и широкими гребками рванул от берега. Вода и впрямь была не как в Карибском море, градусов шесть-восемь. Прямо скажем, некомфортная для купания. Поэтому нашим сопровождающим и охране лезть в воду не хотелось. Они надеялись, что руководитель кубинской революции выпрыгнет из неё, как ошпаренный. Но тот плыл от берега и не выказывал неудовольствия. А «ударить в грязь лицом» было не по-коммунистически. И скрепя сердце, ругаясь про себя разными непечатными словами, все почапали к воде. Фидель тем временем отплыл метров на пятьдесят и начал махать руками, призывая остальных плыть к нему. Потом не спеша направился обратно к берегу, совершенно не торопясь, уже на спине.
Глава 4
На берегу сопровождающие встречали Фиделя с полотенцем. Однако тот не стал вытираться, а набросил его на плечи, сказав, что в Сибири так не принято согреваться и надобно следовать традициям страны пребывания. Помощники принесли бутылку рома и стаканчики. Этим все и нормализовали температуру тела. Лично мне от товарища Фиделя достался кусок какого-то ценного метеорита. По крайней мере, так руководителю кубинской революции объяснили в музее одного уездного сибирского городка, когда дарили его ему на память. Кусок не очень большого размера, примерно пятнадцать на десять сантиметров. Но весит при этом килограмма три-четыре. Он точно железный, потому что магнит к нему липнет очень прочно. И весь оплавленный. Директор музея очень хотел сделать приятное Фиделю Кастро, вот и преподнёс кусочек звёздного пришельца ему на память о посещении Сибири. Когда вождь покидал Иркутск, то взвесил его на руке, очень удивился и понял, видимо, что не стоит тащить такую тяжесть на Кубу. Возможно, у них своих метеоритов хватает. Подумав, он передарил его мне. А я не очень понимал тогда ценность презента. Таскать его с собой было тяжело. Смысла большого я в нём не улавливал. Отдал бабушке и она использовала тяжеленую штуковину по бытовому предназначению – в качестве груза при засолке огурцов и капусты. А сейчас он вернулся ко мне после ухода родителей. И я перед приёмами пациентов заряжаюсь от него энергией космоса и энергетикой великого Фиделя Кастро. С детства помнил об этой удивительной вещи и при случае рассказывал друзьям, что у нас в доме имеется кусок Тунгусского метеорита. В последнем я, конечно, не уверен, но чем чёрт не шутит. Городок, из музея которого экспонат, кажется, был в Красноярском крае, река Тунгуска там же и протекает…
А вот медвежонка, которого дяде Фёдору Кастрову подарил иркутский охотник, тот забрал с собой на Остров Свободы. Бурые медведи там точно не водились в те времена. Может, теперь и размножились…
Напоследок расскажу возникший тогда в народе анекдот, посвящённый этому событию, то есть приезду в СССР Фиделя Кастро: попросил лидер кубинской революции, чтобы его отвели в дом простого жителя Иркутска глянуть на быт тружеников Сибири. Люди из КГБ подобрали подходящую кандидатуру. Рабочий, товарищ партийный, семейный. Взысканий и приводов в милицию не имеет. В вытрезвитель не попадал. Зашли в квартиру. Вызвали специальную бригаду, чтобы сделала там освежающий ремонт, провели инструктаж. Выделили некоторую сумму денег купить продуктов, напитков, чтобы стол выглядел достойно. Выбранный представитель рабочего класса оказался товарищем смышлёным, всё понял, пообещал, что уж чего-чего, а с угощением он не подведёт. Стол будет – полная чаша. Ответственные товарищи, конечно, не без волнения, приводят на следующий день в оговоренное время команданте в эту квартиру. Звонят в дверь. Открывает хозяин в костюме и при галстуке. Сопровождающие лица и говорят:
– Здравствуйте, товарищ, извините за неожиданный визит, но тут такое дело, вот товарищ Кастро гулял по городу и захотел зайти в гости к сибиряку, посмотреть, как вы живёте.
– Да не вопрос, – отвечает представитель рабочего класса. – Заходи, товарищ Фидель, мы как раз отужинать собрались, просим к нашему столу!
Заходит товарищ Кастро. Посреди большой комнаты накрыт огромный обеденный стол. Тут и пироги, и омуль с Байкала, и кастрюля с борщом, и водочка только с морозилки, а посередине огромный тазик с чёрной икрой. Садится Фидель за стол и восторгается:
– Вот, – говорит, – как благосостояние у советского народа выросло, будем и мы у себя на Кубе к такому стремиться, работать, как вы, и всё у нас скоро так же станет.
Наливают ему борщ. Рюмочку. Накладывают на кусок хлеба столовой ложкой икру. Застолье проходит с успехом. Слово за слово. Тосты за Остров Свободы, дружбу, скорейшее построение коммунизма. В общем, все в восторге, весёлыми и удовлетворёнными покидают квартиру. Поднимается через какое-то время один из ответственных товарищей обратно поблагодарить хозяина за удачно проведённую встречу почётного гостя. Довольный, говорит:
– Вы, товарищ, молодец, не подкачали, стол накрыли и сами лицом в грязь не ударили. И тосты политически грамотные подготовили… – смотрит, а хозяин еле сидит, засыпает, глаза красные. – Что это только вы уж очень устали, переволновались, наверное, ночь не спали?
– Да если бы, чего тут волнительного. Дело политическое, раз партия сказала, что надо, конечно, выполним.
– Только вот у нас вопросик один имеется. Мы вам, вроде, сумму небольшую выделили, а откуда целый тазик икры чёрной?
– Так вот в этом и заключается причина, почему я такой уставший. Мы с женой скупили вчера в магазинах по всему району кильку солёную. И ночь напролёт глаза из неё шпильками для волос выковыривали…
Глава 5
В нашем иркутском доме часто собирались молодые, уже известные, а также подающие надежды писатели, поэты, журналисты. Многие из них в скором времени станут знаковыми личностями, которых через пару десятилетий начнут называть – шестидесятники. Ведь родители были так же молоды (1935 года рождения) и относили себя к творческим людям. Сейчас бы такая общность называлась богемой. Только тогда это слово было ещё не модно, а может, даже и не известно. Позже, во времена моей молодости, оно приобрело отрицательный оттенок. Отец с матерью очень дружили с Александром Вампиловым, именно он подарил миру такие великие пьесы, как «Старший сын». Фильм по этому произведению открыл миру Боярского, а блеснули в нём уж тогда известные Евгений Леонов и Николай Караченцов. Пьесы «Утиная охота», «Прощание в июне» и «Провинциальные анекдоты» пользуются популярностью в театральных училищах в качестве учебных постановок, а в наше время их проходили по школьной программе. Спустя несколько лет папа даже летал к нему на день рождения. А получилось, что на похороны, после его нелепой гибели во время катания на лодке, на том же Байкале. Компания отмечать торжество собралась большая. Слухов потом ходило много. И то, что он был нетрезв (а куда без этого), и что в лодке был не один. И что наличествовала ссора. Лодка перевернулась, однако Александр сумел добраться вплавь до берега. Но байкальская вода студёна и у него случилось переохлаждение. Драматурга пытались отогреть. Отпоить спиртным. Мой отец даже одел его в свою куртку, но ничего не помогло. А куртка потом досталась мне по наследству. В советские времена одежда часто переходила от отца к сыну или от старших к младшим. Будучи старшеклассником, я её довольно долго носил и даже хвастался, что в этой куртке спасали великого советского драматурга шестидесятых. С ней была связана не одна хулиганская история. Куртка была довольно большая и мне великовата, но в конце семидесятых подростки часто носили одежду «на вырост». Я этим пользовался в универсаме по системе «сам-бери» на Сумской улице возле кинотеатра Ашхабад, того, что между Чертановской улицей и Кировоградской. Из хулиганских побуждений и бравады перед одноклассниками, я воровал продукты и пиво. Видеокамер тогда не было, в зале дежурил один охранник, его несложно было обдурить или отвлечь напарникам. Однажды перед Новым годом даже сумел вынести из зала бутылку шампанского, незаметно засунув её в капюшон, вот такая она была вместительная и объёмная. Замечательная вещь. А я был маленьким, но смышлёным. Кто мог подумать – такой воспитанный на вид ребёнок (как говорили: «интеллигент в бабушкиной кофте») и может украсть алкогольный напиток? Однако по официальной версии с Вампиловым произошел несчастный случай. Кстати, по рассказам отца, Александр являлся автором, вернее, создателем нескольких, ставших ныне крылатыми, выражений, которые относятся к категории «народное творчество». Он придумывал их ради, как сейчас бы сказали, прикола или троллинга. Но часть из них прочно вошли в жизнь и сознание советских граждан. Причём некоторые были нарочито вычурными и казались безграмотными и простонародными. Причём, ладно если бы они распространились на бытовом уровне или в среде служебной, где превалирует язык казённый, типа: «данный объект» или «данная представительница женского пола с пониженной ответственностью». Так теперь ими открыто пользуются и в прессе и даже на политическом уровне. Мною уважаемые телеведущие и не ведают, что выражение это в шутку придумал и запустил в большое плавание по просторам «великого и могучего» большой хулиган и, как бы сейчас сказали, мастер троллинга писатель Александр Вампилов. Так вот, он часто приходил к нам в гости, особенно вечером в пятницу. Традиционно это называлось «отметить день шофёра», хотя личного транспорта в те времена не существовало. За редким исключением и то не в уездных сибирских городках. Профессиональный день случался, естественно, каждую неделю. Водители это объясняли тем, что обычно последний рабочий день недели в СССР был сокращён на целый час. Труженики баранки ещё и отпрашивались пораньше, мотивируя это тем, что у них праздник. Водитель машины, прикреплённой к редакции, чтобы возить отца, и так, на разъезды, объяснил папе этот диалектический нюанс ещё в самом начале их сотрудничества. Он отпросился один раз. Потом на следующей неделе. Потом опять. Тут начальник начал было что-то подозревать и, решив вникнуть в нюансы, спросил, как бы невзначай: «Так, вроде, уже был такой праздник в этом году»? На что сотрудник, не моргнув глазом, ответил: «Борисыч, так ведь он же по всей державе еженедельный. Мы, водилы, только один раз в отличие от вас, интеллигенции, выпить можем. Суббота предназначена, чтобы прийти в себя и опохмелиться. Воскресенье – окончательно восстановить здоровье, дабы и следов алкоголя в крови не было. Ибо в понедельник в шесть часов утра медосмотр»! Весь этот диалог я лично, конечно, не наблюдал. Однако периодически слышал историю о нём от отца в уже более сознательном возрасте, когда он рассказывал о своей работе знакомым и гостям. Папа был очень разговорчивый и компанейский человек, что передалось и мне по наследству. Иначе, чего бы я тут сейчас разглагольствовал и раскрывал семейные и исторические тайны и случаи из жизни. Так вот, Александр на посиделках у нас дома, рассказывая что-то, уже будучи навеселе, вдруг как-то к слову произнёс совершенно невероятную по тем временам фразу, сопоставляя излагаемые события. Он нетвёрдым голосом пропел: «…в этой связИ…». Слушатели – журналисты, поэты, начали громко смеяться такому нелепому выражению. А писатель Валентин Распутин, остро переживающий за родной язык, воспринял слова всерьёз и нравоучительно сделал замечание: «Саша, ты чего такое ляпнул? Какая связЯ? «В связи с этим» -выражение понятное. А связЕй мы не принимаем»! «А между прочим, забавно получилось!» – парировал драматург. – Мы ведь с тобой литераторы, так сказать, инженеры человеческих душ. Значит, и в языке родном имеем право быть творцами. Так почему нам не запустить в народ подобное выражение? Да, звучит коряво. Но через десяток – другой лет люди привыкнут. А мы будем смеяться и всем рассказывать, что эту безграмотность по пьяни у Стаськи дома на посиделках сморозили. Вот пусть потом и разгребают…». Однажды, много лет спустя, учась в старших классах школы, я написал реферат по истории. Как сейчас помню, на тему Парижской коммуны. Было это году в 1976-77. И в нём, решив блеснуть эрудицией, вспомнив творение великого драматурга, взял и использовал это выражение. Когда я его зачитывал в классе, после произнесённого мною: «… в этой связИ…», сначала наступило молчание. Потом раздался смешок со стороны нашего комсорга, который по совместительству был «ботаником» в очках и круглым отличником. Далее учительница, а она у нас была воплощением педантичности, спросила: где я услышал такое несуразное выражение? Я что-то пробурчал, что из телевизора почерпнул. Да и папа у меня журналист. Она поставила мне пятёрку за историческую часть и двойку за изложение. А также сказала, чтобы я больше не смотрел передачи, которые ведут такие безграмотные дикторы. Потом мне периодически припоминали моё новаторство в обогащении русского языка. Но всё больше с иронией, типа, филолог нашёлся. Но, как видите, времена меняются. То, что когда-то казалось диким или смешным, сейчас становится нормой и не вызывает отторжения. Нынче это выражение звучит чуть ли не из каждого, как говорится, утюга. Более того, я однажды слышал его аж из уст первого лица государства! Русский язык живой и разнообразный. Он вбирает в себя неологизмы и постоянно развивается. Наверное, это и хорошо. Однако я никогда больше до нынешнего момента не употреблял это выражение и не буду впредь. Старая школа, как бы сейчас сказали «олд скул», не сломима.
С Вампиловым связана у меня ещё одна замечательная история, которая произошла при мне. Естественно, о ней мне напомнили, так как детская память нестойкая. Именно с того момента, с самого детства, на подсознательном уровне у меня было какое-то мистическое отношение к напитку кофе. И позже, когда родители напомнили мне сию историю, я осознал, почему. Эту загадочность навеяло несколько факторов. Во-первых, при всем своём звучании как существительное среднего рода, кофе – мужик. Да, сейчас уже по нормам русского языка его можно и ОНО обзывать. Но я с молодых ногтей усвоил мужскую сущность кофе и всегда говорил о нём – ОН. Во-вторых, в шестидесятые годы прошлого века кофе был довольно дефицитным товаром. Особенно хороший и особенно в Сибири, которая по снабжению очень отличалась от столиц. Поэтому отец, ездя в командировки в Москву, обязательно привозил оттуда всем подарки. Конечно же, интеллигенция обожала кофе. Не быть кофеманом считалось как-то неблагородно. Примерно так же, как сейчас в интеллигентской среде не ругать правительство. Естественно, лучше всего считался напиток в зёрнах, а не молотый. Так как если его молоть перед самым употреблением, он богаче и вкусом, и ароматом, и целебными свойствами. Хотя в журнале «Здоровье» и печатались статьи о его вреде. Но тогда этот журнал и существовал, казалось, только для того, чтобы писать о вредности продуктов, которые становились дефицитными. Я помню, когда стала пропадать чёрная икра, о вреде ее также всплыли сведения в этом журнале. Что она чуть ли не вызывает инсульт, ибо откладываются холестериновые бляшки в мозгах. Тоже, кстати, веяние того времени, именно тогда впервые в народе стало популярным обсуждение этой проблемы со здоровьем. До того слово холестерин было известно только в узких кругах медиков. Кстати, на кухнях самым близким друзьям рассказывали анекдот о том, что от чёрной икры растут брови – гляньте на Леонида Ильича Брежнева, брови видите? Так вот, он икру каждый день ест. В Москве папа непременно заходил в Елисеевский гастроном. Считалось, что лучший кофе продаётся именно там. И вообще, выбор в нём был значительно богаче, нежели в универсамах, где-нибудь в Черкизово. Именно тут он покупал волшебный на вкус финский деликатесный сыр «Виола», который, о чудо, можно было намазать на кусок хлеба. Советский плавленый сырок «Дружба» ну никак не разминался до такого состояния, как ни грей его! Пока писал про «Виолу», вспомнился анекдот того времени про Елисеевский гастроном. Сейчас он, конечно, не актуален, но тогда воспринимался на ура. Пояснения современникам: в те времена не было поголовной мобильной телефонизации и Гугла тоже никто ещё не изобрёл. Со стационарного телефона или за две копейки с телефона-автомата можно было позвонить в справочную по номеру 09, и живой девушке с милым голосом задать интересующий вас вопрос. Промтоварные магазины работали с десяти часов утра до шести-семи вечера. Продуктовые – до восьми, некоторые крупные – до девяти. Итак, время в районе половины десятого вечера. В справочной раздаётся звонок, слегка нетрезвый мужской голос спрашивает телефонистку:
– Вы не подскажете, когда открывается Елисеевский магазин?
– В девять утра.
– Спасибо, – вежливо отвечает голос.
Проходит полчаса, этот же мужской голос, только уже заметно повеселевший спрашивает ту же девушку:
– Добрый день… вы не подскажете, когда открывается Елисеевский магазин?
– Мужчина, я же вам уже отвечала на ваш вопрос… в девять утра…
– Спасибо… – вешается трубка.
Проходит ещё половина часа. Тот же голос, но уже совсем заплетающийся:
– Милочка, скажи… а Елсейский скоро откроется?
– Гражданин, вы уже который раз звоните, вы в городе не один… я уже устала вам отвечать… у вас что, выпивка закончилась?
– Нет… выпивки полно… двушки заканчиваются, потому скоро звонить перестану…
– Так что, закусить нечем?
– Жратвы тоже… хватает
– Тогда что же вам надо?
– Да мне бы выйти отсюда… жена заругает…
Глава 6
Кофе в Иркутске ценился куда больше водки и портвейнов. Водка продавалась в розлив в продуктовом магазине. Её привозили в тридцатилитровых (если не путаю объём) молочных алюминиевых бидонах. Далее, у продавщицы имелись нержавеечные мензурки на длинной ручке, ёмкостью пятьдесят, сто и, по-моему, двести миллилитров. Она зачерпывала нужное количество и «отпускала» в стеклянную тару (другой-то и не было), банку или бутылку через воронку. Стоило это удовольствие (опять же, если чего не путаю, ибо сам не пил тогда, ходил в магазин с бабушкой, но ситуацию отслеживал, как сейчас бы сказали, мониторил, конечно, не настолько, чтобы запоминать досконально цены) порядка, вернее, до сорока копеек за соточку. Упакованная на заводе бутылка водки продавалась за два рубля восемьдесят семь копеек. То было до знаменитой, воспетой в песнях и анекдотах, цены в три рубля шестьдесят две копейки. Вот такие нюансы отложились в детской памяти. Каждый трудящийся имел право и возможность после работы заглянуть в магазин и с устатку махнуть полтешок или соточку, а потом чинно прийти домой ужинать. Для удобства граждан, в зале отгораживался небольшой пятачок и ставилась пара-тройка высоких круглых столиков, в народе называемых «стоячки». Стульев, чтобы не рассиживались, конечно, не предусматривалось, ибо дома семья ждёт! Одно время в городе случилась затоварка солёной кильки. Её необходимо было реализовывать, план выполнить, ибо экономика-то была плановой. Тогда предприимчивые директора продмагов договорились и ввели строгое правило – водку отпускать на вынос, только в тару. А если жаждешь употребить на месте, то в нагрузку бери и закусь. Ею служил кусочек чёрного хлеба с положенной на него килечкой. Самые креативные, как сказали бы сейчас, продавцы ещё и клали на рыбку колечко репчатого лука. Когда килька была распродана, правило всё равно осталось, так как прижилось. Вместо неё в качестве закуси пригождалось всё, что начинало просрочиваться. И солёные огурцы из бочек, и капуста квашеная, и полежавшее на витрине сало, и тому подобное. Так и узаконилось строгое правило – водку в розлив для непосредственного употребления в магазине отпускать исключительно в комплекте с закусью. За неё брали сущие копейки. И всем было хорошо. И магазину, так как сбывал неходовой товар, и потребителю, ибо он закусывал, что снижало вероятность нажить себе язву желудка, употребляя аперитив или греясь «с мороза» не по традиционным правилам. А морозы в Сибири сами понимаете какие бывают! Иной раз не остаграммившись, и до дома не доберёшься.
Заканчивая отступление, возвращаюсь к кофе. Он в нашем доме бывал стабильно, так как папа привозил его из командировок всегда в запас. Потому побаловаться экзотическим напитком захаживали друзья, о которых я упоминал выше. Особенно часто это происходило в выходные, в том числе после «дня шофёра», так как утром некоторые себя чувствовали не совсем бодряками. Отец умел заваривать кофе, для чего у него имелся целый набор турок разного размера, дабы на всех хватило, несмотря на количество гостей. Это сейчас принято засовывать картридж в кофе-машину и нажимать кнопку. В те времена приготовление напитка было таинством с соблюдением определенного ритуала. По крайней мере в нашем доме. Возможно, это тоже одна из причин моего к нему отношения, вплоть до очеловечивания и придания ему черт живой сущности. Папа произносил заклинания, как он объяснял, из латиноамериканских шаманских ритуалов. При этом ложкой, полной молотого кофе, водил над закипающей в турке водой. Иногда он добавлял туда чёрный перец, иногда другие специи, разнообразие которых в СССР ограничивалось корицей, молотым имбирём и ещё парой-другой видов, включая гвоздику. Употреблять его тоже надо было не просто так, а с пожеланиями различных благ и поправок в здоровье.
И вот однажды уже упомянутый мною водитель из АПНовской редакции, притащил сотрудникам целую наволочку зелёных, не обжаренных ещё кофейных бобов. В те времена в Советском союзе не считалось зазорным немного притырить из государственного имущества. Оно и сейчас-то мало кого останавливает, я имею в виду моральные принципы. А тогда всё вокруг было народное, значит ничьё. Вернее, и твоё тоже. Потому и не считалось грехом. Хотя, например, не платить в автобусе было неприличным. По крайней мере, в нашей семье билет на проезд покупали. Отец оценил принесённое. Остальные послали товарища, чтобы он валил «со своей чечевицей». Шофёр обиделся на всех, кроме начальника, а ему объяснил, что его родственник работает на грузовой железнодорожной станции. Вот в вагоне, в котором с Дальнего востока из морского порта перевозят кофе на переработку в европейскую часть страны, мешки, бывает, что рвутся, содержимое из них иногда рассыпается, а потому существует возможность его оттуда за недорого приобретать. Папе он дал на пробу порядка килограмма зелёных бобов. Тот принёс всё это домой и приступил к экспериментам по обжарке. Дело это для шефа Восточносибирского отделения АПН было новое. Сейчас-то освоить процесс большой хитрости не составляет, современный человек включает компьютер и там гуглит: «обжарка кофе». А в те времена этот вопрос занял у отца значительно больше времени. Но оно того стоило, ведь источник получения свежего халявного кофе был практически неисчерпаем на относительно продолжительный период времени. Если, конечно, не настанут форс-мажорные обстоятельства в виде ареста служителя железнодорожной станции за воровство. Но вероятность этого не была значительной. Для начала он отправился в городскую библиотеку и там набрал множество книг. Причём не только технологических. Но и по истории. Про те страны, в которых произрастает замечательное растение. Примерно через месяц вся наша семья имела довольно обширные знания на тему мирового кофеводства. Более того, благодаря полученной тогда в младенчестве информации об этом предмете я, будучи учеником уже старших классов, написал огромный реферат на эту тему. Именно тогда в моей несмышлёной голове заложилось упомянутое раньше мистическое отношение к растению. Потом, когда отец уже освоил различные рецептуры и тонкости обжарки кофе и стал угощать им друзей, завсегдатай кофейных церемоний Александр Вампилов и запустил в обиход так полюбившееся мне позже выражение. Как-то в субботу, после активного отмечания «международного дня шофёра» он, предварительно созвонившись, зашёл к нам в гости на кофе. Папа поколдовал на кухне и к приходу драматурга напиток был готов. Александр всегда приходил в гости с чем-нибудь «к чаю». В вечерние часы это был портвейн, в утренние пряники или деликатесы, привезённые с охоты. В тайгу ходили все, от профессиональных охотников, коих в Иркутске было много, до работников умственного труда, которыми считались и люди из круга общения нашей семьи. Поэтому кедровые орешки, солёная черемша, лесные ягоды в разных видах всегда присутствовали на столе. А в холодильнике (у кого он имелся, в то время это был бытовой прибор, производство которого страна только осваивала и присутствовал он не в каждом доме) всегда имелась оленина или лосятина, временами медвежатина и тому подобные, как сейчас сказали бы, ништяки. Александр с жадностью выпил большую чашку кофе и произнёс фразу, которая со мной осталась на всю жизнь:
– Какой же грамотный кофе ты варишь, Стас!!!
Глава 7
И тут я окончательно понял, что кофе-то живая осознанная сущность, некое одухотворённое создание и оно даёт нам свою энергию, выраженную в напитке. Ведь грамотным может быть только живое существо, мыслящее, с разумом! Не растение и тем более не его плоды. Вот такие, казалось бы, мимолётные слова, произнесённые взрослыми, могут отложиться и повлиять на восприятие мира у ребёнка. Порой они закладываются в самые отдалённые закутки нашего подсознания и потом выстраивают нашу жизнь. А человек сам может и не помнить этого. И не понимать. Но след в нашей голове всё равно остаётся на всю жизнь и определяет потом наше поведение. И дельнейшее плавание по ней. А закончить повествование о друге семьи моего детства хочу его выражением, которое взято мною за некий жизненный девиз. Когда Александра Вампилова спрашивали: для чего он что-либо сделал и почему так поступил? Он отвечал: для бОльшей лучшести! Вот мне так понравилось это выражение, что я пытаюсь следовать ему. Не всегда получалось. Особенно в молодости, которая выпала на неоднозначное время восьмидесятых-девяностых. Но с возрастом, мне кажется, стало получаться всё лучше и увереннее. Может, мне и запишется это в карму, которую, конечно же, подпортил ранее. Видимо, жизнь нам и дана как большая и суровая школа. Закончил один класс, сдал или не сдал экзамен, по результату которого переведён или не переведён в следующий. А по прошествии долгих-долгих лет обучения, там, наверху, посмотрят и опять же по результатам оценят – куда тебя после переводить? То ли успешно усвоил уроки этого периода и тебя можно допустить до следующего уровня, то ли оставить на следующий год пройти по новой курс, если схалтурил или схитрил… Вот и думай, чем ты там не угодил в прошлой жизни и как это исправить в этой, чтобы дальше не маячить и разорвать круг Сансары.
Вспоминая Вампилова, хочется упомянуть ещё одно его выражение-присказку, которое так запало мне в память, что я иной раз употребляю его от своего имени. Оно мне не просто близко. Оно выражает суть нашего поколения и самоироничное отношение к себе. Когда драматург устраивал у нас дома читку своего нового произведения, то непременно упоминал: «Пушкин себя сукиным сыном называл, нам такое нескромно будет, но – алкоголизм не пропьёшь…». Как ни странно, у меня в конце концов получилось… но шёл я к этому долгие годы. Хотя об этом я тоже расскажу, но позже, в отведённое для этого время и в определённой главе.
Когда я уже был подростком, отец брал с полки книги с автографами авторов и зачитывал отрывки или стихи, приговаривая: вот эту сцену Валька Распутин написал с нашей наводки, мы тогда первое мая отмечали и ему историй кучу рассказали. А вот этот шедевр при нас практически родился, когда мы у Женьки гостили, имея в виду Евтушенко, ты читай, читай, чтобы отчёт себе отдавать, по чьим коленкам лазил в детстве и конфеты от кого получал.
Вообще неотъемлемой составляющей жизни творческого человека в СССР были застолья с обильной выпивкой, а если помножить это ещё и на сибирский менталитет того времени… не берусь судить, как там происходят дела в наше время. Валентина Распутина папа звал Валькой. В Иркутске они часто спорили относительно новых тенденций современной советской литературы. Распутин был помладше отца и менее разговорчивым. Поэтому папа всегда оставался прав, особенно для себя. К тому же по тиражам книг ещё нужно было посчитать, кто из них главнее. Папа написал, как минимум две книги, а возможно, и больше. Вышли они в серии «Библиотека партийной литературы» (а может, «Библиотека партийного работника», сейчас уже точно не вспомню, назывались «Подвиг у Падунского порога», про строительство Братской ГЭС и «Дорогу осилит отважный» про Абакан-Тайшесткую магистраль железной дороги), тиражи у них были вполне номенклатурные.
Как я уже упоминал, отец возглавлял корпункт Агентства печати «Новости» (АПН), тогда весьма могущественную организацию информационно-пропагандистской направленности. Короче, отец был самым главным журналистом этой конторы на всю Восточную Сибирь. По своей важности АПН не уступала ТАСС (позже отец работал и там, уже в Москве, начальником отдела фотохроники). Соответственно, он являлся членом КПСС, без партийной принадлежности в те времена невозможно было делать какие бы то ни было шаги по карьерной лестнице. Родители были молоды, бодры, веселы и полны здоровья, им ещё не было и 30 лет, а они уже числились известными и уважаемыми людьми в областном городе. Посему в нашем доме гостили многие знаковые люди. Кроме уже упомянутых, это были и Евгений Евтушенко, и Андрей Вознесенский, и Юрий Визбор… Папа долго смеялся потом, увидев его в фильме «Семнадцать мгновений весны» в роли известного фашистского деятеля. Короче, все знаменитости тех лет, приезжавшие проводить творческие вечера в столицу Восточной Сибири, не могли обойти стороной наш дом. Кстати, здесь же, в Иркутске, похоронен упоминавшийся мною в предисловии дальний родственник Болеслав Шостакович, наш предок, вернее, родственник предка по линии композитора Дмитрия Дмитриевича. Представитель нашего рода несколько лет служил в городской управе. В Иркутск он попал не совсем по своей воле, а именно, был сюда отправлен на поселение после отбытия наказания по делу об организации побега Ярослава Домбровского из Московской пересыльной тюрьмы. Домбровский же тогда руководил польским восстанием, а после побега свалил в Европу. Там участвовал в Парижской коммуне и был соратником Гарибальди. Болеслав отбыл свой срок, кажется, в Казани. И пошёл по пути исправления и служения России. Да так воодушевлённо, что в конце концов стал значимым чиновником городского управления столицы Восточной Сибири. Здесь он и умер в 1919 году. Похоронили его тут же. Вот как могут географически переплестись судьбы! Не просто так карма забросила нас в Иркутск.
Естественно, что информация обо всём этом мною взята частично из семейных архивов, частично из памяти, что-то из открытых официальных источников. Но по большей части из расспросов родителей, родственников, членов семьи и знакомых родителей. Сейчас родители уже ушли. Но при их жизни я часто и подолгу «пытал» их, задумав эту книгу аж три десятилетия назад. Воспоминания я копил и записывал, теперь постараюсь изложить, как можно меньше используя приукрашений и метафор. Поэтому иркутский период я не могу описывать гарантированно точно. Это же касается и жизни в Индии в 1968-1972 годах. Но тут я уже был постарше да и подсказать детали может большее количество людей, так как мои товарищи по школе при посольстве СССР в Дели ещё живы и мы периодически поддерживаем связь. Правда, с годами всё реже и реже…
Глава 8
ИНДИЯ
1968 год. Отца отправили в командировку в замечательную и загадочную (так казалось, наверное, всем детям Советского Союза) восточную страну Индию. Тогда работать за границей изначально принято было посылать на два года. Однако, как это обычно и случалось с ценными работниками, отцу продлили командировку ещё на второй такой же срок. Всё это время я безвылазно проводил в тропиках, отчего жутко расстраивался, ибо мне казалось, что все нормальные дети живут в лучшей стране на планете Земля – СССР. Стране, построившей развитой социализм, а там и до коммунизма рукой подать. А я торчу тут, по шутливым словам отца «как забытая клизма», в стране третьего мира, то есть развивающейся. Или как ещё говорили – неприсоединившейся. Что имеем, то не ценим. Только позже я осознал, насколько мне везло. И что мама-Индия станет мне вторым домом на долгие двадцать два года в общей сложности.
Папа был определён в делийское отделение АПН (Агентство печати «Новости»), что располагалось в столице страны – городе Дели, по улице Баракамба роад, дом двадцать пять. На довольно большую должность. Служил он, не помню уже каким по счёту, кажется третьим, заместителем посла по пропагандистской части. Это предполагало статус дипломата, что подтверждалось синим паспортом. Начальником конкретно информационного отдела АПН был приятный дядечка по фамилии Владимиров. А папа работал его первым заместителем. В дополнение к паспорту полагался индивидуальный транспорт с водителем индийской национальности. Как сейчас помню, он был одноглазым, что в СССР бы никак не прокатило, ибо налицо явная профнепригодность. Но в Индии такое вполне допустимо. Шофёр являлся сикхом по вероисповеданию, а русские люди очень уважали сикхов. Если проводить аналогию с нашей Родиной, то сикхов очень условно можно назвать индийскими казаками, отчасти вольными и слегка воинственными. Вот и оставили его на должности после аварии, в которой он потерял глаз. Авария случилась не по его вине. Разве что не допускали к перевозке детей в школу, которая находилась в посольском городке на другом конце города. Недалеко от нашей улицы располагался корпункт ТАСС. Сотрудники его часто бывали у нас в гостях и дружили с апеэновцами семьями. Но во время отмечания праздника Холи (когда всех обливают и посыпают красками) становились главными врагами и объектом яростных атак. За забором жил известный стоматолог, приверженец полуфашистской партии Джанасанг, что советским служащим не мешало лечить у него зубы, так как доктором он был замечательным. Но однажды дантист-таки поплатился за соседство с победителями во Второй мировой войне. Это случилось во время отмечания Дивали, ещё одного экзотического праздника Индии, пожалуй, одного из самых почитаемых наравне с Холи. Во время торжеств вся страна с наступлением темноты начинает тоннами утилизировать пиротехнику. Наши, как и положено людям, уважающим обычаи страны пребывания, тоже запалили фейерверки, запустили в небо ракеты и салюты. Одна из них вильнула и изменила траекторию. Конечно же случайно. Шутиха скрылась за забором доктора. А через полминуты там так шарахнуло, что в нашем доме загремели стёкла, а с деревьев посыпались сухие листья и зашумели сонные макаки. Потом выяснилось, что запасливый фашистский дантист прикупил по случаю огромный арсенал, праздник-то длится несколько дней. И сложил всё это в каменную хозяйственную постройку, стёкол в окнах которой не было предусмотрено. Только решётка от обезьян. Именно в такое окошко и залетел посланный с советской территории заряд. Запасы взрывчатки сдетонировали и это, вкупе с окружающей канонадой, напомнило нашим людям Сталинград. В те годы многие взрослые ещё помнили войну. А на нашей территории нашли упомянутую решётку. Вообще ежегодные отмечания этого торжества уносят по всей стране не одну сотню жизней. А уж сколько пожаров случается – статистики даже не ведётся. Пресса упоминает только о самых крупных, с жертвами и разрушениями.
Рядом с дантистом, но непосредственно возле проезжей части улицы (доктор жил немного в глубине от неё) находился китайский ресторан с настоящими китайцами, коих в Индии не так много встречалось в те времена. Нам повезло. Они стряпали такую восточную вкуснотищу, что более подобного я не едал уже никогда в жизни. Мы периодически хаживали туда на ужин. Но чаще заказывали, чтобы нам принесли на территорию. Тут располагался очень удобный кантин, то есть буфет, прямо на улице возле офисного здания, где было приятно провести время за тарелочкой китайских вкусностей. Кстати, не только китайских, но и вообще азиатских, в том числе и японских. Меня просто трясло от супа из акульих плавников. Обычно родители брали на меня две-три порции, так как пиалочки были небольшие и советскому ребёнку на один зубок. К тому же я приехал из Иркутска с жутким недостатком веса, практически прозрачный и аж синеватый на вид, так как на сибирских харчах, да ещё после туберкулёза бронхов, который я перенёс в годовалом возрасте, сильно не нагуляешь килограммы. Я был весьма нездоровым ребёнком до приезда в Дели. Вот меня и откармливали. Зато потом… после Индии…
Ресторан делал на нашем корпункте конкретную прибыль. Кроме повседневной еды, все званые и не очень, обеды, заказывались именно там. На территории у нас имелось помещение, оформленное под различные культурные традиции народов мира. Оно служило залом для приёмов и задействовалось во время визитов больших и почётных гостей. Туда всё это приносилось из-за забора. Прибывал обслуживающий персонал. Те красиво раскладывали еду на специальном пандусе, а гости и хозяева рассаживались на подушечках на полу. Было очень уютно. Однако имелся и вполне классический банкетный зал со стульями и столами, я уже не говорю о киноконцертном зальчике человек на триста-триста пятьдесят. Таким образом, корпункт служил площадкой, куда приглашали гостей со всего света, которые посещали Индию и хорошо относились к Советскому союзу, будучи не прочь заглянуть в гости к людям, стоящим в авангарде борьбы за мир. Отец, то ли по иркутской привычке, то ли это входило в его должностные обязанности, а может, просто ему было это по кайфу, взял на себя нелёгкую ношу массовика-затейника именитых гостей, возился с ними. Артистам устраивал гримёрки и уборные комнаты в нашей квартире, так как она соседствовала с запасным выходом из кинозала. Все посещающие Индию советские гастролёры проходили через папины руки. Люди попадались от известных до великих. Например, Юрий Сенкевич (не помню, привозил ли он нам на смотрины Тура Хейердала, кажется, да), для папы был просто Юрий, он был помладше него и к тому же они познакомились еще в Иркутске, выпивали в одной журналисткой тусовке. А также я хорошо запомнил Святослава Рериха (очень забавный дедушка, который часто посещал наш культурный центр и каждый раз угощал меня своеобразными на вкус сладостями из Гималаев); Илью Глазунова, тогда ещё молодого, но уже при власти, художника (если уж мы затронули тему искусства); Махариши Махеша (известный йог и гуру, этот даже устраивал показательные выступления, прилюдно разжёвывая стёкла, бритвы и глотая плоды самого ядовитого на земле растения абрус); Игоря Кио (маг и волшебник в отличие от йога так поразил меня, что я напросился к нему в ученики по окончании командировки отца, жаль, что в Москве об этом никто не вспомнил, включая меня); Джона Леннона с Йокой Оно (не вспомню сейчас, были ли с ними в компании остальные Битлы). На такие мелочи я внимания не обратил, ибо даже не знал об их существовании. Вообще в СССР в те времена отношение к року было очень критическое. А уж какие-то мальчишки из портовой самодеятельности, уездного города Ливерпуль, вообще интересны были лишь продвинутой молодёжи, пока коллектив Битлз не принялся бороться за мир во всём Мире. Вот тогда даже грампластинку выпустили. Этих я запомнил хорошо, так как анкл Джон и тётя Йоко повозились со мной некоторое время, видимо, из приличия и уважения к отцу (или всему СССР), а может быть потому, что своих детей они завести не сподобились, вот и сюсюкались с чужими. С идолами музыки была связана весьма забавная сцена. Тогда вовсю шла война во Вьетнаме. А Леннон с Оно были яростными её противниками. В знак протеста они наняли бригаду, которая ночью притащила к американскому посольству кровать с петлями на ножках. И железнодорожными костылями, которыми крепят рельсы к шпалам, прибили её перед воротами посольства. Таким образом они перегородили выезд из него. Сами разделись голыми и легли, накрывшись простыночкой. Поутру дипломаты проснулись и попробовали выехать по своим дипломатическим делам с территории. Не тут-то было. Дорога была заблокирована кроватью, в которой лежат голые знаменитости с плакатом типа «Остановите войну». Тут же стоят и снимают всё это заранее оповещённые журналисты. На уговоры полиции освободить проезд изобретательные артисты не поддаются, всем объясняя, что они в неглиже. К тому же в Индии очень строгое отношение к публичному показу оголённых частей тела. Так что прикасаться к ним и, соответственно, вынести, применив силу, невозможно. Запланированные деловые встречи работников посольства срываются. Средства массовой информации в восторге. Подтягиваются любопытные и явно нанятые демонстранты с транспарантами. Всё это длится до самого вечера, пока Джону с Йокой не надоедает. Или им приспичило справить физиологические надобности. Так они сорвали рабочий день посольства, привлекли к себе и проблеме кучу внимания, а также неплохо попиарились, внеся свою лепту в прекращение агрессии США. Отец говорил, что Леннон его заранее позвал освещать задуманный инцидент. Скорее всего, приглашение было принято, тут я ничего подтвердить не могу, сам в акции участия не принимал.
Как я теперь понимаю, все сотрудники загранмиссий были людьми партийными. Возможно, и случались исключения, но это было уникальным явлением. Соответственно, все выезжающие проходили инструктаж во всемогущем и загадочном КГБ. Наверняка им приходилось сотрудничать с ведомством, а кого-то, вероятно, и в штат определяли. Но мало кто в этом признавался в трезвом виде. При поселении нашем были и вполне официальные представители Конторы. Они не только не скрывали этого, но и особо подчеркивали сей факт перед нами, детьми. Не помню, как звали дядю, но он даже показывал мне свой пистолет Макарова (название я как раз от него первый раз и услышал). Что интересно, представители силового ведомства, чья работа заключалась в организации безопасности поселения и сотрудников, а также, естественно, и надзор за ними, очень часто менялись. То ли работа была настолько нервной, то ли жара так на них действовала… Они через полгода начинали бухать, а некоторые и не только бухать. Очень хорошо помню, как наш штатный кагэбэшник в подпитом состоянии выбежал на полянку, крича, что он сотрудник органов и что вокруг враги. Выхватил пистолет и начал палить по собирающимся на покой обезьянам, размещающимся на деревьях вокруг. Когда магазин закончился, его уговорили отдать оружие и сдали на руки нашему доктору. Оказалось, что у парня нервное расстройство и его следует немедленно отсылать на Родину. Так и поступили. На смену приехал новый, но через несколько месяцев с ним случилась подобная же оказия. И опять на почве нелюбви к приматам. Скорее всего, в Индии и большое разнообразие обезьян, но в Дели, да и в остальных местах, где мы бывали, встречаются только два вида. Зато в таком количестве, что мало не покажется. Подразделяются они на хануманов, эти симпатичные и наглые, ибо, кто в курсе индийских эпосов, те понимают – твари они Божьи, то есть святые. Отношение к ним соответственное. Их стараются не обижать, подкармливают по возможности. И даже строят для них храмы, так как они войско и воплощение того самого Ханумана из Рамаяны, являющегося одним из аватаров великого Бога Шивы. А Шива, сами знаете, Бог очень грозный, которого лучше не злить и под горячую руку не попадаться. Сын его как-то вывел папу из себя и до сих пор ходит с головой слона вместо человеческой, хотя его, Ганеша, это совсем не портит. А есть ещё лингуры, те демоны конченые, особенно по мифологии. У них длинный хвост, который они используют как пятую конечность, и чёрного цвета морды. Так вот, у нас на территории жили хануманы, лингуры иногда устраивали набеги, но огребали по полной от наших братьев меньших, да и людей до кучи, и сваливали подальше. Наши же устраивались где-то в ветвях и у нас, и в окружающих парках. Эта часть Дели была очень зелёной и исторической, по крайней мере, в те времена. Самки вместе с висящими на них детёнышами лазили прямо по отвесным стенам зданий, так как облицовка была из крупной мраморной крошки и им таких зацепов было достаточно для передвижения. Вот почему по всей Индии на окнах и балконах решётки, ну, кроме самых верхних этажей, где обезьянам уже боязно лазить. В подъезды им заходить страшно, они боятся замкнутого пространства. Самцы обычно чинно сидели на деревьях и ждали, когда появится продавец фруктов по имени Харилал. Тот каждый день заглядывал к нам с огромной корзиной на голове, прятал её в беседке под навесом и ещё укрывал сверху брезентом от воришек. Сам ходил и раскладывал возле дверей квартир сделанные накануне заказы, в больших пакетах, в то время пока не пластиковых, их ещё не придумали, а обычных, бумажных, коричневого цвета, из вторсырья. Потом мы возвращали ему эти пакеты, вложив туда причитающиеся деньги, так же оставив возле собственной двери. Тырить деньги было некому, русские у своих не будут, нас было мало и все друг друга знали. А индийский обслуживающий персонал тем более, ибо очень дорожил высокооплачиваемой по местным меркам работой. Харилал угощал мартышек, выложив им связку бананов, в надежде отделаться малым и сохранить содержимое корзины. Однажды на нашей территории объявился старый самец. Скорее всего, ранее он был вожаком стаи, парень был весь в шрамах и выглядел гораздо крупнее обычных. Видимо, он вышел на пенсию по возрасту. В таких случаях молодой новый вожак его изгоняет как конкурента. Вот он и стал одиночкой. По всей видимости, он не был в курсе добрых отношений, сложившихся между местными приматами и бедным торговцем фруктами. Обезьян увидел пришедшего фруктовика, обалдел от количества вкусной еды в корзине на его голове и понял, что жизнь налаживается и без стаи с гаремом самок. Как говорилось в известном, ещё не вышедшем тогда на экраны фильме: это я удачно зашел. Дождавшись, когда Харилал отойдёт по своим разносным обязанностям, матёрый грабитель спустился с насеста и очутился в беседке с корзиной, прикрытой материалом, прижатым по краям кирпичами. Оттащить тряпочку ему не составило труда, и он закатил пир на весь мир. В этот день Бог послал ему и виноград, и любимые бананы, и несколько сортов манго, коим славится благословенный Индостан. И ананасы «бэби». И даже маленький арбуз без косточек, который он расколол об коленку и забавно выгребал мякоть ловкой лапой-рукой. Мы с приятелем всё это с любопытством наблюдали, даже не пытаясь ему помешать. Во-первых, это интересно, во-вторых, мы же были дети и нам в то время непонятно было, насколько трудно зарабатывать деньги своим трудом. К тому же нами это воспринималось как большая и интересная игра. Когда торговец вернулся и попробовал отогнать хама, тот поначалу не обратил не него никакого внимания. Он догадывался, что для индуистов является святым животным и они не посмеют причинить ему какую-нибудь значимую неприятность. И тут Харилал сделал страшное лицо, как в индийских фильмах у отъявленных злодеев, поднял валявшуюся поблизости палку и сделал вид, что замахивается на ханумана. Такого гадства и богохульства обезьян пережить уже не смог. В мгновение ока он выхватил из корзины большой ананас, подпрыгнул на пару метров и со всей дури опустил фрукт на голову несчастному человеку. В лапе осталась кочерыжка, спелый плод размазался по голове торговца. Тот сел от удара и неожиданности на задницу и обалдело смотрел на обидчика. Обезьян как ни в чём не бывало опустился на землю возле корзины и, аккуратно очистив от кожуры очередной банан, не жуя всосал его в себя. Тут спохватились охранники, тоже наблюдавшие цирковую сцену, и бросились спасать несчастного. Обезьяна не спеша забралась на дерево, прихватив с собой ещё немного фруктов про запас. Но кончил он всё равно плохо. Вернее, его кончил всё тот же сотрудник наших органов. Произошло это следующим образом. Под самой крышей офисного здания находилась комната для хранения секретных документов. Проще говоря – секретка. Я в ней ни разу не был по понятным причинам, но знал, что серьёзные дяди там занимаются очень важными делами. И постоянно наблюдал, как они курят и разговаривают между собой, высунувшись из окна. Так как окно находилось очень высоко, под козырьком крыши, залезть туда человекообразному было нереально. Выяснилось, что люди их недооценивали. А возможно, сработало русское авось или просто халатность, но на окно секретки не поставили решётку. Короче, вы сами понимаете, что раз в столетие даже через решётку в секретную комнату советского учреждения за границей может забраться злоумышленник. А тут её не предусмотрели вообще. Этим персонажем в нашей истории и явился мистический обезьян. Он не просто сумел туда пролезть. Он нагадил на стол, посредине которого лежала папка с грифом «Совершенно секретно». Кроме совершённого бесчинства, животное притырило вышеозначенную папку. И, держа её в одной передней лапе, на трёх остальных так сигануло с подоконника, что долетело до растущего довольно далеко дерева. Опустилось на ветку, качающуюся почти у самой земли, пробежалось по полянке под удивлённые вскрики наблюдавших советских людей (время было обеденное, и множество народа сидело за столиками кантина, вынесенными на полянку). Далее макак взобрался по усыпанной мрамором стене на крышу трёхэтажного жилого дома. Уселся нам на парапете и начал разглядывать добычу.
– Только не спугните его, – театральным шёпотом орал секретный сотрудник. – Не кричите, обосрётся и за территорию убежит… с документами, сука!
Обезьян не спешил. Он за последний месяц вообще ни разу не покинул наш уютный посёлок. Ему и тут было неплохо. И подкармливали, и развлекухи можно было себе придумать. Мой отец сделал повергшее кагэбэшника в ступор предположение:
– Какой-то уж очень крупный самец. Возможно, это просто небольшой человек, карлик или лилипут, одетый в шкуру.... Может, и цирковой артист. Видишь, какой ловкий?
– Точно, – поддержал кто-то из сотрудников. – И работает на американцев. Они его специально внедрили на нашу территорию месяц назад под личиной и легендой выгнанного из стаи вожака. А задание – выкрасть документы…
– Определённо, теперь он их и выкрал. Кажется, фотографирует, у него, похоже, камера в глаз вмонтирована. А папку в конце концов сожрёт или вынесет, связному передаст.
При этих словах сотрудника органов бросило в пот, и он покраснел лицом:
– Это не шутки. Тихо, без шума, выводите индийский персонал с территории, объявляйте окончание рабочего дня, чтобы через пятнадцать минут ни одной индийской души тут не было. И макаку не спугните, действительно, вынесет документы за территорию! – громко прошептал он и на цыпочках стал удаляться в сторону своей квартиры. – Тогда всем конец, не только мне… из Индии и в Сибирь…
Индийцы, также наблюдавшие сию сцену, не могли заподозрить, в чём будет состоять развязка. Однако они обрадовались неожиданно окончившемуся рабочему дню и потянулись к выходу с территории. Когда последний покинул её, появился кагэбэшник с винтовкой, оснащенной оптическим прицелом:
– Не спасу документы – прямо из Индии поеду охранять зону в Коми АССР… и это в лучшем случае.
Стрелков в КГБ готовили неплохих, снял шпиона с первого выстрела. Документы были слегка пожёваны, но почти не пострадали. Однако и этого сотрудника вскоре тоже отозвали. Вечером он сильно напился. Видимо, кто-то сообщил куда следует об инциденте. Ведь кроме официальных работников КГБ, неофициальных в коммуне (как называли жителей нашей резервации) было в избытке. Трупик обезьяна ночью вывезли с территории и где-то похоронили, надеюсь, с почестями, положенными воину войска Хануманова.
Глава 9
Нас, детей, интриги взрослых, конечно, мало касались, к тому же от нас их тщательно скрывали. Да и вряд ли бы мы чего-нибудь в них поняли. Но, естественно, они были. Кое-чего мы замечали, например, кучкование по группам. Что естественно в большом коллективе людей, компактно заселённом на ограниченном пространстве коммуны. Но отца моего, казалось, это не сильно касалось, его, похоже, все любили. Или делали вид. Во-первых, он один из четверых в посёлке имел дипломатический паспорт. Во-вторых, являлся душой компаний, причём всегда и везде, где я его запомнил. Чувствовалось актёрское и студийное прошлое, к тому же он очень хорошо играл на фортепиано, что было не частым явлением. Это вам не массовый инструмент типа гитары. Кстати, в залах для приёмов и на сцене в актовом зале имелось аж два рояля. Не зря папе поручали встречать гостей и возиться с ними. Опять же, наличие синего паспорта давало немало преимуществ. Кроме закреплённого за отцом личного транспорта (что давало свободу передвижения и прочие вольности), он имел так называемую «дипломатическую подписку». Немудрено, что держатель такой льготы имел в друзьях всё не обладающее сиим преимуществом население, так как подписка была ничем иным, как возможностью получать по символическим ценам продукты, алкоголь, сигареты и прочие ништяки по системе «Внешэкономторга». Раз в месяц он заказывал по этой льготе посылку, она состояла из нескольких ящиков. Ассортимент был «как в лучших домах». Все, какие только существуют на Земле, сорта виски, вин, пива. Консервы, сыры, колбасы. Сигареты и табачные изделия. Повторюсь: такой привилегией обладали лишь четверо избранных в нашем поселении. Другие покупали дорогущий индийский виски. Отец сравнивал его с сивушным самогоном, от которого на зубах оставался восковой налёт. Так вот, брал он не только на себя одного. Столько ему было не выпить и не съесть, соответственно. К тому же у нас в семье было строгое неприятие курения. Поэтому все коробки с блоками изысканных американских и английских сигарет он брал на своих друзей. Раз в месяц всё это прибывало на грузовичке, выгружалось на полянку, зажатую между нашими домами, и начинался дербан. Поэтому папу горячо любила большая часть сослуживцев, не обладающих паспортом синего дипломатического цвета.
Родители всегда подчёркивали, что мы многодетная семья. Видимо, для того, чтобы дети сильно не клянчили у них чего-нибудь купить. Существовала некая концепция, гласящая, будто в основном люди едут за границу с мыслью обогатиться. Купить себе, как тогда говорили в Союзе, машину, дачу, кооперативную квартиру. Наверное, так оно и было. Зарплаты-то выплачивались о-го-го какие. В сравнении с внутрисоюзными. В нашем же случае считалось, будто деньги не самое главное. Мы ведь интеллигенция. А сюда приехали послужить отечеству, заодно и мир поглядеть. Типа все наши доходы тратятся на поездки (мы и правда ездили очень много). На питание, причём весьма здоровое, в Индии больших затрат и сейчас не требуется, а уж тогда… что и говорить, если, покупая мясо, мы щедро вырезали оттуда жилки и оставляли только изысканную мякоть. Потом наступало развлечение для нас, детей. Выносились на полянку жирные отходы и туда, откуда ни возьмись, слетались сотни коршунов. Откуда они просекали и предчувствовали пиршество? Говорят, у хищников очень острое зрение. Но действительно – где-то на высоте тысячи метров парит одинокая птица и не видно более вокруг никого. Выносишь небольшой кусочек мяса, и через полминуты уже стаи слетаются поживиться. Хищники рассаживались на край крыши и ждали, когда кто-нибудь из нас подкинет в воздух кусочек. Несколько птиц срывались в пике и наиболее смелому доставалась добыча. Обычно они хватали её у самой земли. Припоминаю такой случай: приносит мясник-мусульманин говядину, мать берёт несколько килограммов, кладёт их в тазик и направляется домой. Тазик несёт на плече, прямо возле головы, придерживая рукой, так было легче. И тут на эти «ништяки» пикирует коршун с крыши в надежде урвать верхний кусок. Коршун хватает что попалось, ударяет мать крылом по голове, отчего она падает и роняет посуду. Птица пытается взлететь вверх с добычей, но никак не может, ибо кусок уж очень большой и тяжёлый. Оставшееся мясо, а там на дне были небольшие куски вырезки, рассыпается по траве. Пернатые бандиты налетают, и вся вырезка достаётся им. Нам же на ужин осталось то, что они из-за тяжести не смогли унести. С тех пор учёная мама больше так не делала. Она всё складывала в закрытую сумку и несла у самой земли. Кстати, мясников было трое. Курицу и рыбу приносил инду по вероисповеданию. Мусульманин отоваривал нас говядиной, периодически выдавая за неё мясо буйвола. Причём у каждого было своё время посещения нашего городка. Так, чтобы они ни в коем случае не пересеклись, ибо корова в Индии священна. И могло дойти до столкновения, если индуист окажется рядом с кусками святого животного. Соответственно, свинину нам носил христианин-католик, коих в Индии также хватает. Эти употребляют всё. Но мясо уже не стоило раскладывать возле дверей, как фрукты. Коты и прочие хорьки (мангусты) могли всё это потырить. Потом разбирайся.
Глава 10
Мы действительно много путешествовали и в компании друзей, сослуживцев родителей, и чисто семьёй. У отца в распоряжении был лимонного цвета «Форд фалкон» с водителем. Обычно нас возил упомянутый мною сикх в тюрбане. Но иной раз его подменял кто-нибудь из свободных, если этот брал выходной, а ехать всё равно было надо. Сам папа так и не научился водить машину, видимо, не было необходимости. Однажды мы ездили в Гималаи, в город Симлу или Шимлу, и так, и так допустимо говорить. Тогда на подмену нашему индийцу мы уговорили ехать папиного зама. Советского человека. Тот оказался лихим водилой. Дорога дальняя и без сменщика одному шофёру ехать было опасно, тем более в горы. Симла – это летняя резиденция англичан в Индии. Во время майской жары и когда наступал сезон муссонов (индийцы называют его мансун), то в Дели и Калькутте, где они обитали в сухой и прохладный сезон, становилось жарко и влажно. Тогда завоеватели сваливали в горы, где среди хвойных лесов, в прохладе, проводили невыносимые месяцы. Как раз в замке, где прохлаждались англичане, мы и заночевали. По календарю на дворе стояла зима. То есть декабрь или январь, точно не помню. Сезон вполне комфортный для Дели, но у отца высвободились выходные, и мы решили охладиться и вспомнить, что существуют на свете зима и снег. В Симле действительно лежал на улицах довольно толстый слой снега, возвышались величественные сосны и, что меня просто сразило, между ними сновали любопытные обезьяны. Заинтересовали их и мы. Время-то голодное, все ягоды-грибы под снегом. Чем они вообще там питаются, я даже и не соображу. Видимо, поэтому и пристают к человекам, попрошайничают.
ЗАмок действительно напоминал английский средневековый. Я уже пытался читать про Айвенго и Робина Гуда, поэтому имел некое представление. Стены были закопченными от факелов, которыми освещалось помещение, с белыми следами висевших некогда мечей и щитов. Сказочное тогда сложилось впечатление, особенно оно удачно легло на только что прочитанное рыцарское чтиво. Хотя сейчас мне думается, что это могла быть и имитация под средневековье. С возрастом, да ещё в современном мире, становишься циничнее, начинает казаться, что тебя во всём пытаются надуть.
Не помню, как много времени мы провели в привычном нам климате, но меня такая смена совершенно не радовала. Я настолько привык к жаре и влажности, что с ужасом представлял, как же мне будет плохо по возвращении в СССР. Неужели там полгода именно так, только ещё и без ненаглядных мартышек? По дороге обратно мы отпустили машину ехать в столицу своим ходом. А семьёй решили прокатиться на столь же раритетном, как замок, поезде. Причём тоже «маде ин грейт британ». Прикол в том, что в нашем вагоне «люкс» было всего одно купе, всё наше. Наверное, так сейчас ездят президенты. В купе была даже ванна и всё, что только душе угодно, в разумных понятиях путешествия, конечно. Отъехав от Симлы, поезд по каким-то причинам затормозил и встал. Видимо, случились проблемы типа схода лавины, горы всё-таки. И пока расчищали пути, поезд стоял недалеко, возле переезда. Как раз в это время мы увидели наш форд, подъехавший к шлагбауму по шоссе. Мы даже начали махать нашим в открытое окно. А они отвечать морганием фар. Через несколько вагонов от нашего, похоже, был простой, типа общий, для малоимущих. С той стороны раздались грубые выкрики и гул недовольных индийцев. Надо учесть, что в это время во Вьетнаме шла война, против которой Индия была настроена очень отрицательно. И вот, на переезде в горах стоит лимонного цвета форд с синими дипломатическими номерами, кто его знает какой он национальности, может, в нём американцы или, того хуже, англичане? Уж этих- то в Индии нормальные люди вообще терпеть не могут. Поезд стоит, машина мигает, снег, тишина, только шум со стороны вагона с трудовым народом. Шум становится всё агрессивнее. И тут мы наблюдаем, как из нашего форда выходит индийский шофёр и орёт в сторону шумящих что-то, мы не можем разобрать. Ведь язык-то местный, хинди. Наступает небольшая пауза, видимо, вагон переваривает услышанное. Потом в ущелье раздаётся многократно повторяемое эхом: «хинди, рашн, пхай, пхай»! Что означает: за дружбу между индийцами и русскими. Это звучало так патетично. Потом, уже в Дели, ребята из машины рассказали нам, что из вагона неслись оскорбления и проклятия. Шофёр-индиец не выдержал, вышел и закричал, чтобы слышали в вагоне, что в машине едут русские. Тут поезд и взорвался оптимистическими лозунгами.
Однажды мы большой компанией поехали в Агру. Туда, где располагается знаменитый Тадж Махал. Ехали на несколько дней, по продуманному маршруту, с заказанными ночёвками в очень интересных местах. Я бы даже сказал – диких. Это сейчас Индия – страна перенаселённая, с возделанным каждым пригодным для этого кусочком земли. Полвека назад всё было немного по-другому.
По дороге в Агру мы запланированно ночевали в заповеднике на берегу озера. Кажется, оно называлось Альвар. Лучше всего запомнилось то, что на берегу стоял дворец раджи, уж какого именно, трудно сказать, в своё время на полуострове Индостан было множество небольших государств. А их правители по большей части назывались раджами. Именно в этом дворце нам и предстояло ночевать. В нашей не очень многочисленной, но дружной и интернациональной группе имелся «специально обученный» человек индийской национальности, который всё организовывал, заказывал, контролировал, заранее обзвонив местное начальство, предупредив о прибытии больших гостей. Русские, и тем более дипломаты, считались очень важными персонами, и было весьма почётно встретить их лично главой поселения и местным начальством, включая полицейское и даже партийное. Не секрет, что во многих штатах компартия Индии имела большинство. А в Керале, так там традиционно коммунисты у власти вот уже лет шестьдесят. И порой забавно видеть, въезжая в штат, изрисованные граффити в виде серпов и молотов, заборы. А если добавить к этому вбитое за столетия англосаксами почитание белых людей, то можно составить себе картину отдыха больших упитанных белых «сахибов» в тропической стране. Что касается лично меня, то я пользовался у индийцев невероятной популярностью. Кстати, говорить ИНДУСЫ обо всех индийцах в корне неправильно, так как это относится к исповедующим индуизм, а в Индии много и других религий, от ислама и сикхизма, до христианства и буддизма. Как я уже упоминал в своих прежних книжках, прилично ли будет выйти в Москве на какой-нибудь рынок и обратиться к продавцам со словами – православные? Популярность моя обуславливалась следующим: во-первых, я был белый и пухлый ребёнок, благо, уже отъелся на индийских харчах после иркутских хворей. Во-вторых, у меня были длинные блондинистые кудри. В-третьих, у меня папа был советский дипломат. Благодаря этому папины индийские работники нас всей семьёй частенько приглашали на различные праздники. Особенно это было актуально в случае свадьбы. Так как я там «работал» «свадебным младшим братом». Дело в том, что на индийских свадьбах принято во главе процессии везти на лошади младшего брата, или племянника, или какого другого младшего родственника мужского пола. Имеется в виду, если свадьба эта в семье с хорошим достатком. Короче, так гораздо почётнее и зажиточнее. Желательно, чтобы лошадь была белая, а ребёнок весь наряженный и в чалме. Соответственно, сотрудники отца были высокооплачиваемыми, по индийским меркам, товарищами, могли себе позволить закатить «пир на весь мир». Вот они и приглашали нас, так как белые люди среди гостей – это вообще шик и престиж. Меня просили побыть «младшеньким», что, естественно, по первости раздражало. Но подкупало то, что не каждый день тебя на лошадке катают. А тут такая халява, и недорого, стоит потерпеть какие-то полчаса-час, а дальше я переодевался в майку с шортами, ибо жарко. А также имел почёт и внимание, с подарками и потрясающими индийскими кушаньями да сладостями. Индийская свадьба – это нечто. Единственное, что непривычно для русского человека, так это то, что там не наливают. Соответственно, и драк не случается. Тогда всё это происходило на свежем воздухе, с обильной едой на помосте и подушечками вокруг. Насчет алкоголя: бывало, наши прихватывали с собой бутылочку-другую, но чаще обходились насухую.
Глава 11
Так вот, вернёмся к нашей ночёвке на берегу озера в заповеднике. Дворец раджи имел довольно основательный двор. И что меня пленило больше всего, он был полон живности. То есть тут разводили и кур, и павлинов, и перепёлок, и кого тут только не было. Бегали молочные поросята, козочки. В клетках сидели кролики и ещё кто-то, кого я вообще видел первый раз. Эдакий прародитель контактного зоопарка. Естественно, мне тут стало интересно и была возможность не присутствовать среди взрослых и не вслушиваться в их непонятные и дурацкие разговоры. В компании я был единственный ребёнок. Часть старших тут же организовалась на рыбалку, так сказать, на вечернюю зорьку. Затарившись вискарём и стаканчиками из популярной в Индии до сих пор нержавейки (одноразовых тогда ещё не изобрели), они спустились от дворца к воде. Противоположный берег был гористый и казался окрашенным в тёмно-синий и сиреневый цвета. Рыба начала активно клевать, когда дело уже подошло к закату (а в Индии в любое время года солнце садится примерно одинаково, плюс-минус полчаса, где-то в районе половины седьмого), на тот берег вышли к водопою тигры. Видно их было не очень хорошо, но зато слышно прекрасно. В предзакатной тишине они издавали отчётливый громкий рык. Тут сопровождающий нас товарищ из местных притащил несколько биноклей, и что-то похожее на тигра я всё-таки сумел разглядеть краем оптики. Потом всех позвали на ужин. А рыбу понесли на кухню готовить дополнительные блюда к имеющимся яствам. Мама поведала, что главным сюрпризом будет дикий фазан, подстреленный в заповеднике. И его приготовили по английскому рецепту, как любил некогда раджа. Я не знал, как выглядит упомянутый фазан, и что он из себя представляет. Мне сказали лишь, что это деликатесная птица. И мама строго добавила: это необходимо попробовать, ибо где и когда ещё я смогу отведать подобное. Подали кусок какого-то мяса на позолоченной тарелке. С обычными овощами. Ну, наверное, это прикольно, так как звучит красиво: фазан, – подумал я и откусил маленький кусочек. Вполне съедобно. И тут мне на зуб попалось что-то твёрдое. Я перепугался и выплюнул. Это оказалась большая дробина. Мне стало просто жутко. Детская фантазия нарисовала такую картину, будто теперь от этого я могу помереть. Появилась чёткая уверенность, что теперь у меня случится аппендицит, то есть воспаление аппендикса. Откуда у меня это взялось, я не могу себе даже представить. Но почему-то мне казалось, что это конец. Попавшая внутрь организма дробина, а я был уверен, что проглотил уже несколько, не заметив, пока одна не попалась на зуб, просто неминуемо приведёт к смерти. Я не спал всю ночь, ощупывал себя и свой живот, особенно справа. И только наутро рассказал о страхах родителям. Они долго смеялись и объясняли мне, что всё на самом деле гораздо проще. Вдобавок ко всему, фазан оказался совсем не фазаном, а обычным диким павлином, которых я очень любил в живом виде и уважал за красивые перья и величественный вид. А фазаном они его обозвали для большей доходчивости бестолковых белых людей. И чтобы те не так сильно расстраивались, ибо павлинов употреблять в пищу не каждый отважится, именно из любви к природе и особому отношению к этим созданиям у «диких белых» людей. Так что я не так много и потерял. В утешение мне подарили огромный пучок перьев так огорчившей меня птицы. Часть их я раздал, но несколько штук так и остались. И более пятидесяти лет простояли в вазе в Московской родительской квартире, на пианино «Беккер», пережив их. Даже не выцвели.
После озера и заповедника мы направились в Агру. Сейчас, если кто недавно бывал в Индии и ездил на экскурсию обозреть Тадж Махал, знают, насколько это муторное дело. Туда ломятся толпы паломников – почитателей Индии и просто туристов. Надо стоять в очереди за билетами, проходить через рамку и так далее. В конце шестидесятых прошлого века всё было значительно проще и вполне по-свойски. Просто приходишь и идёшь себе через огромное пространство череды фонтанов, испарения от которых создают эффект, будто гигантское мраморное строение невесомо и буквально парит в воздухе. У самой гробницы снимаешь обувь и заходишь во внутрь. Сопровождающий индийский товарищ из спецслужб так всё замечательно организовывал, что даже нищих предварительно удаляли из зоны контакта с нами. Вот так в тот раз всё происходило. В Агру мы ездили множество раз и как почётные гости, и простыми незаметными белыми туристами. Город и тогда был огромен по европейским меркам, более миллиона жителей. И богат на памятники. Всё-таки некогда это была столица империи Великих Моголов. Здесь правили потомки самого Тамерлана. В этот же приезд нам много чего замечательного рассказали о возведении и печальной истории гробницы. Не буду тут распыляться, всё есть в википедиях, если кто не в курсе событий. Помнится лишь, что к вечеру мы еле добрались и устроились в гостинице после тяжёлого дня. Но, как и предполагает восточное гостеприимство, в покое нас не оставили и пригласили на званый ужин, который устраивал мэр города в нашу честь. Ужин как ужин, вполне себе званый, коих на моём не самом великом к тому времени веку, было уже в избытке. Как белый ребёнок, которому всё простительно, к тому же уставший и капризный после столь насыщенного дня, я вёл себя совершенно по-свински. А кто бы в моём возрасте отказался от такого, если ему за это ничего не будет? Я уединялся подальше от родителей, ибо наказание могло прилететь только от них, и требовал у прислуги поднос с пирожными. В Индии на тот момент была мода, которую я по прошествии десятилетий стал замечать всё реже. Они на сладости наносили сверху тончайший слой серебряной фольги. Серебро – металл дезинфицирующий, что было не лишним в условиях антисанитарии (по европейским понятиям) влажных тропиков. Я при этом вспоминал, как бабушки в Саратове клали серебряные полтинники в графин с водой, чтобы она была чище. И вода с полтинниками, кстати, не портилась месяцами. А в Индии этот металл был в таком избытке, что его без стеснения употребляли в пищу. Как нам объясняли сведущие люди, принимать его внутрь было очень полезно. А вот столь тонким, чтобы оно растворялось во рту, его делают вручную. Берут фольгу, кладут между двух слоёв кожи и стучат этим о камень. Так, чтобы металл расковывался до микронного слоя. Далее берут заячьей лапкой с остриженными когтями и аккуратно кладут на сладость. Так вот, зная о пользе серебра практически всё, я брал поднос и ножом для масла собирал со всех кусочков серебряную поверхность. Потом намазывал на один из кусочков и всё это гордо потреблял, с тем чувством, что сейчас так оздоровлюсь, что ни одна зараза ко мне больше в жизни не пристанет. И всё это под умилительное одобрение офигевших индийцев. Только уже будучи взрослым и имея отношение к медицине, я узнал, что серебро является тяжёлым металлом и его переизбыток в организме ведёт к нехорошим последствиям для здоровья. Но в детстве какой только гадости не нажрёшься, и всё нипочём. Не всё же сразу убивает… даже питание во «Вкусно и точка».
К полуночи сил уже оставалось немного. А тут ещё взрослые завелись после выпитого. Мэр, стукнув кулаком по столу, воскликнул на индийском английском, что сейчас он нам покажет такое, чего не видывал ещё ни один иностранец в мире. Ну, кроме англичан, конечно, – поправился он, – но это было уже давно, почти что четверть века назад. Мы расселись по машинам и нас повезли туда, где мы уже бывали сегодня, а именно – в Тадж Махал. Охранники, узнав в каком мы сопровождении, немедленно пропустили нас на огромную территорию мавзолея. Фонтаны уже были выключены, но на небе светила полная луна, отчего всё вокруг сияло и поблёскивало серебром. Слава Богу, не тем, которое я только что употребил вовнутрь. Мы приближались к мраморной махине главного строения. Уже казалось, будто она нависает над нами, паря в воздухе и немного покачиваясь из стороны в сторону, будто не стоит на земле на глобальном фундаменте. Конечно, это был оптический эффект, создаваемый испарениями и светом луны. Мы как завороженные обходили вокруг исторического памятника, поражаясь увиденному. И тут мэр потребовал тишины и сказал всем внимательно глядеть на купол мавзолея. Дядька навёл на него мощный шестибатареечный фонарь, напоминающий по своей силе скорее ручной прожектор ПВО. Круг света скользнул по куполу и тот весь засверкал самоцветами.
– Видите? Это драгоценные камни. Англичане, уходя, конечно, выковыряли те, до которых смогли дотянуться в спешке. Но уходили торопясь, не до всего добрались, много чего осталось. Днём такого не увидишь…
Уж на что я еле ходил от усталости, но тут сонливость как рукой сняло. Я сразу представил этих подонков, невесть как забравшихся на огромную высоту купола и ножом выковыривающих оттуда бриллианты и прочие самоцветы. А по ним снизу стреляли… вот такие странные детские представления у меня сложились об освобождении Индии от колонизаторов.
Глава 12
Детская память очень своеобразно фиксирует воспоминания о событиях, произошедших полвека назад. Потом они обрастают подробностями, услышанными от очевидцев и участников произошедшего, что-то додумывается, вспоминаются новые детали и потом формулируется в более литературной, приемлемой для восприятия форме.
Основная деятельность отца в Индии, кроме написания статей, заключалась в издательстве и редактуре двух журналов, издаваемых СССР для Юго-Восточной Азии. Сейчас их бы не без основания назвали пропагандистскими. Они рассказывали о преимуществах советского образа жизни и назывались знаково: «Совиет лайф» и «Совиет ленд». То есть «Советская жизнь» и «Советская страна». Журналы печатались в Индии и распространялись далее. Скорее всего, это делалось из-за доступности и дешевизны печатного дела и бумаги. Для воплощения всего этого мероприятия в жизнь была задействована одна из самых влиятельных и богатых семей Индии, негласных хозяев юго-восточной части страны и штата Тамилнад со столицей – городом Мадрас, сейчас переименованным в Ченнай. Главой семьи был папаша по фамилии Прасад, у которого имелось четверо сыновей. Выйдя на пенсию и отойдя от дел, старший Прасад поделил бизнес между всеми наследниками: заводы, дома, пароходы распределились поровну или по-честному, это уж им было виднее, как. Что там досталось старшим, я не знаю, в курсе только того, что поимел от папаши младший по имени Вену. Ибо он сам нам всё и рассказал. Дело в том, что кроме киностудии, кучи недвижимости и участка земли, на котором располагалась древняя историческая крепость, младшенькому перепало несколько типографий. Причём больших и весьма производительных. С подъездом к ним железнодорожной ветки и портового причала, что удешевляло подвоз бумаги и расходных материалов, а также транспортировку готовой продукции. Вот почему наше посольство и задружилось с молодым миллионером. А все основные дела и переговоры с Вену вёл как раз мой отец. Кроме того, в шестидесятые годы прошлого века было очень модно среди мажорной молодёжи, а Вену именно к ней и относился, иметь левые взгляды. Сам он получил образование в Англии, видимо там, в студенческой среде и заразился. Внешне он выглядел молодым зажиточным коммунистом, носил майку с портретом Че Гевары, беретку со звездой и не выпускал изо рта окурок сигары. От него всегда попахивало дорогим парфюмом и недешёвым шотландским виски. В своём родном Мадрасе он возглавлял молодёжное отделение прокоммунистической организации. Имел нехилый парк автомобилей, среди которых были в основном спортивные и шикарные. Ну, и пара внедорожников для покатушек по песчаным пляжам. К тому же у него в пользовании имелось несколько спортивных самолётов. А ещё он приставал к моему отцу с просьбой составить ему протекцию в советские военные органы для покупки нашего вертолёта МИ-2. Уж очень ему нравилась эта модель. Но существовали какие-то сложности с покупкой этой дорогостоящей игрушки, хотя в индийской армии хватало советской авиационной техники, а значит, обслуживать цацку можно было найти механиков. На самолётах он периодически развлекался полётами. Был он молод и … как все молодые, без царя в голове. Однажды с другом, употребивши чего-то горячительного, а может, и предосудительного, они начали летать над пляжем. Если бы просто летать, а то решили пошутить и стали пикировать на отдыхающих. Хорошо, что трагедия случилась над водой, а не песком. Самолёт коснулся крылом поверхности и клюнул всем фюзеляжем. Друг погиб. Вену выплыл. Его судили. Папе пришлось задействовать «административный ресурс», как бы сейчас сказали. Короче, денег они раздали немало. Сынка осудили условно, лицензию на пилотирование самолёта отобрали, но через полгода вернули (Индия в те времена была весьма коррумпированная страна) с пометкой – «без пассажира». Что, в общем-то, Вену не расстроило, ибо как там в воздухе проверишь, есть кто на борту или нет? Мы всей семьёй переживали за парня, так как очень с ним подружились и сроднились с богатой семьёй. И уже один раз побывали по его приглашению в Мадрасе, в имении, где располагалась крепость. На самолёте кататься нам не довелось.
Вену был парень спортивный. Для прикола он сам снимался каскадёром в фильмах, которые выпускала его студия. Сейчас я не перевариваю индийское кино, именно потому, что пересмотрел его в детстве. Оно и тогда мне казалось слюнявым и сопливым, каким в принципе и является. Из всего количества просмотренного, я могу сейчас выделить всего два фильма, которые для меня возможны к восприятию без употребления противорвотного. Обе ленты производства и продюссирования Вену. Один, чёрно-белый, хотя и снятый году в семидесятом прошлого века, рассказывал о подвиге индийского спецназа, впятером освободившего штат Гоа от португальских колониалистов. Немного остановлюсь на сюжете, ибо фильм, задуманный как весьма серьёзный, получился ну очень смешным. Особенно для людей, воспитанных не на голливудских поделках, а на нормальных советских фильмах о войне. Названия того индийского шедевра я уже, конечно, не помню. Но замечательно то, что там, как это обычно бывает в основной массе продукции Болливуда, не было ни одной сцены с танцами и песнями главных героев. Конечно, в фильме герои строго делятся на хороших и злодеев. Хорошие – серьёзные и симпатичные люди. Злодеев легко распознать даже по взгляду и мимике. Суть фильма в том, что на землю штата Гоа, являвшегося тогда заморской территорией Португалии, через границу переправляется отряд диверсантов-пацифистов из пяти человек. Среди них одна женщина. Они идут туда без оружия, даже без ножей! И так, голыми руками, они снимают охрану со складов и баз. Причём солдат и офицеров выводят из строя временно и гуманно, слегка оглушив их. Вручную ломают винтовки и автоматы. Прокалывают шины у бронемашин. Засыпают песок в пушку танка и портят им гусеницы. На протяжении фильма их по одному вылавливают. Кто-то из них, помнится, даже гибнет для большей патетики. За полвека детали стёрлись из памяти, остались только самые яркие эпизоды. В конце двухчасового действа хватают оставшегося в одиночестве командира и пытают. Улыбающийся садист обтирает привязанному к кровати пленнику ноги грязной тряпочкой с водой. Тут приходит в белом халате другой садист с раскрытой опасной бритвой. Всё это в присутствии стоящего вокруг консилиума португальских офицеров. Старший офицер берёт из рук доктора бритву и начинает наносить пленнику порезы на обеих ступнях, заставляя того корчиться и стонать. Заключительные кадры вообще заставляют зрителей плакать. На трибуне, недалеко от Президентского дворца в Дели, с того места, где видна Триумфальная арка, стоит правительство Индии во главе с Джавахарлалом Неру и принимает военный парад. Видимо, прошли годы, так как далее возле трибуны выстраивается постаревшая и поредевшая на одного человека группа бывших диверсантов. Среди них бравая старушка и погрузневший командир, который приковылял, опираясь на палочку. У всех груди в орденах. И всем им по очереди президент с премьер-министром жмут руки. В очередной раз награждают. Далее камера показывает марширующие полки солдат, квадраты идущих по площади танков, из которых выглядывают командиры, отдающие честь. Пролетают самолёты, помахивая крыльями и осыпая всё вокруг лепестками предположительно цветов Индийского флага (фильм же черно-белый). У всех по щекам текут слёзы, в том числе и у зрителей в зале. Фильм действительно с потугой на серьёзность, что нетипично для индийского кино, как я уже упоминал. Но уж настолько это всё смотрится опереточно… хотя, может, это я такой циник.
Глава 13
Со вторым запомнившимся мне шедевром, вышедшим под руководством Вену Прасада, связана личная история из жизни нашей семьи. Дело шло к концу семьдесят первого года. Отцу продлили время работы за границей. Но и от второго срока уже половина прошла. Примерно через год командировка должна была закончиться и нам предстояло возвращаться в СССР. Вену приехал из своего Мадраса по каким-то неотложным делам. И, как всегда, зазвал нас в ресторан, сообщив предварительно, что приготовил какой-то сюрприз. Возможно, поэтому я так хорошо и запомнил тот вечер, так как в нетерпении ожидал разрешения загадки, в чём же сюрприз заключается. Если обычно все эти выездные ужины для меня были каторгой, ибо больше всего я хотел остаться дома и поесть нормальной яичницы с замечательным английским сыром «Крафтчиз» из консервной баночки вместо индийских изысков. И чтобы меня не трогали своим назойливым вниманием индийцы, уж больно им нравился пухлый белый мальчик, одетый по-европейски. А еще дома можно было посидеть под кондиционером и не мучиться во влажной сутолоке столичного вечера в центре города. Водитель высадил нас возле лучшего делийского ресторана, где прямо на подъездном крыльце, так, чтобы не мешать другому транспорту, стоял шикарный американский автомобиль кабриолет. По нему мы сразу поняли, что пригласивший нас миллиардер уже здесь и ожидает нас. Такое авто было единственным в стране, как сам Вену нам потом рассказывал. Это был Кадиллак Эльдорадо с каким-то безумно огромным двигателем. Счастливый обладатель его появился из дверей заведения, широко расставив руки в приветствии; беретка с красной звездой была задорно нахлобучена на затылок, как у советских десантников второго августа в парке имени Горького в Москве. Он что-то скрывал в ладони правой руки. Вену по-дружески обнял отца и раскрыл перед ним ладонь, на которой лежал ключ от упомянутого выше шедевра американского автопрома.
– Теперь он твой. Это, брат, мой подарок на память о нашей дружбе. Ты ведь скоро покинешь Индию, нам будет одиноко без тебя и твоей семьи… нашей семьи… вы стали для нас родными. Прими этот скромный подарок. И до отъезда в Москву учись пока ездить на нём по Дели…!
Сказать, что папа был в шоке, – скорее всего ничего не сказать о его состоянии. Я, естественно, обрадовался и сразу плюхнулся на водительское сидение уже нашего автомобиля. Я начал энергично крутить руль, сделанный из дорогих пород дерева. Вену, взяв под локоть моих родителей, повёл их внутрь здания. Они что-то обсуждали, но мне было не до них. Да и родители как будто забыли обо мне, лишь только водитель-охранник бдил относительно моей безопасности (Вену сажал его за руль, только когда был уже не в состоянии управлять из-за перебора с алкоголем). И так весь вечер я под шиканье мамы отбегал из-за стола, перехватив кусочек еды, и снова облазил машину. А тем временем за столом было не до удовольствия от изысканных кушаний. Отец в красках описывал добряку миллиардеру, что может случиться с ответственным советским работником, дипломатом, коммунистом и тому подобное, если он примет от акулы капитализма подобный презент. И никто не посмотрит на то, что миллионщик этот сам практически комсомолец, ходит с портретом товарища Че на майке, а на стене в его офисе висит портрет вождя мировой пролетариата и великих отцов-основателей коммунизма. Не то что про карьеру придётся забыть…. Вену говорил ему, что он оплатит транспортировку в Москву и напишет письмо в правительство СССР с объяснениями. Папа парировал, что он и так имеет частые беседы с различными органами из-за их плотного общения, но пока всё ему сходит с рук, ибо и работа делается на отлично, и он пока ещё на хорошем счету в парткоме. Короче, со всех сторон выдвигались различные аргументы, вплоть до того, что ездить по Москве на кабриолете не по погоде, а если что и сломается, то чинить будет негде. Тогда в СССР ещё даже завода в Тольятти не возвели. И даже «Волги» выпускались ещё в модификации двадцать один. К тому же прав на управление у отца не было. В ответ звучало о возможности все эти проблемы решить. На третий час дискуссии Вену принял аргументы отца.
– Ну, смотри, – сказал он в конце вечера, – раз ты не можешь принять мой подарок, то и мне этот автомобиль не нужен. Я разобью его… вот!
Прошло примерно полгода. Богатый друг назначил в нашем посёлке премьеру своего нового детища – фильма, как анонсировал он, где состоится его актёрский дебют и много-много каскадёрской работы. Как мне ни тяжело было снова глядеть индийскую муть, тут пришлось согласиться из уважения. Тем более, что тот фильм, который я описывал выше, из коллекции продюсерских работ Вену, был достаточно сносным. От этого просмотра я ожидал чего-то подобного. Суть киношки, естественно, двухсерийной, почти четырёхчасовой, заключалась в том, что некая банда разбойников орудует по всей стране. Грабит богатеев и раздаёт деньги беднякам. Все они братья. Короче, эдакие робингуды по-индийски. Естественно, там присутствует любовь. Но что удивительно для индийского кино, там всё заканчивается без традиционного хеппи энда! Весь этот боевик обильно сдобрен песнями и танцами, в которые пускаются герои фильма, иногда с горя, а порой от радости. В блокбастере куча трюков. В том числе и на мотоциклах. Одним из них, в его исполнении, наш друг очень гордился. Ему пришлось прыгать через двадцатиметровый ров с крокодилами, уходя от погони полиции. Герои постепенно гибнут в схватках с правоохранительными органами, которые показаны не с лучшей стороны. Сплошная коррупция и поборы с бедняков. В конце концов остаётся главный младший брат, остальные гибнут. А заканчивается киноповествование тем, что, опять же, спасаясь от преследования, герой мчится на розовом Кадиллаке Эльдорадо, сметая все преграды и баррикады полиции, где-то в горах. На крутом повороте он выпрыгивает из машины и пересаживается на припрятанный в кустах мотоцикл. Далее по горной тропе устремляется куда-то вверх, а огромный автомобиль срывается с обрыва и летит в глубокий каньон, где струится бурная река. Всё говорит отом, что герой для полицейских гибнет. Но тело не находят, а сам молодой робингуд уходит через горную границу то ли в Непал, то ли в Китай, а может, ещё куда. Вот такой полу-хеппи, полу-энд. Все герои погибли, а главный уходит в горы, типа становится отшельником. Как-то так все истолковали сей шедевр.
– Я обещал, что разобью машину? Вот, убедись, я всегда держу своё слово! – гордо продекламировал отцу миллиардер. Когда свет зажегся, он привстал, и зрители зааплодировали ему.
А меня мучила только одна мысль, перевешивая все остальные чувства, навеянные просмотром: я видел эту машину, знаю, кому она принадлежит, слышал, будто это единственный экземпляр в Индии, значит, не может не бросаться в глаза. Тогда откуда её мог взять и кататься на ней бандит, которому по определению положено быть незаметным и таящимся от всех. Ведь любой обращает внимание на подобную экзотику, тем более уважающий себя полисмен! И вторая мысль, глодавшая меня после того, как я увидел последние сцены фильма – пропали мои десять пайсов, которые я припрятал в щель между диванными подушками заднего сидения для того, чтобы в Москве потом достать их и показать родителям: вот чего я тут припрятал на память о нашем пребывании в Индии.
Глава 14
Да… так мы и остались без средства передвижения, как сказали бы Ильф и Петров. Хотя, скорее, тот автомобиль стоило бы называть роскошью. С молодым индийским миллиардером у нашей семьи связано много замечательных историй и воспоминаний. Но память выдаёт сейчас уже только эпизоды, детали. Последовательность же их утратилась в недрах нейронов моего мозга. Помню, как моей старшей сестре Вену устроил грандиозное празднование шестнадцатилетия. В Индии для девочек это знаковая дата, наступление совершеннолетия. Не уверен, что сейчас эти законы сохранились, но в те времена с этого возраста индианки выходили замуж, и это не противоречило законодательству. Кстати, в отличие от юношей, чьё совершеннолетие наступало в двадцать один год. Я пребывал в Индии безвылазно все четыре года отцовской командировки, в отличие от папы и мамы, которые отъезжали в Союз (как принято было говорить) на время отпуска. Делали они это попеременно, дабы не оставлять меня без присмотра, так как это представляло опасность для общества, как для русскоговорящего, так и для местного народа. Ребёнок я был весьма активный. В первые же дни нашего пребывания на полуострове Индостан меня определили в посольский детский сад. По возрасту как раз подходил. В школу должен был идти на следующий год. Школа была начальная, в те времена это составляло четыре класса. Далее, если родителей оставляли на больший срок служить Родине на чужбине, ребёнка отправляли в СССР, к родне или в известный на весь мир интернат МИД СССР, что располагался в Пушкино под Москвой. Оттуда вышло множество известных людей, продолживших династии дипломатов и прочих загранработников. Так вот, что касается детского сада, его воспитанники плавно перетекали в школу, которая находилась на той же территории посольского городка, буквально в пятидесяти метрах. Есть поверье: как начнёшь какое-нибудь дело, так оно и будет продолжаться, пока его не закончишь. Моё пришествие в коллектив ознаменовалось, мягко говоря, неприятным инцидентом. И закончилось довольно быстро. Из садика меня выгнали в первый же день. С детства во мне было воспитано чувство, что мужчина – опора и защитник женского пола. А когда я появился в новом для себя коллективе, на моих глазах произошло кощунство. Мальчик нагло и без зазрения совести начал отнимать у девочки игрушку, да ещё ударил её по голове этой самой игрушкой, когда всё-таки сумел отнять. Во мне взыграли мужские чувства и я, подойдя к ссорящейся паре, резким ударом решил охладить пыл хулигана. Как-то так совпало, что удар пришёлся мальчику в челюсть. Он потерял равновесие и, отступая назад, оказался возле ступенек, ведущих вниз из беседки, где всё это происходило. Ребёнок упал, заорал с испуга и стал биться в истерике. На шум прибежала воспитательница. Началась разборка. Но моё преступление было налицо и все объяснения, что я защищал девочку, не прохиляли. Эх, сколько ещё всего предстояло испытать мне в жизни из-за женщин! Воспитательница поставила меня в угол. Беседка была шестигранной формы и угол был тупой, с хорошим обзором. Поэтому стоять мне было не скучно, пока вокруг шумели и выясняли детали произошедшего. А я, страдая, рассуждал о несправедливости этой жизни. Выяснилось, что мальчик с девочкой являлись братом и сестрой, а подобные разборки у них были как дело само собой разумеющееся. Однако ударенный мною брат затаил злобу и решил отомстить. Пока я стоял в условном углу, они с другом подошли и сказали, что ещё поговорят со мной при удобном случае. Случай не заставил себя долго ждать. Скоро краем глаза я заметил, что они подкрадываются ко мне сзади. Осведомлён – значит вооружён. Я сделал вид, что ничего не вижу и ковыряю ногой доски пола веранды. А когда мститель бросился на меня, я так удачно подсел, схватил его за руку, потом резко выпрямился. Эффект был потрясающий. Ребёнок полетел через меня, а заодно и через перила беседки. С довольно большой высоты навернулся спиной о землю и опять дико заорал. Я сам испугался и побежал оказывать ему первую помощь. Опять прибежала перепуганная воспитательница. Видя картину поверженного мальчика и меня, стоящего над ним, она… сами представляете, что себе вообразила. Родителям сказали, что они плохо меня воспитали и что у них остаётся не так много времени до начала нового учебного года, чтобы провести со мной профилактическую работу. И так далее, и тому подобное. Из сада меня удалили. Зато репутацию среди сверстников я заработал авторитетную. Даже дети из старших классов, когда я всё-таки пошёл учиться, меня уважали и избегали ссориться. Уж больно эффектным получился бросок через себя. Как будто я и впрямь где-то занимался единоборствами и обладал техникой дзюдо. Это в столь юном возрасте! А с несчастными братом и сестрой мы в конце концов подружились и нормально общались долгие годы. Правда, впоследствии у девочки случился ещё один инцидент с моим участием. Но то уже было позже, и мы стали старше на год, а возможно и два, сейчас уже трудно сказать. Как-то на перемене она начала меня щекотать. А я всплеснул руками и попал ей по лицу, выбив два зуба. Слава Богу, они были молочными и сами должны были скоро выпасть. А вот с её многострадальным братом произошло всё гораздо хуже. На лето у нас в том же здании школы устраивали что-то вроде пионерского лагеря, чтобы разгрузить занятых родителей. Классы освобождали от парт и заносили туда кровати, на которых у нас проходил так называемый тихий час. С утра мы плескались в бассейне, играли, рисовали и занимались обычной для пионерского лагеря фигнёй. Потом нас кормили обедом и заставляли после него спать. Кто бывал в подобных заведениях, помнят, как проходят тихие часы. Когда воспитательница ушла, мы, естественно, начали драться подушками. В шутку, как и положено. После моего удара мальчик не устоял на кровати и свалился с неё. Да так неудачно, что треснулся лицом о набалдашник на ножке. Кровать была индийская, деревянная. А для красоты в ногах торчали деревянные шары на небольшой спинке. Именно о такой шар он и шарахнулся. Глаз заплыл. Прибежала учительница, которая исполняла роль пионервожатой и чуть не упала в обморок. Вызвали скорую и отвезли пострадавшего в больницу. Рентген показал перелом надбровной дуги. Но доказать, что упал он после моего удара, не смогли. На этот раз я выкрутился, однако родители на всякий случай забрали меня из лагеря… от греха… мало ли что. Так и повелось. Кстати, за десять лет у меня набежало ровно десять школ. Но не подумайте, меня не из всех выгоняли. Из некоторых я уходил сам, в том смысле, что родители вовремя забирали и переводили в другую школу. А с невезучей семьёй всё в конце концов стало замечательно. Бровь юноши заросла. Прошли годы, мои одноклассники стали взрослыми, закончили МГИМО и работали в разных странах ответственными загранработниками. Я даже наблюдал брата несколько раз в свите президента уже России, во время телевизионных трансляций встреч глав государств. И вспоминал: а ведь я тебе, засранцу, однажды голову проломил… но не со зла ведь…
Именно в те годы меня постигла первая детская влюблённость. Не сказать, чтобы она была уж настолько серьёзной, но ощущения тогда появились столь непривычные, что я помню их до сих пор. Хотя следующие мои пассии оставляли не менее яркие переживания. Но тот раз был самый первый, потому и незабываемый. Я и мой товарищ Лёша Власов (с ним мы и сейчас поддерживаем связь) конкурировали за внимание Маши Куланды. У нас тогда была настолько сплочённая банда, что остальные посольские и прочие дети её ужасно боялись. Мы, например, совершали набеги на жилые дома в посольском городке и тырили кока-колу с фантой, которую грузчики оставляли у дверей, забрав ящики с пустой тарой. Пытались краденой в посольском гараже ножовкой распилить металлический ящик для пожертвований, который для чего-то стоял возле раздевалок бассейна. Перелезали через забор, за территорию посёлка, что было строжайше запрещено. Делали мы это для того, чтобы в местной лавке купить на позаимствованные в папином кармане монетки патаки. Это такие петарды различной силы взрыва. Причём некоторые были настолько мощные, что разбивали в хлам бутылки из-под той же кока-колы. Бомбочки эти мы закладывали в термитники и поджигали. Взрывом домики несчастных насекомых разносило на куски. Но мы считали, что тем самым приносим пользу, очищая территорию посольства от вредителей. Маша тогда категорически противилась той несправедливости, что родилась девочкой. Она коротко стриглась, никогда не носила юбок или платьев, исключительно шорты и мальчиковые рубашки. Требовала, чтобы её звали Махом, с ударением на последний слог. Короче, хулиганили мы не по-детски. Потому мы с Лёхой оба оставались, как говорится, не удел, ибо некогда было, не до романтики взаимоотношения полов. Она была просто «своим парнем». Или, как позже бы сказали – пацанкой. Потом, в Москве, уже учась в классе 7-8, мы встретились, так как родители наши поддерживали отношения по работе. Конечно, было интересно глянуть на свою самую-самую первую любовь. Но… это уже была девушка, в платье и с причёской, со своими уже девичьими формами, увлечениями и задумками на будущее. Мне она показалась обычной московской школьницей, без того пиратского блеска в глазах, который запомнился мне по Индии. Как будто и не было никогда того оторвистого Махома. И дальнейшего общения больше не случилось. Мы уже были разные люди, со своими интересами и понятиями. Уже в этом веке, году в 20-ом, я набрал в Фейсбуке её имя и фамилию. Поиск выдал мне два профиля. В одном были размещены несколько фотографий солидной тётечки на фоне грузинского флага. Эту страничку я сразу отверг, подумав, видимо полная тёзка, Маша же не может так выглядеть. На втором дело обстояло гораздо лучше. Там была женщина моложавая и симпатичная, но очень отдалённо напоминающая мою подругу детства. Представившись, я задал вопрос, не её ли 50 лет назад звали в Индии Махом? Ответ гласил, что в Индии бывала её тётя, тёзка и дала мне ссылку на ту страницу, которую я открывал прежде. Подавив разочарование, я написал уже тёте в личном сообщении. Вкратце рассказал о себе. Что треть сознательной жизни провёл в Индии, написал несколько книг. Через некоторое время она ответила, что рада меня слышать и видеть. Поведала немного о себе. Упомянула, что даже почитала в интернете обо мне и моей литературе. Удивилась, что я после стольких лет жизни за границей решился вернулся в «эту пропащую страну», что в России всё плохо и станет только хуже. И тому подобное. Я понял, что порою прошлое лучше не тревожить. И не портить себе впечатление о нём и людях из той эпохи. Хотя бы для того, чтобы не разочаровываться в них. Конечно, с Марией мы больше не общались. Приоритеты и ценности у нас уже совсем разные. Но… счастья ей, как она его себе представляет. И равновесия…
Глава
