Миф и его смысл
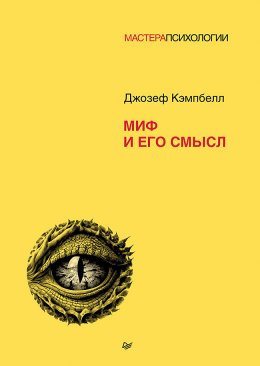
© 2023, Joseph Campbell Foundation (www.jcf.org), from the Collected Works of Joseph Campbell
© Перевод на русский язык ООО «Прогресс книга», 2025
© Издание на русском языке, оформление ООО «Прогресс книга», 2025
© Серия «Мастера психологии», 2025
Права на издание получены по соглашению с Joseph Campbell Foundation. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Информация, содержащаяся в данной книге, получена из источников, рассматриваемых издательством как надежные. Тем не менее, имея в виду возможные человеческие или технические ошибки, издательство не может гарантировать абсолютную точность и полноту приводимых сведений и не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.
Издательство не несет ответственности за доступность материалов, ссылки на которые вы можете найти в этой книге. На момент подготовки книги к изданию все ссылки на интернет-ресурсы были действующими.
О собрании сочинений Джозефа Кэмпбелла
Джозеф Кэмпбелл (1904–1987) оставил после себя впечатляющее количество опубликованных работ, посвященных делу его жизни – собранию универсальных мифов и символов, которые он называл «единой великой историей человечества». Однако существует и немало неизданных материалов: статьей, заметок, писем, дневников, а также аудио- и видеозаписей его лекций.
В 1990 году был основан Фонд Джозефа Кэмпбелла – Joseph Campbell Foundation (JCF). Его миссия – хранить и передавать будущим поколениям труды этого выдающегося человека. Сотрудники JCF взяли на себя обязательство создать цифровой архив его работ и записей и опубликовать полное собрание сочинений Джозефа Кэмпбелла.
Джон Бучер, исполнительный директор JCF. Брэдли Олсон, директор по публикациям JCF
Предисловие редактора
Каждый раз, когда человек ищет нечто надежное для установления основания своей жизни, он выбирает не факты, которыми изобилует мир, но мифы древнего воображения.
Джозеф Кэмпбелл. Маски Бога. Изначальная мифология
Джозеф Кэмпбелл – автор более двух десятков книг по мифологии и редактор еще десяти – пятнадцати (точное количество зависит от того, считаются ли отдельные работы в многотомных сборниках самостоятельными произведениями). В его самом известном труде «Тысячеликий герой» подробно раскрыты элементы повторяющейся сюжетной линии, которую Кэмпбелл выделил в мифах различных культур. Эта книга, опубликованная в 1949 году, оказала влияние на целые поколения писателей, режиссеров, художников, музыкантов и других творческих личностей, рассказывающих свои истории, и в общественном сознании Джозеф Кэмпбелл стал ассоциироваться с путешествием героя.
Но его взгляд на мифы выходит далеко за рамки странствий героя-одиночки. Для Кэмпбелла природа мифа отражает духовную природу людей. Он раз за разом подчеркивает, что мифология помогает прийти к более широкому пониманию и самого себя, и человечества в целом.
Кэмпбелл подчеркивал, что мифология – это не детские сказки и не атрибут древности, представляющий чисто научный интерес и не имеющий никакого значения для активных современных людей, ибо ее символы (будь то осязаемые образы или абстрактные идеи) задевают глубинные струны мотивации, трогая сердца грамотных и неграмотных, вдохновляя толпы, приводя в движение цивилизации[1].
Книги Кэмпбелла можно разделить на две категории. Есть глубокие, всесторонние, тщательно проработанные и снабженные большим количеством примечаний труды, созданные им при жизни: «Тысячеликий герой», «Маски Бога» в четырех томах или сборник научных эссе «Полет дикого гуся». Эти увлекательные и содержательные произведения я отношу к категории «написано Кэмпбеллом».
А еще есть категория «сказано Кэмпбеллом» – это работы, составленные на основе его интервью, лекций и дискуссий за круглым столом. Сюда относятся: книга «Мифы для жизни» (авторская редакция лекций Кэмпбелла, которые он читал с 1958 по 1971 год в колледже Купер-Юнион), печатное издание серии документальных фильмов «Джозеф Кэмпбелл и сила мифа» с Биллом Мойерсом, а также многие посмертные сборники Кэмпбелла (такие как «Путешествие героя», «Ты есть то», «Мифы о свете», «Пути к блаженству», «Богини» и «Роман о Граале»). Они затрагивают те же темы и столь же глубоки, что и работы категории «написано». И все же они, как правило, менее доскональны, в них отсутствуют исчерпывающие примечания, а обаятельный и остроумный стиль изложения делает их содержание понятным и доступным для более широкой аудитории.
Представленная вашему вниманию книга, призванная отразить всю широту видения Кэмпбелла, относится ко второй категории.
Мое участие в этом проекте началось в 2004 году. Президент Фонда Джозефа Кэмпбелла Роберт Уолтер предложил мне составить и отредактировать книгу на основе лекций Кэмпбелла – точнее, его ответов на многочисленные вопросы аудитории, – а также ряда малоизвестных аудио- и печатных интервью, которые он давал в последние семнадцать лет жизни.
Эта работа была куда сложнее, чем изучение пары лекций на определенную тему и изложение этого материала в одной главе. В течение нескольких лет я читал и перечитывал огромное количество расшифровок интервью, а также прослушивал многочасовые аудиозаписи и наконец отобрал около трех десятков бесед на самые разные темы (зачастую не имеющих четкой структуры, в отличие от лекций). Например, во время выездных презентаций книг местные журналисты не особенно интересовались толкованием мифов. В таких случаях Кэмпбелл парой слов отвечал на первоначальный вопрос, а затем переходил к тому, о чем, по его мнению, действительно следовало спросить. Разговаривая же с компетентным собеседником, он глубоко погружался в дискуссию. Речи Кэмпбелла и на официальных мероприятиях, и в неформальной обстановке всегда увлекали и завораживали слушателей.
Отобрав материал, я начал компоновать книгу. Естественно, в первую очередь нужно было исключить повторения, особенно в рассуждениях на излюбленные Кэмпбеллом темы. Иногда я обнаруживал практически одинаковые ответы на вопросы, заданные разными людьми в разное время и в разных местах, а также находил фразы, которые идеально дополняли мысль, не до конца раскрытую ранее.
Суть моей работы состоит в том, чтобы дать читателю более четкое представление об этом выдающемся человеке и его философии. Я решил создать поистине синкретичное произведение – выделить основные идеи, разбить их на части, а затем соединить снова, чтобы нарисовать более полную и динамичную картину взглядов Кэмпбелла на мифологию.
Это была очень непростая задача. Первые несколько лет я словно пытался собрать огромный пазл, не имея перед глазами картинки-подсказки. Постепенно на меня снизошло озарение: я понял, что во всех своих работах Джозеф Кэмпбелл исследует то, что можно назвать «единой великой историей человечества».
В этом проекте у меня было много помощников. В течение двадцати пяти лет я был администратором и/или модератором форумов, посвященных Кэмпбеллу и мифологии, на различных онлайн-платформах. Я слышал тысячи обстоятельных бесед и общался с огромным количеством людей, жаждущих узнать больше о творчестве и мировоззрении этого выдающегося человека, а также о том, как его убеждения могли повлиять на их жизни. Они часто делились со мной тем, о чем хотели бы спросить самого Кэмпбелла.
И у них наконец появилась такая возможность. Вопросы, составляющие основу книги, – это нить, на которую нанизываются истории Кэмпбелла, его представления о мифах и образы, которыми он с нами делится. Их можно разделить на три группы. Первая группа – вопросы, взятые из материалов научных лекций, хотя и в сильно сокращенной форме (многие из них изначально занимали полстраницы, если не меньше). В этой книге они сформулированы кратко и по существу. В центре внимания всегда находится Джозеф Кэмпбелл и его представления, а вопросы просто подводят к рассуждению на ту или иную тему. Вторая группа – вопросы, отражающие интерес широкой публики. Их задают обычные люди без ученых степеней: дальнобойщики, продавцы, пасторы, музыканты, киноманы, геймеры и так далее. Третью группу составляют вопросы, сами рождающиеся в ходе раскрытия той или иной темы. Они помогают наводить мосты между связанными идеями и направлять обсуждение.
В этой книге семь глав. В главе 1 – «Азы мифологии» – объясняются основные понятия. (Что такое миф? Откуда берутся мифы? Какой цели они служат?)
Глава 2 – «Краткое изложение всего» – посвящена историческому развитию мифологии.
В главе 3 – «Мифология, воспринимаемая буквально» – рассматривается связь между мифом и религией, включая извечный вопрос о Боге.
В главе 4 – «Да будет так!» – происходит переход от осязаемой формы мифических образов к абстракциям идей: здесь Кэмпбелл рассуждает о развитии философии, начиная с Канта, и ее влиянии на литературу и психологию.
Глава 5 – «Обращение внутрь себя» – посвящена знаменитому путешествию героя. (Как Кэмпбелл пришел к этой мысли? Как это вписывается в современную жизнь? Как это влияет на писателей и кинорежиссеров?) Здесь также собраны рассуждения об искусстве и творчестве.
В главе 6 – «Усложним сюжет» – рассматриваются вопросы, актуальные для современного мира: отношения между наукой и мифологией, мифологические основы демократии в Соединенных Штатах, мифология войны и возможность появления новой, подлинной, живой мифологии в будущем.
И наконец, в главе 7 – «Курс расширился» – Кэмпбелл рассказывает о своей жизни и карьере.
Джозеф Кэмпбелл родился в 1904 году, и его манера речи отражает дух того времени. Иногда его формулировки звучат старомодно или даже нетактично по сегодняшним меркам. Так, во времена Кэмпбелла слово «культ» не имело негативного подтекста, а было антропологическим термином, обозначающим определенную систему религиозного поклонения (например, культ Митры или христианский культ); слово «мужество» относилось ко всем людям независимо от пола – и никак не обесценивало женщин; а термины «Запад» и «Восток» употреблялись учеными для обозначения соответствующих территорий и не имели ничего общего с евроцентризмом.
На закате жизни Джозефа Кэмпбелла в научных кругах и в общественном сознании произошли серьезные изменения. В одном из последних выступлений, которое я прослушал, он признался в том, что сознательно старался называть ранние культуры не примитивными, а первобытными[2] из уважения к друзьям из сообщества коренных американцев (оказалось, что им больно слышать из уст антропологов, историков и других ученых, рассуждающих об их народе, слово «примитивный»). У Кэмпбелла и в мыслях не было кого-то обижать, и все же изменить давние привычки – задача не из легких.
Таких примеров немного, но если вы все-таки встретите слово или понятие, которое покажется вам уничижительным, будьте снисходительны; судите о Кэмпбелле не по современным стандартам, а исходя из законов его времени.
Многие рассуждения, которые вы найдете в этой книге, ранее не публиковались. Читатели, еще не знакомые с Джозефом Кэмпбеллом, наверняка проникнутся его взглядами, а его давние поклонники откроют для себя новые глубины его философии.
Я хотел бы выразить признательность бывшему президенту Фонда Джозефа Кэмпбелла Роберту Уолтеру за то, что он создал этот уникальный проект и оказывал неизменную поддержку тем, кто его осуществлял. Спасибо Дэвиду Кудлеру за редакторское руководство; Джимми Максвеллу – за монтаж аудиозаписей; Линн Такер, Тимоти Холлфорду, Терри Лэптону и Хелен Максвелл – за вклад в подготовку расшифровок зачастую нечетких записей; Илье Смирнофф и Джону Бучеру – за отзывы и бесценные предложения; моей жене Дестини – за поддержку и понимание; и, конечно, Джозефу Кэмпбеллу – за то, что он всю жизнь следовал своему призванию и делился с нами плодами своих трудов.
Стивен Герринджер, общественный координатор JCF и автор книги «Миф и современная жизнь: краткий сборник рассуждений Дж. Кэмпбелла». 30 октября 2022 года
Глава 1. Азы мифологии
Сейчас многие считают мифы пережитком прошлого – запылившейся от времени областью исследований, которую лучше оставить ученым, – и все же ваша книга «Тысячеликий герой», впервые опубликованная в 1949 году, по-прежнему пользуется популярностью у читателей. Как вы объясните такой интерес к мифологии?
Уйдя из университета, я начал ездить с лекциями по всей стране – и везде отмечаю пристальное внимание публики. Я преподаю этот предмет уже около пятидесяти лет и по собственному опыту могу сказать, что люди, попавшие в мифологическое измерение, становятся счастливее и радостнее. Им словно удается глубже раскрыть внутренний потенциал. Они обретают спасительную уверенность в своих силах и по-новому ощущают ценность человеческого бытия.
Как бы вы определили миф?
Миф – это универсальный язык, который в разных обществах приобретает локальные формы, а не просто воплощение фантазий. Миф – это иллюзорный символ, легенда, являющаяся частью других легенд, которые вместе составляют мифологию.
Мифология – это организация символических образов и повествований, метафорически описывающих разнообразные физические испытания и нравственные переживания человека, а также возможности для его самореализации в данном обществе в данное время.
Мифология поднимает перед представителями той или иной культуры глубокие вопросы, решать которые гораздо сложнее, чем повседневные проблемы экономической и политической жизни. Культуры рождаются из мифологии, а не из экономики. Культура определяется динамикой человеческого духа, и эта динамика активируется и достигает наивысшего пика благодаря тому, что выходит за рамки экономических вопросов. Хотя экономику и политику также можно рассматривать как области проявления духовных возможностей людей.
Осознав, что каждая из ранних цивилизаций была основана на мифологии, вы почувствуете великую силу наследия человечества.
Экономика всегда отходит на второй план по сравнению с мифологией?
Экономические ценности общества определяются его мифологией. То, что вы собираетесь продавать и на чем решаете зарабатывать, зависит от того, чего хотят люди. А то, чего они хотят, есть отражение их ценностей. Если люди жаждут распятий, что ж, совершайте распятия. Если же им нужны телевизоры, производите телевизоры. Мифология задает ориентиры жизни.
Возьмем, к примеру, Индию. Жители этой страны голодают. Но они отказываются есть мясо. Мясо буквально ходит вокруг них, и вездесущие коровы едят пищу, которой так не хватает индусам. Попробуйте объяснить это с экономической точки зрения.
Почему вы называете повторяющиеся темы мифов элементами универсального языка?
Поскольку мифы сопровождают меня всю жизнь, я замечаю в них определенные универсальные образы и закономерности. Слова шамана индейцев навахо или племени конго будут очень похожи на проповеди Николая Кузанского и Фомы Аквинского или на рассуждения Карла Юнга – нам просто необходимо осознать, что эти области познания являются общими для человеческой расы.
Мое внимание всегда захватывало постоянное повторение определенных тем и мотивов в литературе, мифологии и религиях. Эти мотивы являются метафорами силы и тайн, присущих человеческому духу.
Можете привести пример универсального образа?
Возьмем миф о потопе – он встречается практически везде, за исключением некоторых крошечных территорий. Приведу несколько примеров из мифологии народов, живущих на большом расстоянии друг от друга.
У черноногих индейцев Монтаны, США, есть история о потопе, которая рассказывалась задолго до прихода белого человека. Ее герой – сам Творец, которого они называли Стариком. В их преданиях он предстает как одинокая, призрачная фигура, блуждающая по земле на заре ее существования, придающая форму горам и долинам рек, создающая животных и дарующая им имена. Когда начался потоп, Старик соорудил плот, взял с собой нескольких зверей, и какое-то время они плавали по бескрайним просторам.
Вода все не убывала. Старик стал размышлять о том, как создать новую землю. Он попросил ондатру достать немного ила со дна. Ее не было долго-долго. Она вынырнула на поверхность, совершенно обессилев, и сказала, что не смогла найти дна.
Тогда Старик послал на дно морскую птицу, но та погибла. Затем пришла очередь черепахи. Ее тоже не было долго-долго. Когда черепаха выплыла на поверхность, оказалось, что она мертва. Но во рту у нее было немного ила. Старик произнес заклинание, взмахнул рукой, и ил закружился по поверхности воды, превращаясь в сушу. Твердой земли становилось все больше, и больше, и больше.
Через несколько дней Старик подумал: «Наверное, хватит». Он послал на сушу лиса и стал ждать его возвращения. Лис вернулся через один день. «Еще недостаточно», – решил Старик и снова закрутил илистую твердь. Через три или четыре дня он опять отправил лиса на сушу. Тот вернулся через неделю. Когда Старик выпустил лиса в третий раз, тот уже не вернулся. И Старик сказал: «Выходим на берег!» Там лежал новый мир и начиналась новая жизнь.
Не может ли этот миф быть просто искаженной версией библейской истории о Ноевом ковчеге?
Эта легенда появилась задолго до того, как черноногие узнали о ветхозаветных преданиях. Предполагается, что индейцы впервые появились на Американском континенте около 20 000 лет до н. э. и в последующие столетия постоянно кочевали.
В этой истории героем является сам Творец. Его собственное творение выходит из-под контроля – все, так сказать, идет наперекосяк.
Но существуют и другие мифы о наводнениях, поглотивших человеческие цивилизации. Обычно потоп является наказанием за преступление против божества или демона – демона, разгневанного людьми. Например, на Андаманских островах в Бенгальском заливе живет одно племя. У него тоже есть предание о потопе. Этот народ не смеет шуметь, когда поет цикада. Однажды их предок ослушался запрета. И разгневанные боги наслали великое наводнение. С нашей точки зрения, это, конечно, слишком суровая кара за столь мелкий проступок.
У людей возникла серьезная проблема: им надо было поддерживать огонь, ведь они не знали, как развести новый. Женщина собрала тлеющие угли в котел, взобралась с ним на самое высокое в мире дерево, и за ней последовали все ее соплеменники. Во время потопа лишь верхушка этого дерева возвышалась над водой. Когда вода ушла, люди снова спустились на сушу. И цивилизация начала жизнь с чистого листа.
Эти древние предания существовали на протяжении тысячелетий.
Да, они передавались из поколения в поколение.
Как вы думаете, такие повествования обрастали со временем новыми подробностями?
Описания потопов значительно отличаются в разных местностях и у разных рассказчиков. Вариаций очень и очень много. И все же в мифе о потопе четко прослеживаются фундаментальные закономерности.
Какой миф о потопе появился раньше всех?
Старейшая из записанных историй о потопе, ниспосланном богами верхнего мира, была найдена на разбитой глиняной табличке времен шумерской цивилизации[3] на раскопках одного из древних городов Месопотамии. Теперь известно, что великое наводнение наслали разгневанные боги, но мы не знаем почему: осколок с этой частью предания утерян.
Бог подземных вод – Энки – сжалился над человечеством. Он явился благочестивому и смиренному царю по имени Зиусудра[4] и научил его, как построить огромную лодку. Зиусудра посадил туда своих родных и животных, обитавших в тех местах, и они поплыли по бескрайним водам. Через много-много недель вода ушла, и царь со всем семейством высадился на берег. Они совершили подношения божествам верхнего мира, которые наслали потоп. В благодарность те сделали их бессмертными и даровали им место вечного пребывания – Дильмун, страну восходящего солнца. Эта история более чем на тысячу лет старше библейской. Она датируется примерно 2000 годом до н. э., и многие ученые считают, что предание о Ное и Всемирном потопе является ее вариацией. В отличие от политеистической теологии, в которой множество божеств конфликтуют друг с другом, библейская история развивает тему единого Бога, разгневавшегося на человечество, но спасшего одного праведника, которому было под силу возродить мир.
Вода всегда играет в мифах разрушительную роль?
Большинство циклических мифов заканчиваются потопом и начинаются после потопа. Во множестве преданий именно вода является началом всего. В условиях засушливой пустыни, где вода в прямом смысле является символом жизни, города всегда строятся у источников. Все сосредоточивается вокруг воды, к тому же она поступает из глубин океана и, таким образом, становится и важнейшим экономическим фактором, и мощным духовным символом.
Есть ли в нашей культуре мифологический образ или обряд, в основе которого лежит этот символ?
Да, христианское крещение. Это таинство восходит к древней Вавилонии и еще более древнему Шумеру – к обрядам в честь бога Эа, владыки бездонных вод. С ним были связаны особые ритуалы, включая прототип крещения: погружение в воду и выход из нее – своего рода возвращение в лоно матери и перерождение.
Удивительно, но факт: в халдейский период, с VI по V век до н. э., бога Эа звали Оаннес. Если поставить букву «и» перед «o» и убрать окончание «ес», то получится «Иоанн». Таким образом можно сказать, что Иоанн Креститель унаследовал роль Эа, владыки бездонных вод, который дает второе рождение – рождение к духовной жизни.
Иисус в одной из проповедей прямо использует тот же образ: «Тот, кто не рожден от воды и духа, не может войти в Царство Небесное»[5].
Подчеркивая универсальные закономерности, общие для всех мифологий, не пренебрегаем ли мы уникальностью культуры?
Если говорить упрощенно, существует два противоречащих друг другу подхода к мифологии. Первый – исторический. Он предполагает изучение местных, этнических трансформаций великих мифологических сюжетов. Этот подход всегда вызывал у меня недоумение. Второй связан с непосредственной психологической значимостью мифологических символов. Возникает вопрос: как эти символы воздействуют на нас изо дня в день?
Я всю жизнь изучал верования разных народов в самых разных уголках мира – и получал от этого огромное удовольствие. Меня всегда завораживали мифы американских индейцев. Я был воспитан в католической вере и уже в детстве заметил одни и те же сюжеты в легендах американских индейцев и Священном Писании. Несколько лет спустя я увлекся индуизмом и буддизмом и снова заметил сходство. Затем, перейдя от многолетнего изучения восточной мысли к философии Древней Греции, я обнаружил все те же основные идеи. Они действительно одинаковы, и никто не сможет мне возразить. При этом они были по-разному сформулированы и по-разному применялись в обществе. Именно в этом заключается местный дифференцирующий фактор, который так тщательно изучают антропологи и историки.
Размышляя о судьбах человечества с точки зрения психологии, мы повсюду замечаем одни и те же символы, и перед нами встает чрезвычайно важный вопрос: если сознание трансформирует не язык, а образ, верно ли, что именно воздействие образа является первичным?
Постигнув суть мифологии и поняв, что то, о чем говорят «здесь», есть то же самое, о чем говорят «там», вы перестанете спорить о формулировках.
Роль мифологии
Почему одни и те же мифические образы повторяются у разных народов на протяжении истории? Какую роль миф играет в культуре и продолжает ли он играть эту роль сегодня?
Давайте сначала попытаемся разобраться в путаном понятии мифа.
Мифология всегда развивается в ограниченных пределах. В прошлом мифологическая система любого племени или культуры выполняла четыре функции.
Первая – мистическая, она связана с постепенным осознанием существования таинственного измерения, которое все превосходит и наполняет все смыслом. Вторая – космологическая, ее необходимо постоянно обновлять, то есть видеть Вселенную такой, какой ее представляет современная наука (например, по сравнению с космологией трехслойного праздничного торта бронзового века из Книги Бытия). Третья – социологическая: любое верование возникает в ограниченных пределах для определенного народа. Четвертая функция – педагогическая: мифология призвана помогать человеку преодолевать неизбежные кризисы этапов жизни в современном ему мире и гармонично направлять его, давать представления об истинных благах, ценностях и искушениях. Речь идет об архетипах и основных нравственных проблемах, с которыми сталкиваются все люди, где бы они ни находились.
Не могли бы вы подробнее остановиться на каждой из функций мифологии?
Первая и самая важная функция – мистическая, или метафизическая. Она связывает пробуждающееся сознание человека с великой загадкой Вселенной, открывает разум и сердце непостижимому чуду всего сущего, зарождает и подпитывает в человеке чувство благоговения и благодарности за тайну жизни, тайну существования, тайну мироздания – тайну его самости.
Любая часть может стать символом целого. Например, для Данте красота Беатриче стала ключом к осознанию божественной любви как движущей силы мироздания. Структура мифа появляется только тогда, когда панорама мира – и ощущение присутствия в нем – открывает людям ту таинственную область, из которой исходят энергии, наполняющие тело и формирующие Вселенную.
Вторая, космологическая, функция – это представление некоего понятного образа или картины мира. В примитивных культурах отношения между мужчиной и женщиной часто рассматриваются как отражение природы естества: Отец Небо и Мать Земля вступают в брачный союз и создают Вселенную.
Эта вторая – космологическая – функция тесно переплетается с первой?
Возможно. Первая – мистическая функция благоговения. А вторая – функция представления образа космоса, через который будет передаваться это благоговение, так что сама Вселенная станет восприниматься как нечто священное. Каждый ее аспект будет раскрываться в этом таинственном измерении, позволяя нам постичь ее тайну и c благодарностью ощутить себя ее частью.
Когда человек пресыщается жизнью, он забывает о том, что ему дана привилегия пользоваться ее дарами, и о том, что они вообще существуют. Задача великих мифологий – сохранить смысл бытия. Например, вы можете просто сесть за стол, пообедать и отставить тарелку. А можете произнести молитву перед едой и осознать, что вам ниспослан чудесный дар. Или же если вы, словно древний человек, подумаете о животном, которое отдало свою жизнь, чтобы быть съеденным вами и стать вашей жизнью, то ощутите чудесную гармонию с тем, что находится за пределами вас самих.
Эта функция мифа недостаточно поддерживается современным обществом.
Верно, и вот почему. Общество не учит нас тому, как соотносить себя с трансцендентным – с тем, что лежит за пределами осязаемого мира фактов. Не делает этого и духовенство. Священнослужители связывают образные представления с реальными событиями, придерживаясь той или иной традиции. Они цепляются за прозу.
Мифология не только открывает перед нами то, что находится за пределами человеческого опыта, но и создает определенную картину Вселенной. Конечно, традиционная модель мироздания безнадежно устарела. Она появилась примерно в 2000 году до н. э. Космические образы в мифологии должны быть современными, в противном случае они не работают – в них будет невозможно поверить. Если человек не может соотнести некоторые понятия с текущей действительностью, они просто не уложатся у него в голове.
Зайдите в любую церковь или синагогу, и вы увидите, что священнослужители придерживаются архаичной концепции Вселенной вопреки научным открытиям. Религия сопротивляется науке еще со времен эллинизма. Только представьте: когда писалась первая глава Ветхого Завета, греки уже научились измерять окружность Земли с точностью до пары сотен километров! В Книге Бытия дается заведомо устаревшее представление о форме космоса и о том, как он возник, а затем на этом представлении выстраивается целая религиозная система. Вспомните, что произошло в 1543 году, когда Коперник предложил гелиоцентрическую модель мира. Поскольку религиозные доктрины основывались на пошатнувшейся геоцентрической модели, церковь начала преследовать ученых.
Итак, человек должен чувствовать себя комфортно в своей вселенной как духовно, так и физически. Но как ему быть, если религия не поддерживает реальную картину мироздания, а борется с ней? В старой системе существовало представление о том, что люди созданы как особый вид живых существ. И появление теории эволюции в конце XVIII – начале XIX века, казалось, подрывало основы веры. Наличие родственной связи с животными было неприемлемым в нашей традиции, хотя в Индии, например, это уже давно считалось само собой разумеющимся.
Таким образом, научные открытия действительно проникают в мир мифологии. Они влияют на представление о нашем месте в жизни, независимо от того, считаем ли мы человека особым созданием, превосходящим животных, или существом, связанным не только с фауной, но и с флорой, и с миром природы в целом. Вот в чем состоит космологическая функция мифологии.
А ее третья функция?
Третья – социологическая – функция мифологии заключается в утверждении и обеспечении соблюдения определенного общественного и морального уклада. Пример, который сразу приходит на ум, – скрижали с десятью заповедями, переданные Моисею самим Богом.
Социологическая функция поддерживает морально-этическую систему общества, к которому принадлежит человек. Поэтому, определяя свою социальную группу, вы определяете и круг своих верований. Отождествление индивида с группой является и мифологическим актом. Один человек причисляет себя к одной группе, другой – к другой, и каждый действует в соответствии с ее устоями, которые не всегда поддаются рациональному обоснованию.
Обычно считается, что социальный порядок в традиционных культурах дарован Богом, а законы общества неизменны и ниспосланы свыше, как и законы мироздания, – их невозможно разработать в Сенате или палате представителей. Обряды, ритуалы, моральные устои – все подобающие и неподобающие деяния – это божественный завет. В нашем мире считается, что Бог создал мир и даровал закон. В Индии, где нет представлений о Творце – где мир распускается подобно цветку, а затем увядает и распускается вновь, – неотъемлемой частью естественного безличного хода бытия является кастовая система.
Разве сегодня где-то еще существует мифологически обоснованный социальный порядок?
Это и проблема, и поразительная особенность современного мира: мы словно находимся в состоянии свободного падения, от которого захватывает дух.
Любая мифология адресовывается определенной группе, которая должна выполнять определенные функции. Но социальный порядок и потребности общества меняются так быстро, что приверженность вчерашним добродетелям сегодня может превратить вас в грешника. То, что позавчера считалось благом, зачастую становится угрозой. И сейчас от нас требуется сохранять здравый смысл, в то время как в архаичных культурах наблюдалось бесконечное главенство порядка.
Более ранние обряды отображают функции человека – жизненную роль, которую он добровольно примеряет на себя. Теперь эти функции не подкрепляются мифологическими образами, и все идет наперекосяк. В практической, повседневной жизни у человека возникает потребность в знании, помогающем понять истинную суть ситуации, в которую он попал.
Это связано с социальной функцией мифа давать людям модели существования, которым можно следовать. Образ жизни владельца ранчо или колониста сложился из реальных ситуаций в прошлом, которых больше не существует. Дело в том, что социальные роли меняются очень, очень быстро (они так же мимолетны, как женская мода – каждый год новая длина платья). Построить на такой основе содержательный миф невозможно. С колонизацией уже покончено, мы живем в совершенно другой обстановке. Каковы теперь законы бытия?
Жизненный путь современного человека зачастую оказывается вовсе не таким, каким он его себе представлял. Пути преподавателя и писателя, по которым иду я, сильно отличаются от картины, которую я себе нарисовал в старые добрые времена, когда впервые задумался о своем призвании. Едва ли мы сможем возвыситься духом или постичь глубины знания, хранимого мифами древности, зацикливаясь на своих профессиях.
Как вписывается в этот пазл четвертая функция мифологии?
Четвертая – психолого-педагогическая – функция мифологии заключается в том, чтобы помогать людям проходить неизбежные этапы жизни: подчинение в детстве, ответственность во взрослом возрасте, мудрость в старости, преодоление последнего предела на смертном одре. В каждой культуре есть обряды посвящения и связанные с ними мифы, которые удовлетворяют эту потребность.
Но проходить эти этапы жизни нужно в соответствии с законами конкретного общества, к которому принадлежит человек. Нет смысла заставлять всех пытаться быть американскими индейцами. Прочитав «Дао дэ цзин»[6], многие решают стать китайцами. Мои друзья, увлеченные «Бхагавадгитой»[7], начинают носить тюрбаны, и меня это ужасно раздражает!
Первая универсальная экзистенциальная реальность – это тайна рождения. Поверьте мне, загадка появления на свет нового существа есть нечто большее, чем биологический феномен. И задачей каждой культуры – везде и во веки веков – было соотнести это маленькое естественное событие с законами общества. Вот тут-то и возникает проблема: в какое именно общество нужно его вписать? Местные мифы подчеркивают: вы входите в наше общество, идете нашим путем. (Было бы неплохо, если бы общество не считало себя единственной группой людей, частью которой стоит становиться.)
Каждое общество вынуждено сопровождать новорожденного на неизбежном пути роста – детство, отрочество, вступление в брак (начало взрослой жизни), – а затем двигаться с человеком дальше, освобождая его от привязанности к земным благам и, наконец, готовя к переходу в мир иной. В любой традиционной мифологии уход – это не потеря, а обретение внутренней жизни. Смерть – это не конец. Человек теряет лишь бренное тело. Но его сознание становится все более и более самодостаточным. Правильная мифология подсказывает, как нужно встречать смерть.
Эти четыре функции являются азами мифологии. Если в условиях современной действительности они не выполняются, нам словно чего-то не хватает.
Значит, обряды инициации в первобытных культурах относятся к четвертой функции?
Возможно. Мальчику нужно полностью разорвать связь с матерью, чтобы стать мужчиной. И не просто мужчиной, а человеком, готовым на серьезный риск и преодоление множества опасностей. Во время обряда инициации у мальчика «забирали» тело ребенка.
Я как-то читал, что индейцы манданы подвергали юношей суровым испытаниям, объясняя это так: «Наши женщины страдают, и мы тоже должны страдать». А в первобытных племенах Бразилии обряды совершеннолетия называют мужскими менструациями. Это означает, что мальчики теряют уверенность в себе и способность к самоопределению; что-то берет над ними верх. Они становятся посредниками чего-то. Женщины превращаются в действующую силу Природы. А мужчины – в членов общества, в котором женщины дают жизнь. По сути, это мифологический вопрос.
Во многих первобытных культурах женщины во время менструации считались «нечистыми». Разве это не принижение роли женщин?
Нет. Вся жизнь нечиста. Все, что характеризуется как жизненно важное, нечисто.
Опять же слово «нечистый» следует понимать в его мистическом смысле: то, что считается нечистым и запретным, исполнено такой силы, и потому с ним опасно соприкасаться. Итак, менструация – это первая нечистота. Но речь идет не о грязи, а о силе.
Первая менструация у женщин всего мира – важное событие. В этот момент девочка теряет контроль над своим телом. Она больше не принадлежит себе, а становится орудием некоего процесса. Природа берет над ней верх.
Джеймс Джордж Фрэзер[8] очень четко описывает это в фундаментальном труде «Золотая ветвь». Когда у юной девушки начинается первая менструация, ее отводят в специальную хижину, вокруг которой женщины пускаются в пляс. На это есть две причины: девочка обретает силу, от которой следует защитить и общество, и ее саму, а также она должна осознать, что с ней происходит и кто она такая.
Я бы сказал – надеюсь, меня не начнут опрометчиво цитировать,– что жизнь застает женщину врасплох и подчиняет себе. Волей-неволей девочка превращается в женщину: у нее начинается менструация, а через несколько месяцев она беременеет и рожает. Она становится матерью, от которой ей не нужно отрываться,– она сама превращается в Великую Мать.
У мальчика все по-другому. Когда приходит время становиться мужчиной, он должен что-то сделать. Природа ни в чем не берет над ним верх. Когда юноша проходит инициацию, им овладевает общество – общество мужчин. Ему говорят: «Послушай, парень, ты больше не тот, кем себя считал». Обряды мужской инициации всегда более суровы по сравнению с женскими ритуалами. Мальчику приказывают взять или принести что-то опасное; его избивают, его тело меняется, и только тогда он становится орудием общественного порядка.
Женщина олицетворяет саму Природу. Мужчина олицетворяет общество и разделение – общество, настроенное против другого общества. Его миссия – совершать достижения и доказывать, что он здесь главный. У женщин нет нужды доказывать свое превосходство; среди них просто есть те, кто мудрее, кто знает больше, чем другие.
В культуре, где все живое тесно переплетено и где главенствует плоть, преодолеть некий рубеж – уйти и побыть какое-то время на мужской земле, найти свое место и пожить там, где рядом нет женщин, – трудная задача. Юноша обретает стержень и после этого может вернуться в общину. Так «маменькин сынок» превращается в мужчину.
Получается, что по крайней мере в более ранних культурах гендерные роли определяла биология человека?
Богиня – это олицетворение того, что воплощено в каждой женщине. Это целая структура энергий, проходящих через ее тело. И поскольку именно женщина рождает и питает свое дитя, женское начало ассоциируется с силами земли, которая рождает и питает нас. Соответственно, женщина принадлежит миру семян и всходов. Она – трансформер, превращающий сперму в жизнь и кровь, это ее мифологическая роль.
Само женское тело служит такой миссии. Мужское – нет. Благодаря «комплектации» ниже пояса у него нет такой биологической функции. Мужчина ассоциируется с защитой и сознательными действиями. Поэтому, как правило, в мифологическом контексте мужчина – это тот, кто оберегает жизненную силу, заключенную в женщине.
На протяжении тысячелетий характерными атрибутами человеческого бытия были войны, борьба, тяжкий труд, освоение территорий, строительство зданий и так далее. Все это – работа мужчины. Он должен ее делать, он создан для этого. А женщина для этого не создана. Она окружена детьми, ее задача – рожать и вскармливать. Ее действия не являются сознательными. Она подчинена жизни. И потому ее роль заключается в том, чтобы поддерживать, продолжать и подпитывать жизнь. А задача мужчины – создавать и защищать пространство, на котором все это может происходить.
Мужчина должен действовать сознательно. И потому его следует приучать к сознательности. Женщину нужно приучать принимать суть происходящего и понимать, почему происходит то, что происходит.
Разве современная культура не вышла за рамки традиционных мифологических ролей?
Можно сказать, что сегодня происходит так называемая «контаминация областей жизнедеятельности». Это то, чего в ранних обществах избегали как огня. Женщинам не разрешалось даже прикасаться к оружию мужчин, чтобы не допустить психологической контаминации. Области жизнедеятельности человека были четко разграничены.
Когда я был совсем маленьким, секретарями служили мужчины. Потом за пишущие машинки сели женщины и даже начали курить сигареты. Помнится, моя мама как-то воскликнула: «Что же будет дальше? – и добавила: – Это начало конца». Так оно и случилось. Произошла контаминация – слияние разнородных областей в новую совокупность.
Теперь, конечно, мы знаем: когда одна форма теряет четкие очертания, появляется другая. Возможно, мы участвуем в рождении чего-то нового.
Каждый человек в течение жизни все еще проходит своего рода инициации: рождение, совершеннолетие, отношения, семья, старение и смерть. Где искать мифологию, которая помогла бы нам со всем этим справиться?
Не думаю, что когда-либо появится всеобъемлющая мифология, подходящая для всех людей. Единая мифология может существовать только при наличии единого опыта. Члены небольших закрытых обществ были погружены в одну и ту же социальную и визуальную реальность. Если бы все люди занимались разведением коров и овец, окружающая действительность каждого человека представляла бы собой сельскую идиллию. Но современный мир настолько неоднороден, что мало кто разделяет одно и то же восприятие реальности. Плюрализм не позволяет создать единый миф.
Калейдоскоп возможностей и возможных жизней, а также то, как они меняются от десятилетия к десятилетию, делает мифологизацию невозможной. Человек просто идет наугад. Это как играть в футбол в чистом поле, где нет ни разметки, ни правил и нужно следить за каждым шагом. Вы можете углубиться лишь в свою собственную духовную жизнь и стараться не изменять себе.
Нам не под силу создать единую всеобъемлющую мифологию, но мы можем по крайней мере обратиться к первоисточнику мифа – к творческому воображению.
Как это сделать?
Обращать пристальное внимание на внутреннее развитие и тщательно выбирать те аспекты унаследованной традиции, которые подпитывают нашу духовность. Я говорю не о привязанности к тому или иному укладу жизни. Видите ли, я сторонник сравнительного изучения мифологии. Думаю, одна из проблем современности заключается в том, что общество перешло к мультикультурным отношениям, и из-за этого такие ограниченные культурой мифологические системы, как христианство, иудаизм или индуизм, становятся архаичными.
С точки зрения общества священное – это объект или система объектов, которые были созданы для интеграции духовной жизни отдельных людей в функционирование социума. Но для индивидуума священным является лишь то, что обретает глубокий смысл лично для него.
Познакомившись с системой своих побуждений и ее образами, поняв истинный смысл своей жизни, вы сможете найти точки соприкосновения вашей личной мифологии с другими мифологиями человечества и получите ответы на многие универсальные вопросы. А руководством для вас послужат легенды и мифы, воплощенные в сокровищах западного искусства и литературы, в иудаизме, исламе и христианстве, в восточных учениях и первобытных обрядах.
Истоки мифа
Откуда берутся мифы?
Я полагаю, что мифологическое мышление зародилось благодаря переживанию смерти. Каково это – видеть бездыханное, холодное, начинающее разлагаться тело того, кто еще вчера разговаривал с тобой? Куда ушла жизнь? Именно в этот момент появился миф.
Возможно, это произошло в пещерах эпохи палеолита, когда люди начали хоронить умерших и спрашивать себя, не существует ли чего-то большего, чем телесная оболочка. И что будет, если осознать это до, а не после смерти?
В сборнике «Полет дикого гуся»[9] я назвал небольшое смещение фокуса, когда мы стоим на некоем пороге, мифологическим измерением. В нас обоих одна и та же жизнь, не так ли? И один и тот же разум – иначе мы не смогли бы разговаривать друг с другом. У нас это почему-то считается само собой разумеющимся. Но не в мифологии. В мифологии акцент делается на том, что это не само собой разумеющееся, и потому представление о жизни полностью меняется.
В какую историческую эпоху произошло это смещение фокуса?
Самыми ранними свидетельствами зарождения мифологического опыта и мифологического мышления, которыми мы располагаем, являются захоронения неандертальцев и святилища с черепами пещерных медведей. Их возраст может составлять более 100 тысяч лет, или даже они могут относиться к последней ледниковой эпохе (времени вюрмского оледенения в Альпах).
Если вас хоронят c предметами домашнего обихода, значит, смерть – это еще не конец. Также интересно, что найденные высоко в горах небольшие пещеры с черепами медведей датируются примерно тем же периодом. Медведи ходят на задних лапах и чем-то похожи на человека. Вероятно, они были первыми почитаемыми существами на планете. Найдены гробницы с черепами медведей и могильники, заполненные останками людей и обложенные камнями, – свидетельства веры в загробную жизнь и человека, и животного. Именно тогда появился миф.
Эта тема волнует нас и сегодня…
У Арнольда Бёклина есть замечательный автопортрет. На нем он держит палитру и кисть, а Смерть играет ему на скрипке. Это означает, что наши глаза должны быть открыты для чего-то более возвышенного, чем ничтожные волнения и превратности судьбы. Внимая музыке, которая выходит за рамки цикла земного бытия, человек вступает на путь мудрости. Вы можете услышать и истолковать эту песнь не с точки зрения бедствий или благ вашего личного существования, а как послание о том, что есть жизнь.
О, это прекрасные звуки! Это и есть мифология. Это – мифологическое измерение.
Как вы думаете, что происходит, когда наступает смерть?
Я думаю, что в этот момент сознание отделяется от тела.
А что потом?
Не знаю.
Вы не беспокоитесь о смерти? Вы верите в реинкарнацию?
Я уже достаточно пожил и не считаю смерть поводом для беспокойства. Что касается реинкарнации, это мифический образ. Я не верю в буквальное воплощение мифических образов. Для меня суть реинкарнации в том, что человек не может постичь глубокий смысл и масштабы своего существования, прожив всего одну жизнь. Это великое таинство, в котором мы участвуем.
Можно ли сказать, что мифологизация смерти и тому подобных вещей в конечном счете рождается в нашем воображении?
Я рассматриваю мифологию как функцию биологии.
Биологии, не воображения?
О да! Это биологическое явление. Это перевод биологических импульсов в форму повествования.
Как это происходит?
Воображение – это продукт нашего тела. Жизненные энергии, которые порождают фантазии, исходят от внутренних органов. Эти энергии сродни неким толчкам. Каждый из них – побуждение к действию. Различные энергии наполняют каждый орган и управляют им. Так вот, они не всегда находятся в гармонии друг с другом. Энергии одного органа могут вступать в конфликт с энергиями другого, и между внутренними энергиями могут возникать противостояния.
Один из органов – это, конечно же, мозг. Задумайтесь о различных побуждениях, которыми мы руководствуемся, – половом влечении, стремлении побеждать, инстинкте самосохранении, – а затем об идеалах, представляющихся нам целями, ради которых стоит жить, придающих ценность жизни. Эти силы внутри нас вступают в конфликт. Функция мифологических образов – координировать энергии тела так, чтобы наша жизнь была гармоничной и плодотворной, чтобы она проходила в согласии с обществом и с великой загадкой появления на свет каждого нового человека (каковы возможности этой конкретной человеческой жизни?).
Мифология помогает нам существовать в обществе и в мире природы, который находится как вокруг, так и внутри нас (я имею в виду органы тела); а также она является проводником человека на всех этапах его жизни, от детства до зрелости, вплоть до последнего порога. Мифологический порядок помогает нам понять, где мы находимся. В юности и в старости нами управляют разные энергии. Мы проходим естественный процесс трансформации. У всех людей во всем мире в то или иное время доминируют то одни органы, то другие, то третьи – и это лежит в основе архетипологии мифа.
Можно сказать, что мифология – это формула гармонизации жизненных энергий.
Значит, мифологические образы все еще имеют ценность для нас как индивидуумов?
Я думаю, что мифология в первую очередь помогает осознать суть нашего бытия и заглянуть в глубины сознания, которых не достичь, если ориентироваться на более поверхностные и приземленные экономические, политические и социальные законы жизни. Но есть и другие измерения, ключом к которым служат символы мифологии – они открывают измерения нашей духовной жизни.
В конце концов, мифы изначально возникли из сновидческого сознания человека. Внутри каждого из нас есть то, что Юнг называл коллективным бессознательным. Мы не просто индивидуумы, чьи подсознательные намерения перекликаются с определенной социальной средой. Мы также являемся представителями вида Homo sapiens. Эта универсальность заложена в нас, и неважно, знаем мы об этом или нет.
Я все больше и больше убеждаюсь в том, что изучение мифологии – это в некотором смысле изучение биологии, потому что энергии, которые порождают сны, – это энергии наших органов, говорящих с нами, и именно от них происходят мифы. Мы ложимся спать, видим сны, и эти сны есть наши собственные мифы.
Мечта – это частный миф, а миф – это общая мечта.
Миф, метафора и их смысл
Могут ли понять мифологию люди необразованные? Можно ли научить человека правильно читать мифы?
Да, точно так же, как можно научить его воспринимать искусство. Многие приходят на встречу с искусством после того, как что-то об этом прочитали или услышали. Рассматривая картины и посещая галереи, они постепенно открываются для прекрасного и учатся воспринимать его образы. Примерно так же обстоит дело с духовными традициями мифа. Есть те, кто закрывается от них, и те, кто им открывается. Также есть те немногие, кто наделен способностью полностью раскрывать себя. Так, есть одаренные пианисты, но освоить азы игры на фортепиано под силу каждому.
С чего нужно начать?
Прежде всего нужно осознать, что мифология говорит на языке символов. Чтобы читать символы, человек должен владеть этим аллегорическим языком, а в современных школах этому не учат.
Сегодня существует два мнения о религиозных и мифологических образах. Одни считают их ссылками на факты, а другие – ложью. Но это и не факты, и не ложь, а метафоры. Мифология – это сборник метафор.
Я обнаружил, что некоторые мои собеседники просто не понимают, о чем идет речь в мифах. Приведу показательный пример. Однажды я говорил о том, что миф метафоричен, как и поэзия, и журналист, бравший у меня интервью, заметил: «Но ведь миф – это ложь». Оказалось, что он просто не видел метафор и не догадывался о том, к чему на самом деле отсылают мифы и религиозные учения; он думал, что там описываются факты и, следовательно, эти истории неправдоподобны.
Если я правильно помню школьные уроки родного языка, и метафоры, и сравнения – это параллели между непохожими вещами, за исключением того, что в метафоре не используются союзы «как» или «словно». Как это связано с мифом?
Мифология – это поэзия. Если вы будете читать стихи как прозу, что получится?
Сравнивая возлюбленную с цветком, я точно знаю, что она не цветок, а женщина. Но, используя метафору, я вполне могу сказать нечто вроде: «Ты – цветок, ты – радость моей жизни». Так же работает миф. Но если в следующий раз я назову любимую белой лебедью, а она возразит: «Ты уж определись! Я цветок или птица?» – значит, она переводит стихи в прозу и не понимает, что я имею в виду.
Это все равно что прийти в ресторан, изучить меню, выбрать блюдо на ужин, а затем оторвать листок, на котором указано выбранное блюдо, и съесть его. В данном случае можно сказать, что меню – это отсылка к чему-то находящемуся за пределами физического восприятия.
Воспринимая метафору буквально, а не образно, вы теряете смысл сказанного. Но если вас научили основам мифологии и присущему ей набору метафор, вы вникаете в происходящее и знаете, что «заказать».
Возьмем, к примеру, первые слова молитвы Господней: «Отче наш, сущий на небесах». Что ж, Бог не ваш биологический отец. Он даже не мужского пола. Рассуждать о запредельной тайне как об анатомически реальных мужчине или женщине нелепо. Если люди переводят поэтический образ в прозу, значит, их восприятие трансцендентного подобно тому, как ребенок видит своих родителей.
С тем же успехом можно было бы сказать: «Мать наша, сущая на Земле», апеллируя к тому же детскому восприятию. Существуют мифологии, в которых действительно говорится о Матери-Земле: например, в преданиях коренных жителей Юго-Запада Америки – пуэбло, навахо и апачей – вся человеческая раса выходит из ее чрева. Прекрасный образ! Мы действительно появляемся из земли. Как известно, мы – глаза земли, мы – тела земли.
Такие образы, будь то женские или мужские, диктуют соответствующее восприятие и порождают обряды, которые могут отличаться в разных культурах.
Как вы считаете, почему буквальное толкование образов обесценивает мифологию?
Законы науки, по-видимому, дискредитируют образность мифа. Мне постоянно приходит в голову яркий пример: одним из догматов католицизма является то, что пророк Илия, Иисус и Дева Мария вознеслись на небеса. А вы прекрасно знаете, при каких условиях физическое тело может подняться в стратосферу! Даже двигаясь со скоростью света, они бы до сих пор не успели покинуть пределы Галактики. Что прикажете с этим делать?
