Россия и локальные войны. 1991–2023
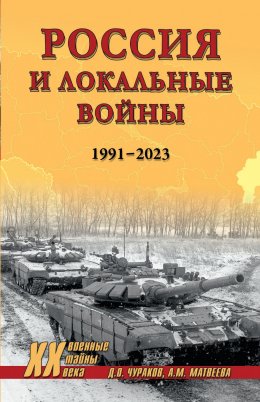
Военные тайны ХХ века
© Чураков Д.О., 2024
© Матвеева А.М., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
От авторов
Люди остаются главными творцами истории. И это не только олигархи, генералы, политики, звезды эстрады, но и все мы – те, кого пока сильные мира сего и его кумиры предпочитают не замечать. И у всех нас – тех, кто владеет экзотическим островом или фармацевтической корпорацией, тех, кто полагается только на свой интеллект и трудолюбивые руки – совершенно разные потребности, интересы и моральные нормы… И уникальные представления о будущем! И если не удается согласовать интересы, идеалы и принципы многих, особенно большинства, то даже в рамках единой глобальной системы сохраняется почва для конфликтов, единая цифровая цепочка разрушается на составляющие ее элементы. И одним из вариантов разрешения возможных конфликтов в современном мире являются как раз постклассические гибридные войны, а в некоторых случаях – гибридные революции, гибридное повстанческое движение против транснациональных гиперглобалистских кругов, стремящихся разрушить современную человеческую цивилизации и на её обломках возвести свою Антицивилизацию нового рабства для всех свободных народов. Их ненависть к России объясняется одним, но принципиальным обстоятельством – только у России достаточно ресурсов, только у русских достаточно исторического опыта, чтобы разрушить планы новых претендентов на мировое господство.
Еще в 2019 году в отечественной и зарубежной философской, политической, дипломатической, геостратегической, военной, исторической и др. мысли, таким когнитивным конструктам, как «многополярность» и «однополярность», «Запад» и «Восток», «борьба цивилизаций» и др., придавалось повышенное значение. Строились теории и озвучивались заверения, что развитие науки и техники, человеческого потенциала и международной интеграции ведет нас в эпоху всеобщего мира. Но уже в 2020 году многим становится ясно, что, выслушивая заверения политиков, чаще всего мы имели дело не с реальностью, а с ее виртуальным моделированием, глобальным постмодернистским флешмобом. Развитие человечества не стало более мирным и поступательным. Полюсов силы не стало больше, наоборот, все оказалось подверстано к одному знаменателю, но это только усугубило конфликты, сделав их глобальными, а войны просто приобрели новую определенность и новые, порой неожиданные, формы. Всё это мы можем видеть на примере новейшей истории нашей Родины. А значит, без изучения опыта современной истории, в том числе истории локальных и гибридных войн, мы не только не сможем понять специфику существующих глобальных угроз и вызовов, но даже не сможем их увидеть.
Именно к решению задачи анализа истории войн новейшего времени и вызванных ими угроз и приступают авторы на страницах книги, которую читатель держит в руках. В ней разбирается опыт участия Российской Федерации в локальных конфликтах недавнего прошлого и даже настоящего, таких, как СВО (Специальная военная операция). Показано, как происходит постепенная трансформация классических локальных конфликтов «доинформационной», индустриальной эпохи в современные постклассические войны эры информационных технологий, тотальной цифровизации, постмодерна и трансгуманизма. Обобщается, какие успехи были достигнуты, каких неудач и ошибок не удалось избежать. Поскольку мир, окружающий нас, сегодня не стал ни лучше, ни справедливее, ни надёжней, авторы уверены, что проделанное исследование поможет нашей стране выстоять и победить в тех войнах, которые уже ворвались в нашу жизнь, и тех, которые могут поджидать Россию уже в самом ближайшем будущем.
Мы также выражаем самую горячую поддержку российским солдатам и офицерам, которые в настоящий момент пишут историю нашей страны и всего Русского Мира на полях сражений Новороссии. Что бы ни говорили политики и шоумены, как бы ни менялся официальный набор лозунгов в ходе СВО, все граждане нашей страны, особенно бойцы на ленточке, должны чётко понимать, за что идёт война – за единство разделённого горбачёвской перестройкой и последующими десятилетиями «реформ» нашего русского, советского народа. А из этой главной на сегодняшний момент времени цели вытекают и все остальные задачи: денацификация, демилитаризация и демократизация (в подлинном смысле этого слова) Украины. Решим эту – сможем решать и последующие цели и задачи. Разбудим в себе русский культурный код Победителей – и любые горизонты окажутся для нас достижимы!
Наше дело правое. Победа будет за нами!
Будем жить!
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Чураков Димитрий Олегович
доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей отечественной истории Института истории и политики МПГУ
Часть I; Часть II; Библиография (совместно с А.М. Матвеевой)
Матвеева Александра Михайловна
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории и культурологии МАДИ
Часть I; Библиография (совместно с Д.О. Чураковым)
Часть первая
От классических к гибридным войнам
1. В преддверии эпохи локальных войн
После распада СССР и демонтажа коммунистической системы российское руководство внутри Российской Федерации столкнулось с целым рядом проблем, которые ранее лежали на плечах союзного центра. Многие из этих проблем были особенно сложными для республиканского руководства, поскольку они оказались вызваны изменениями, происходящими не только внутри страны и на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Эти проблемы, как правило, носили комбинированный (гибридный) характер и были результатом процессов передела глобальной мировой системы, передела мира, который был неминуем после устранения СССР как геополитического центра силы. Мир превратился из биполярного в однополярный. И на перекрестке различных интересов и устремлений оказалась молодая демократическая, как тогда было заявлено, государственность Российской Федерации.
Среди многих широких проблем такого рода одной из наиболее болезненных была проблема большого числа локальных конфликтов и войн, в которые Российская Федерация была вовлечена сразу после обретения фактического суверенитета. Часть локальных вооруженных конфликтов досталась ельцинскому руководству еще со времен Горбачева, когда Союзный центр фактически перестал выполнять свои функции, в том числе функцию центрального арбитра, призванного предотвратить перерастание межэтнической напряженности в конфликты на межэтнической почве. Горбачевское руководство последовательно не хотело использовать имеющиеся в его законном распоряжении методы предотвращения и урегулирования напряженности в горячих точках, включая не только силовые, но и другие методы. В отличие от эффективных решений, курс союзного центра сводился к имитации решительных шагов, полумер, шатаний из стороны в сторону, как, например, это произошло в Азербайджанской ССР в 1990 году. В результате такой недальновидной политики Советский Союз превратился в обширную, плохо контролируемую территорию локальных зон нестабильности. Теперь, после заключения Беловежских соглашений, властям Российской Федерации пришлось иметь дело с этими очагами нестабильности, возникшими в период перестройки. Кроме того, уже в период перехода к суверенной российской государственности складывались новые острые ситуации.
В силу специфики переходного периода изменения, произошедшие в этнополитической сфере в начале 90‑х годов прошлого века, зачастую были напрямую связаны с процессами демонтажа СССР, а также создания системы новых федеративных отношений в самой Российской Федерации. Аналогичные процессы разворачивались и в некоторых других постсоветских государствах и в странах дальнего зарубежья, исторически связанных с Россией. В то время как в некоторых случаях удавалось найти разумный компромисс на определенном уровне нарастающей напряженности, в других случаях не удавалось предотвратить эскалацию конфликтов.
Например, среди бывших ближайших союзников СССР судьба двух стран – Чехословакии и Югославии – была совершенно иной. Если межэтнические конфликты в первом из них не привели к вооруженному противостоянию, и 1 января 1993 года страна спокойно распалась на два независимых карликовых государства – Чехию и Словакию, – то рост этнополитических противоречий в Югославии стал топливным элементом одной из самых кровопролитных войн в современной европейской истории. Аналогичная ситуация сложилась и на постсоветском пространстве. В некоторых случаях взаимные или односторонние территориальные претензии к вооруженной конфронтации не приводили к заключению мирных договоров и заканчивались ими, как, например, между Украиной и Российской Федерацией. В других случаях бывшие республики СССР следовали «балканскому» сценарию, и между ними вспыхивали масштабные военные действия, как это произошло в отношениях между двумя республиками Южного Кавказа – Арменией и Азербайджаном.
Сама Российская Федерация также стала геополитическим полем, где существовало сразу несколько горячих точек. В результате этот первый, начальный этап становления «независимой» российской демократической государственности оказался наиболее проблематичным. Страна оказалась втянута в такие процессы и тенденции, которые чреваты распадом территориального и политического единства. Этот период (начавшийся в 1991 году, а частично даже в 1990 году и закончившийся переходом к восстановлению конституционного строя на всей территории Российской Федерации только в 1999 году) охватывал как раз то время, когда разрабатывались новые формы федеральной и региональной власти, а также новые формы и механизмы их взаимодействия или, по крайней мере, просто мирного сосуществования.
Но трудным был не только вопрос территориально-национального строительства. Рассматриваемое время ознаменовалось кризисными явлениями сразу в нескольких сферах общественной жизни, что создало мощный кумулятивный эффект нестабильности и неопределенности. Провозглашение независимости Российской Федерации и строительство нового государства в первой половине 90‑х годов прошлого века сопровождались ростом острых экономических, социальных и политических кризисов. На этом фоне поиск нового типа федеративных отношений, отношений между Москвой и регионами, стал особенно сложным и противоречивым.
Итак, одним из факторов, определивших судьбу страны в этот период, является процесс, возникший в последние годы существования СССР, который получил название «война законов». Война законов как раз носила ярко выраженный кумулятивный, сложный, гибридный характер, включая этнонациональные, политические, идеологические, экономические и другие аспекты, вплоть до разногласий в интерпретации очень старых и очень недавних исторических событий (которые получат определение «войны памяти», см.: Чураков Д.О. «Войны памяти» и локальные конфликты современности // Преподавание военной истории в России и за рубежом. М. – СПб., 2018. С. 421–431). Это разрушительное явление на союзном уровне было поддержано ельцинским руководством в надежде ослабить позиции горбачевского федерального центра. В отношениях между СССР и союзными республиками парад войны законов помимо прочего принял форму опасного по своим долгосрочным последствиям процесса, который вслед за народным депутатом РСФСР П.И. Зориным в обществе стали называть парадом суверенитета.
Парад суверенитетов, процессы «суверенизации» и война законов действительно ослабили союзный центр, но вскоре эти же процессы перешли на республиканский уровень, повлияв на положение дел во многих союзных республиках. Парад суверенитетов особенно сильно ударил по тем из них, где существовали собственные автономии, например, в Грузии и Украине. Не так ярко и радикально, но столь же неожиданно для большинства жителей СССР проявились сепаратистские настроения в такой, казалось бы, монолитной союзной республике, как Азербайджанская ССР. В Азербайджане вопрос о самоопределении стали поднимать не только армяне, но и представители других этнонациональных групп: лезгины и талыши. Определенные местнические настроения возникли даже в Нахичевани, населенной в основном азербайджанцами. Растущий сепаратизм в этой автономии был направлен и на союзный центр, что привело к принятию 19 января 1990 года внеочередной сессией Верховного Совета Нахичеванской АССР постановления о провозглашении независимости и выходе республики из состава СССР, которое, однако, не продвинуло дело дальше деклараций.
Важно, что такой же процесс роста сепаратизма проявился даже в тех республиках, где ранее собственных автономий не существовало, например, в Молдавской ССР, где сразу две области заявили о своем нежелании следовать политике официального Кишинева в своем развитии. Русские в случае с русской Нарвой, которая была передана Эстонии, или в регионах Южного Урала и Сибири, которые были переданы Казахстану и также были заселены значительным русским элементом, намекали на возможное обострение ситуации в других республиках, где были районы компактного проживания национальных меньшинств, включая русское население.
Не удивляет, что тревожные проявления «суверенизации» и парада суверенитетов были наиболее острыми и распространенными в Российской Федерации – не только крупнейшей республике Союза, но и республике, имевшей на своей территории наибольшее количество автономий. Следующие данные могут дать общее представление о параде суверенитетов в Российской Федерации:
20.07.1990 провозглашен суверенитет Северо-Осетинской АССР;
9.08.1990 – Карельской АССР;
29.08.1990 – Коми АССР;
30.08.1990 – Татарской АССР;
20.09.1990 – Удмуртской АССР;
27.09.1990 – Якутской АССР (Саха);
8.10.1990 – Бурятской АССР;
11.10.1990 – Башкирской АССР;
18.10.1990 – Калмыцкой АССР;
22.10.1990 – Марийской АССР;
24.10.1990 – Чувашской АССР;
25.10.1990 – Горно-Алтайского автономного округа (Горно-Алтайской АССР);
27.11.1990 – Чечено-Ингушской АССР;
12.12.1990 – Тувинской АССР;
28.06.1991 – Адыгейской АО (Адыгейской АССР) и др.
Многие из этих квазигосударственных образований не стремились стать полноценными государствами, а населявшие их народы не стремились начать свой собственный путь исторического развития за пределами России. Но общая ситуация в СССР и Российской Федерации не позволяла их руководству уклоняться от принятия решений в области национально-государственного строительства, решений, направленных именно на укрепление независимости их автономных образований. В то же время некоторые другие российские автономии, наоборот, не собирались оставаться статистами и были вполне готовы не только активно участвовать в параде суверенитета, но и были его инициаторами, по крайней мере на уровне Российской Федерации. К таким регионам с особенно сильными националистическими и сепаратистскими настроениями в то время можно было бы отнести Татарстан, Башкирию, Чечню, Якутию и некоторые другие автономные округа.
Ситуация с российскими автономиями еще более осложнилась после того, как В.И. Ленин резко раскритиковал так называемый «сталинский план автономизации» и предложил собственную концепцию союзного государства (которое, по его мнению, впоследствии могло перерасти в глобальное). С этого момента союзное государство строилось как многоуровневое. В советской историографии считалось, что это стало основой для равноправного развития советских народов[1].
В то же время на практике, особенно в сознании региональных лидеров, сложное ленинское строение государства воспринималось как неравенство, можно даже сказать, определенная неполноценность одних автономий по сравнению с другими. Наиболее отчетливо это ощущалось в российских автономных областях, некоторые из которых имели гораздо большее население, огромные пространства и экономическую мощь по сравнению со многими союзными республиками. В частности, это можно отнести к Татарстану, Башкирии, Удмуртии и Якутии. В этих автономных областях РСФСР периодически возникали настроения, вызванные желанием улучшить свое положение. В то же время повышение статуса означало выход автономий из состава Российской Федерации и их прямое вхождение в состав СССР на правах союзных республик. Эти настроения связаны с появлением в недрах правящей Коммунистической партии первой оппозиционной группы, открыто стоявшей не на интернационалистских, а на националистических позициях, то есть такого внутрибольшевистского течения, которое в официальном лексиконе 1920‑х годов называлось «Султан-галиевщина».
Российские автономные республики стали особенно трудно объяснимыми после создания так называемой Казахской Автономной Социалистической Советской Республики на базе российского Туркестана, а также ряда российских регионов Южной Сибири, Урала и Поволжья и провозглашения ее союзного статуса 5 декабря 1936 года. В условиях кризиса государственности конца 1980‑х годов для многих российских автономий подражание казахстанскому примеру было естественным и подпитывалось необходимостью поддержания стабильности хотя бы внутри самих автономий. Казалось, начавшийся парад суверенитетов должен был способствовать стремлению национальных элит наиболее развитых автономных областей РСФСР укрепить свои позиции и перейти от российской к высшей – союзной – лиге.
В то же время парад суверенитетов и война законов были лишь «верхушкой айсберга». Тенденции дезинтеграции, тенденции обострения этнополитического противостояния в Российской Федерации были и глубже, и масштабнее простого стремления отдельных субъектов федерации к большей самостоятельности в национальной, политической и экономической сферах. Многие противоречия между центром и регионами накапливались не годами, а десятилетиями, а некоторые из них имели еще более глубокое прошлое. Просто конфликты, имевшие разную подоплеку и предпосылки – в связи с нарастающими негативными тенденциями, сопровождавшими «перестройку» и «радикальные реформы» начала 1990‑х годов, – совпали по времени, что породило картину общего кризиса в этнонациональной сфере, ставшего отличительной чертой эпохи независимости Российской Федерации. Энергия распада угрожала целостности не только самой федерации, но и ее отдельных субъектов.
Таким образом, этнотерриториальные конфликты привели к тому, что некоторые автономные образования, искусственно укрупненные в советское время за счет объединения двух (а то и более) очень часто совершенно не связанных между собой народов, оказались близки к внутреннему разделению. Пожалуй, наиболее остро вопрос сохранения целостности официальных границ автономии стоял в Дагестанской АССР. Съезд народных депутатов республики 13 мая 1991 года принимает постановление, в котором статус республики был резко повышен: из ДАССР она была преобразована в Дагестанскую Советскую Социалистическую Республику – Республику Дагестан в составе РСФСР.
Вторая часть названия республики не случайна – она должна была снизить межэтническую напряженность в самом Дагестане, что было замаскировано фразой этой резолюции об укреплении и приумножении исторически сложившегося единства, дружбы и братства народов Дагестана. Но в то же время республика объявила себя «равноправным участником Договора о Союзе суверенных Республик и Федеративного договора», то есть заявила о своем желании присоединиться к так называемой Российской Федерации наравне с Россией. Вскоре должен был начаться «Новоогаревский процесс», в рамках которого должны были начаться процедуры развода и формирования новых механизмов объединения народов вместо СССР. Постановление Верховного Совета Дагестана от 17 декабря 1991 года о неделимости и целостности республики также было направлено на сохранение целостности республиканских границ Дагестана.
Однако это были лишь добрые пожелания, столь же беспомощные, как и большинство правовых актов, деклараций, обращений и т. д., которые на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов были приняты на разных уровнях пирамиды советской власти для предотвращения или, по крайней мере, замедления процессов распада. На практике в разных частях Дагестана отчетливо проявлялись автономистские и сепаратистские настроения, которые приобрели особо опасный характер из-за слабости властей: союзной, российской и местной дагестанской. Не все было хорошо в Дагестане с чеченской диаспорой. Политические силы, выступавшие за формирование собственного национального государства ногайцев, проживавших на севере Дагестана, заявили о себе. На юге республики аналогичные движения возникли среди лезгин – народа, оказавшегося после распада СССР разделенным российско-азербайджанской государственной границей.
В центральном Дагестане среди некоторых кумыков возникли сепаратистские устремления. В 1989 году среди них появилась организация так называемого Кумыкского народного движения «Тенглик». В нем провозглашается курс на приобретение кумыками национально-территориальной автономии. Движение имело собственные печатные издания: газеты «Тенглик», «Къумукъ иш», «Къумукъ Тюз» и «Тюзню Танги». На Втором съезде КНД, состоявшемся в Махачкале в ноябре 1990 года, была принята «Декларация о самоопределении кумыкского народа». Примерно в то же время начала создаваться еще более радикальная ассоциация «Ватан», которая выпустила свой информационный бюллетень в духе времени под названием «Айан» (что переводится на русский язык как «Гласность»). На втором съезде кумыкского народа, состоявшемся 27 января 1991 года, был образован Милли Меджлис, который был провозглашен руководящим органом нации.
Реакцией на позицию чеченцев и кумыков стало появление в 1988 году Народного фронта Дагестана имени имама Шамиля. Эта организация, формально защищавшая целостность республики, на практике превратилась в еще одно национальное движение, деятельность которого не могла привести к консолидации многонационального общества и преодолению межэтнического недоверия.
Еще одним тревожным фактором в развитии Дагестана является радикализация исламского движения в нем. В первые годы «горбачевской перестройки» в республике проводились религиозные представления. В будущем откровенно экстремистские течения, такие как ваххабизм, начнут проникать в Дагестан из-за рубежа. Приверженцы чуждого учения вступали в столкновения не только с властями, но и с представителями традиционного суфизма республики. Это приведет к вспышке вооруженного противостояния в республике менее чем через десять лет[2].
Напряженность возникла в Кабардино-Балкарии, титульные народы которой прошли совершенно разные исторические пути, а в советское время были во многом искусственно объединены. Аналогичная ситуация сложилась и в Карачаево-Черкесии. Изоляционистские настроения могли возникнуть даже в республиках РСФСР, объединяющих очень близкие народы. Вайнахская автономия, объединившая два близких вайнахских народа – ингушей и чеченцев, дальше всех пошла по пути внутриреспубликанского разделения. Результатом стало отделение независимой Чечни от Чечено-Ингушской АССР, которая сразу же выбрала курс на отделение от Российской Федерации. В этих условиях ингуши также создали свою собственную независимую государственность, но они не выражали активного желания находиться за пределами Российской Федерации. После референдума, проведенного среди ингушей, стало ясно, что большинство этноса не поддерживает стремления лидеров чеченских радикальных движений к выходу из состава федерации. На основании полученных результатов в июне 1992 года и принимается решение об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации. И вот 9 января 1993 года заработал закон о разделении Чечено-Ингушетии на два новых политических образования: Ингушскую и Чеченскую республики[3].
В то время между двумя вайнахскими республиками не было конфликтных ситуаций. Однако такая ситуация не была характерна для республик Северного Кавказа. Так, вскоре после своего возникновения Ингушетия была втянута в острый территориальный конфликт с другой республикой в составе Российской Федерации – Северной Осетией (подробнее об этом будет рассказано ниже). Сложность ситуации на Северном Кавказе обусловлена прежде всего межполосным расселением народов и существованием множества территорий, на владение которыми претендовали сразу две или более соседние этнические группы. Поэтому процессы суверенизации и отделения, которые угрожали начаться на Северном Кавказе после отделения Чечни в независимую республику, были чреваты серьезными потрясениями.
Но конфликтный потенциал на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов был очевиден и в других регионах РСФСР. Таким образом, в ранее относительно спокойном Волго-Уральском регионе возникли растущие очаги противостояния. Этот район еще до революции обладал не только сельскохозяйственным, но и высоким промышленным потенциалом. Рабочий класс здесь имел относительно высокий вес в социальной структуре. Поэтому, с точки зрения официальной идеологии, национальные автономии, расположенные в регионе, не могли прерываться в зонах локальных конфликтов. Но, как мы уже видели на примере ТАССР, эти расчеты оказались ошибочными. В то время в Калмыкии также усилился конфронтационный характер. Однако даже в более стабильных республиках, таких как Удмуртия и Башкирия, возникновение националистических настроений и организаций не обошлось без последствий.
На востоке Бурятия и Тува на некоторое время становятся очагами возможных конфликтов. Особенно взрывоопасной была ситуация в Якутии, где национализм титульной нации и законодательное закрепление ее преимуществ вызвали серьезное сопротивление со стороны народов, считающихся в республике национальными меньшинствами. Среди них зрели не только протестные настроения, но и желание отделиться и создать свои национально-государственные образования. Забайкалье и Дальний Восток становятся зоной риска из-за наплыва сюда граждан КНР и отчасти корейцев, что уже тогда порождало беспокойство у коренных жителей региона[4].
Нестабильность и периодически обостряющиеся противоречия в этнополитической сфере налагали на руководителей Российской Федерации большую ответственность, с которой они в то время не всегда справлялись. В результате в условиях тех переломных месяцев угрозой целостности Российской Федерации стали не только вышеупомянутые центробежные настроения на местах, но и непродуманная, непоследовательная, а зачастую просто авантюрная национально-государственная политика российского руководства. Например, известное обращение президента Бориса Ельцина, впервые сделанное 6 августа 1990 года в Казани: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», подстегнуло рост сепаратизма не только в Советском Союзе в целом, но и, прежде всего, в самой Российской Федерации. Такая позиция демократических российских властей в то время не была случайной. Напротив, это заявление Ельцина не было дезавуировано, а легло в основу практической политики российского лидера, что четко подчеркивает его примирительное отношение к сепаратистским тенденциям рубежа 1980‑х и 1990‑х годов, где бы они ни развивались.
В то же время, и на это следует обратить особое внимание, в большинстве регионов Российской Федерации противоречия разрешались мирным путем. Например, на рубеже 1980–1990 годов в той же Казани местные политики уверенно привели республику к провозглашению независимости и реальному выходу из состава федерации. Дело дошло даже до чеканки собственных суррогатных банкнот – важный признак суверенитета, особенно в условиях безденежного периода в самой Российской Федерации[5]. Но конфликт с Татарстаном в конечном итоге был преодолен заключением договора о разграничении полномочий центра и республики (15 февраля 1994 года), который если не де-юре, то де-факто в некоторых своих положениях все еще действует. Кроме того, казанские власти с самого начала проводили мягкую политику и старались не выходить из юридического поля.
Здесь следует отметить, что процессы «перестройки» форм национально-государственного единства в Российской Федерации на республиканском уровне в целом протекали менее болезненно и более конструктивно по сравнению с тем, что происходило на национальном уровне. Почему появилась эта тенденция – в историографии этот вопрос не получил исчерпывающего ответа, а сама тенденция по неизвестным причинам никем не отражена. Таким образом, проблема относительно более цивилизованной трансформации форм национально-государственного единства в Российской Федерации по сравнению с СССР в целом требует самостоятельного всестороннего исследования, но в качестве рабочей гипотезы отметим, что одним из сдерживающих факторов на пути к распаду Российского республиканского государства, безусловно, была более адекватная правовая база, регулирующая национальные и территориально-национальные отношения в Российской Федерации по сравнению с тем, что имелось в союзном законодательстве.
В частности, российское конституционное право четко решило вопрос о возможных формах самоопределения народов, входящих в состав Российской Федерации: право на отделение (право на выход из состава государства) не было предусмотрено российским республиканским законодательством, что автоматически делало любые сепаратистские движения, направленные на полный разрыв с Российской Федерацией, неконституционными и выводило их за пределы правового поля. Это обстоятельство в условиях острых этнополитических кризисов государственных институтов сделало Российскую Федерацию более стабильным и жизнеспособным организмом, чем союзное государство позднего горбачевского периода.
2. Кольца огненной анаконды
Несмотря на то, что в условиях ликвидации единого союзного государства в РСФСР удалось избежать наиболее опасного сценария, чреватого полным развалом государства уже на республиканском уровне, а в рамках новых российских границ, в условиях общего кризиса прежних форм территориального и национального единства, отдельные регионы не могли тогда мешать Кремлю действовать уже по закону силы. А республиканский центр на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов имел еще меньше сил, чем союзный центр. Более того, время от времени применение российской властью вооруженного давления на верхушку протестных регионов встречало вооруженное сопротивление, что приводило к образованию не просто зон локального противостояния, а к началу внутренних локальных войн различной интенсивности, масштаба и продолжительности.
В самой Российской Федерации и на постсоветском пространстве можно говорить о нескольких десятках таких этнополитических конфликтов на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов, некоторые из которых переросли в масштаб полномасштабных войн: гражданских или даже межгосударственных (межреспубликанских). Добавив к ним конфликты в дружественных России странах, в которые Кремлю пришлось активно вмешиваться, мы поймем, в каких сложных условиях началось формирование новой российской государственности.
Изучение гибридных военно-политических конфликтов, имевших место в 1990‑е годы (и в последующие годы), методологически обосновано разделением их на периметры конфронтации или напряженности. Эти периметры охватывают горячие точки, связанные с геостратегическим положением Российской Федерации на определенном этапе ее исторического развития. По своему качественному содержанию, географическому положению и значению для судьбы Российской Федерации эти горячие точки можно объединить в три линии, которые далее определяются как периметры конфронтации или кольца напряженности.
Эта классификация основана на тщательно модернизированном подходе к потребностям данного исследования, но уже прочно утвердившемся в геополитике, основанном на глобальной стратегии обхвата или так называемой «стратегии анаконды». Еще в середине XIX века генерал Уинфилд Скотт предложил оптимизировать действия Северной армии в Гражданской войне в США. В дальнейшем эта стратегия и основанные на ней методы изучения геополитической практики Альфредом Махэном были распространены на весь мир. Наконец, в конце XX века эта концепция продолжала развиваться в творческом наследии Генри Киссинджера, который назвал ее стратегией «звено цепи».
Основываясь на стратегии и методологии, предложенных англосаксонскими авторами, мы выделим сплетения «звеньев цепи», «колец», которые «современная анаконда» плетет вокруг исторической России, пытаясь замкнуть ее в прочную геополитическую цепь неисторического прозябания и, по возможности, разделить Россию на несколько небольших государств посредством различных локальных войн, как это было разработано в Югославии. Сегодня эти условные «кольца анаконды» или периметры конфронтации, как они будут определены в этом исследовании, шире и глобальнее, чем раньше, когда Россия (Советский Союз) должна была быть отрезана только от «теплых морей». К началу нашего XXI века принципиальная недостаточность предыдущего подхода стала очевидной, и теперь гибкие, но надежные «кольца анаконды» должны, по мнению западных стратегов, изолировать Российскую Федерацию по всем возможным направлениям ее геостратегического продвижения, сковать любые усилия российского руководства по возвращению стране утраченных позиций в мире. Таким образом, для самой России отмеченные нами периметры конфронтации столь же правильно понимаются, как и три зоны безопасности, поскольку для России речь идет не о внешней экспансии, а только о защите национальных интересов в рамках российского исторического пространства, в пределах собственной зоны исторической ответственности.
Первый рубеж безопасности: локальные конфликты в РФ
Если смотреть из Москвы, то есть с точки зрения национальных интересов Российской Федерации, то первый периметр безопасности следует признать внутренним. Похоже, что именно конфликты внутри границ страны представляют наибольшую угрозу для ее стабильности. Возникновение конфликтов в пределах советских границ было важным признаком времени и свидетельством того, что руководство союзников управляло политическим процессом в стране. В истории независимой Российской Федерации на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов наблюдался значительный рост напряженности, в основе которого лежали факторы политического, социального, экономического, религиозного и межнационального характера. Для целостности государства – самой новой российской государственности – этнополитический фактор играл такую же важную роль, как и для СССР в целом.
Среди наиболее острых конфликтов в границах Российской Федерации, переросших в вооруженное противостояние, в первую очередь уместно говорить о тех, которые имели место на Северном Кавказе. Именно там локальные конфликты приобрели характер затяжной вооруженной конфронтации, в то время как в других регионах она все еще не достигла наивысших стадий развития конфликтов в горячих точках. К таким кризисам можно отнести вооруженный конфликт между ингушами и осетинами, о котором мы уже вкратце упоминали.
Как и все локальные военно-политические конфликты, с которыми Кремлю приходилось сталкиваться в первое десятилетие существования суверенной Российской Федерации, то есть в 1990‑е годы, осетино-ингушское противостояние началось в последние месяцы существования СССР, но даже после его распада оно не исчезло, а продолжало усиливаться. Сложные отношения между этими двумя кавказскими народами уходили корнями в прошлые века российской истории, в те времена, когда на Северном Кавказе не было русских. Несколько решений, которые дестабилизировали ситуацию, были приняты после революции 1917 года, включая произвольное сокращение границ Советами и решения, связанные с депортацией некоторых народов, обвиненных при Сталине в сотрудничестве с нацистскими оккупантами во время операции под кодовым названием «Чечевица». В условиях «горбачевской перестройки» и строительства независимого либерального российского государства существующие противоречия и обиды смогли стать еще более выраженными. В результате урегулировать отношения в зоне соприкосновения ингушей и осетин удалось только в результате вмешательства федерального центра. При этом необходимо было использовать не только мирные, но и военные методы воздействия на конфликтную ситуацию.
Война законов и парад суверенитетов сыграли главную и самую непосредственную роль в росте конфликта и его переходе в вооруженную стадию. Закон «О реабилитации репрессированных народов», принятый 26 марта 1991 года Верховным Советом РСФСР, иногда называют переломным моментом, направившим развитие давно тлеющего очага нестабильности по самому опасному сценарию. Эта оценка представляется ошибочной или даже предвзятой, направленной на дискредитацию российского руководства. По сути, спусковым крючком для этого, как и для некоторых других локальных конфликтов, стал Союзный закон от 26 апреля 1990 года «О разделении полномочий между СССР и субъектами Федерации».
Этот закон легко можно было истолковать так, что автономные республики стали субъектами СССР наряду с союзными республиками. Этот закон, который не может быть объяснен с точки зрения нормальной юридической логики, сыграет свою роль, например, при подготовке нового союзного договора. В ходе этого процесса некоторые автономные республики выразят намерение подписать документ в обход руководства тех союзных республик, к которым они ранее принадлежали. Используя эти настроения, руководство Горбачева вступит в отдельные переговоры с лидерами Чечено-Ингушетии, которые также выразили намерение подписать союзный договор наравне с Российской Федерацией. В то же время ценой согласия поддержать команду Горбачева в ее стремлении минимизировать возможности тогдашних российских властей руководители Чечено-Ингушетии назвали возвращение Пригородного района, переданного Северной Осетии после депортации ингушей и чеченцев в 1944 году, в их республику. Начались секретные сепаратные переговоры между союзным центром и силами, представляющими автономию[6].
Именно эти тенденции заставили окружение Ельцина искать пути противодействия усилиям команды Горбачева выбить почву из-под ног властей РСФСР. Однако принятые ответные меры также были проникнуты конфронтационной логикой и не отличались разумностью и продуманностью. Вышеупомянутый закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» следует рассматривать как повод для таких конкретных мер, направленных на перехват инициативы в отношениях с руководством российских автономных областей. От союзного положения по вопросу реабилитации жертв сталинских репрессий и по урегулированию межнациональных отношений оно отличалось еще большим радикализмом и двусмысленностью, о чем говорят многие наблюдатели.
Прежде всего, в данном случае речь идет о норме, заложенной в законе, не только политической, но и территориальной реабилитации. Это правило отражено, например, в статье 3. В ней говорится: «Реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до неконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований, существовавших до их упразднения». Однако механизм реализации этой нормы никогда не был описан ни в самом законе, ни в подзаконных актах. Таким образом, закон был пустой политической декларацией. Он служил не снятию, а эскалации существующих трений[7]. Но неоднозначность правовых норм позволила Ельцину попытаться политически победить Союзный центр. Во время предвыборной поездки на Северный Кавказ в июне 1991 года и встреч с представителями ингушских и осетинских активистов он предложил каждой стороне отдельный выход из кризиса. Понятно, что два пути разрешения конфликта, озвученные Ельциным за кулисами представителям двух заинтересованных народов, полностью исключали друг друга. Их внедрение в возмущенное общественное сознание соседних автономных регионов, вовлеченных в конфликт, только усугубило и без того сложную ситуацию.
Некоторые другие законодательные инициативы также способствовали «юридическому» оформлению предпосылок назревающего конфликта. Так, в апреле 1991 года Верховный Совет Северной Осетии ввел чрезвычайное положение на территории Владикавказа и Пригородного района. Осенью того же года руководители Северной Осетии, воспользовавшись правовой и политической неразберихой, царившей в то время в стране, а также назвав декларацию независимости Южной Осетии и Чечни прецедентом, официально приступили к созданию так называемой Демократической Республики. «Республиканская гвардия» и «Народное ополчение» – это вооруженные формирования, которые не предусмотрены законами ни СССР, ни РСФСР. А в мае 1992 года парламент Северной Осетии утвердил постановление о принудительном производстве оружия на предприятиях Владикавказа для нужд этих неконституционных правоохранительных органов. Своеобразной финальной точкой в очерчивании правового поля конфликта стал принятый 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации». Вопрос о границах Ингушетии опять никак не рассматривался и не решался.
Осетино-ингушский конфликт вступил в свою горячую фазу 20 октября 1992 года, после гибели осетинской девушки и двух ингушских женщин, первых двух жертв горячей фазы противостояния. Уже 22 октября начались перестрелки между ингушскими и североосетинскими милиционерами, в ходе которых были убиты еще несколько человек[8]. Эти события привели к волне митингов и столкновений. После 24 октября, когда решение принимается волонтерами и жителями Пригородного района ингушской национальности на Совместной сессии Советов ингушских районов, спорная территория временно фактически переходит под контроль ингушей. В ответ 27 октября Верховный Совет Северной Осетии предъявил ингушской стороне ультиматум с требованием разблокировать Пригородный район. Но попытка поговорить с ингушами с позиции силы только ведет к дальнейшему обострению ситуации. В некоторых селах (Камбилеевском и Октябрьском) вспыхивают стычки и гибнут люди.
Высшей фазой конфликта являются события с 31 октября по 5 ноября. В ночь с 30 на 31 октября 1992 года вновь начинаются перестрелки в селах Камбилеевское и Октябрьское. По данным осетинской стороны, вооруженные группы ингушей двинулись в Пригородный район, чтобы помочь своим соплеменникам пересечь осетино-ингушскую границу. Ингушские войска захватывают отдельные посты МВД Северной Осетии, нападают на осетинский полицейский участок в селе Чермен. Погромы осетинских семей начинаются в самом селе. На следующий день, 1 ноября 1992 года, начинается артиллерийский обстрел ингушских сел. Хотя 2 ноября президент Ельцин ввел в Пригородный район миротворческие силы из 5,5 тысячи российских военнослужащих и сформировал их, это не приносит умиротворения. Наоборот, происходит дальнейшая эскалация вооруженного противостояния. Со 2 по 5 ноября идут чистки и фактическое выдавливание ингушского населения в пределы Северной Осетии. И только 5 ноября федеральные внутренние войска вводятся в села Октябрьское, Дачное, Куртат, Чермен и села Карца, Майский и Южный, которые были очищены от ингушей, призванных разнять конфликтующие стороны. Но разлучать было некого – спасая жизни, ингуши, бросив свои дома и приобретенное имущество, массово переселялись на территорию Ингушетии.
Осложняющим фактором в осетино-ингушском конфликте стал фактор беженцев. Этот фактор стал результатом вооруженных конфликтов в Чечне и Южной Осетии. Представители не вайнахского населения республики пытались бежать из Чечни в безопасные для них регионы, а осетинские семьи бежали из Южной Осетии от грузинской агрессии. Приток дополнительного населения в Северную Осетию, особенно в Пригородный район, создал чрезмерную демографическую нагрузку, с которой не смогли справиться ни местные, ни федеральные власти. В результате усложнились экономические и социальные проблемы, ухудшилась криминогенная обстановка, ухудшилась политическая ситуация. Вторым фактором, усугубляющим ход кризиса, является приток боевиков в зону осетино-ингушского конфликта: вайнахов из Чечни, осетин из Южной Осетии.
Следует подчеркнуть, что присутствие внутренне перемещенных лиц и вооруженных добровольцев не было характерной особенностью осетино-ингушского конфликта. Почти все локальные войны на Кавказе и на постсоветском пространстве в целом сопровождались насильственным переселением больших масс людей. С рубежа 1980‑х и 1990‑х годов люди, которых условно можно назвать «волками войны», перемещаются по всем зонам локальных конфликтов. Это люди, профессионально участвующие в вооруженных конфликтах. Одни и те же представители этой группы в некоторых конфликтах могли выступать в качестве наемников, в некоторых – в качестве добровольцев, в некоторых – в качестве бойцов частных военных компаний (ЧВК) или сотрудников армий любых заинтересованных государств. Они могли оправдывать свое пребывание в зонах конфликтов материальными, моральными, идеологическими, родственными и другими факторами, но это часто не меняло сути их участия в конфликтах.
Высшая фаза осетино-ингушского конфликта, как видно, была очень недолгой. Несмотря на это, вооруженное противостояние, переросшее в настоящие боевые действия с применением артиллерии и бронетехники, оказалось очень кровопролитным. Согласно историческим исследованиям, за несколько дней до того, как федеральные силы разделили противоборствующие стороны, было убито 608 человек. Наибольшее число жертв – 490 человек – понесла ингушская сторона. Кроме того, в ходе эскалации конфликта еще 261 человек пропал без вести, 208 из которых – ингуши. По данным правозащитников, таких как организация «Мемориал», не менее 46–64 тысяч ингушей стали беженцами. Но в дополнение к ним 9 тысяч осетин бежали из Пригородной зоны от вспышек насилия, многие из которых позже не вернулись. Однако многим было некуда возвращаться – за несколько дней столкновений было сожжено 848 осетинских и 2728 ингушских домов[9].
Еще одним крупным вооруженным конфликтом, возникшим в результате разрушения Советского государства на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов, был чеченский конфликт. Как и осетино-ингушский конфликт, чеченский конфликт имел долгую историю. Однако, в отличие от относительно недолгого осетино-ингушского конфликта, чеченский конфликт оказался очень затяжным. Он длился несколько лет и имел не одну, а уже две высшие фазы, когда противостояние сторон переросло в полномасштабные локальные войны, частично принявшие характер гибридных. В этой статье мы проанализируем только первую резкую эскалацию чеченского конфликта. В литературе и общественном мнении этот этап чеченского конфликта был назван первой чеченской войной.
Как и почти все другие локальные вооруженные конфликты, с которыми Российской Федерации пришлось столкнуться в ходе строительства своей суверенной государственности, чеченские события можно считать наследием политики, проводимой союзным руководством во главе с Михаилом Горбачевым. Конечно, российские власти также внесли значительный вклад в развитие конфликта, но это было уже второстепенно. Как и во всех других случаях, в нарастающем чеченском конфликте второстепенная роль властей РСФСР связана с почти полным отсутствием в конце 1980‑х годов в их руках реальных рычагов, с помощью которых можно было бы решить конфликт в зародыше. В свою очередь, союзный центр, имевший такие рычаги, как и в других подобных случаях, ими не пользовался. Более того, своей двусмысленной позицией и провокационными действиями он поощрял чеченцев, а также титульные народы других российских автономий к внутрироссийскому сепаратизму. И если у властей РСФСР не было ни достаточной информации, ни, тем более, силовых ресурсов, то сепаратистские лидеры Чечни, пользуясь неразберихой, сложившейся в республике и в стране в целом, начали эффективно готовить силовой ресурс, на который они могли бы опираться в будущем в своих отношениях как с республиканскими, так и с союзными властями.
На рубеже 1991–1992 годов, то есть к моменту ликвидации горбачевского союзного центра в рамках создания СНГ, все важнейшие шаги, которые сделали вооруженный конфликт на Северном Кавказе неизбежным, уже были предприняты. Глава республики Доку Завгаев, хотя и стоял на умеренных позициях, но под давлением общей политической ситуации был вынужден поддержать парад суверенитета и войну законов, которые шли в то время. Еще в ноябре официальный конституционный орган – Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР – принял Декларацию о государственном суверенитете. Но к тому времени в республике были организованы и более радикальные политические движения, выступавшие за выход не только из РСФСР, но и из СССР. Они объединились вокруг так называемого Национального конгресса чеченского народа (ОКЧН). Он был создан при участии Джохара Дудаева – боевого офицера, отличившегося во время вывода советских войск из Афганистана и проявившего выдающиеся командирские способности на ранее занимаемых должностях. В Советской армии Дудаев дослужился до звания генерал-майора (а в 1996 году он также получил звание генералиссимуса Чечни).
ОКЧН быстро перехватила инициативу у официальных властей. Этому особенно способствовали события августа 1991 года в Москве. В период ГКЧП Завгаев, находившийся в Москве, не проявлял никакой политической активности. В то же время ОКЧН немедленно поддержала команду Ельцина в ее противостоянии ГКЧП. Среди защитников Белого дома в те дни можно было даже услышать слухи о группах чеченцев, готовых приехать в Москву, чтобы поддержать Ельцина. Естественно, по умолчанию предполагалось, что речь идет о вооруженной поддержке. Когда 21 августа он вернулся в Грозный, у Завгаева уже не было полной власти, и его политическая карьера неуклонно приближалась к концу. Федеральное правительство никоим образом не возражало против этого. Он «фактически отказался от своей конституционной обязанности обеспечивать верховенство закона на территории Чеченской Республики. Таким образом, бездействие федерального правительства создало благоприятную почву для углубления и эскалации чеченского кризиса»[10].
В сентябре ОКЧН объявил Верховный суд ЧИРА низложенным. Это решение в то время было молчаливо поддержано Ельциным, который не забыл позицию Дудаева во время ГКЧП. В октябре 1991 года были проведены выборы президента и парламента Чечни. По мнению наблюдателей, выборы проходили под патронатом вооруженных формирований ОКЧН (так называемой «Национальной гвардии») и сопровождались многочисленными нарушениями избирательных норм. Ожидалось, что Дудаев станет президентом республики. Его первым указом 1 ноября 1991 года Чечня была провозглашена независимой. Победа Дудаева на выборах означала, что сепаратистам удалось взять под контроль Чечню. После этого российские власти наконец-то решили как-то повлиять на развитие ситуации. Но ни принятые нормативные документы, ни попытки повлиять на Грозный демонстрацией силы не увенчались успехом. В частности, Союзный центр проигнорировал введение чрезвычайного положения в Чечне российским руководством 7 ноября 1991 года. В первую очередь это было связано с тогдашним главой союзного МВД В.П. Баранниковым, который не скрывал, что не будет предусматривать чрезвычайное положение. Позиция Баранникова была воспринята некоторыми российскими политиками как выражение недружественного отношения к России со стороны всего руководства союза и президента Горбачева в частности[11].
В то же время победа Дудаева стала возможной не только из-за соперничества между Российской Федерацией и союзным государством, но и из-за противоречий внутри самого российского политического класса, часть которого по разным причинам была заинтересована в усилении чеченского сепаратизма. В частности, российские власти, признав незаконными выборы, на которых победил Дудаев, на практике не прекратили финансирование республики. Эта политика, в частности, проводилась на официальном уровне Министерством финансов России и Пенсионным фондом. Кроме того, режим Дудаева получал значительные доходы от торговли нефтью. Объем средств, полученных от продажи нефти, был таков, что можно с уверенностью предположить, что неофициальное соучастие сепаратистам со стороны определенных российских правительственных структур позволило Грозному использовать общую трубу[12].
Став территорией, практически неподконтрольной федеральному центру, в 1991–1992 годах Чечня быстро превратилась в зону с высокой криминогенной обстановкой. В сборнике материалов, в том числе предоставленных центрами по связям с общественностью МВД, Федеральной службой безопасности, а также Департаментом информации и печати Минобороны России, отмечается, что «грабежи, разбои, похищения и убийства людей стали повседневным явлением». В последующие годы ситуация осложнилась, о чем свидетельствует анализ оперативной информации, полученной Министерством внутренних дел Российской Федерации. В республике свободно распространялось оружие, организовывались преступные группировки и вооруженные банды. Стрельба из различных видов оружия велась в различных районах республики практически ежедневно, происходили взрывы и другие террористические акты. В то же время правоохранительные органы практически самоустранились от расследования преступлений, в том числе самых тяжких. По оперативным данным МВД России, в 1992–1993 годах на территории Чечни ежегодно регистрировалось до 600 умышленных убийств, что в семь раз превышало показатель 1990 года. Было отмечено, что преступления в республике совершаются с особой дерзостью. Преступные группировки, даже вооруженные автоматическим оружием, фактически беспрепятственно совершали нападения на железнодорожный и автомобильный транспорт. Так, только в 1993 году на Грозненском отделении Северо-Кавказской железной дороги было совершено 559 нападений на поезда, что сопровождалось полным или частичным ограблением около 4 тысяч вагонов и контейнеров на сумму 11,5 миллиарда рублей. А в следующем, 1994 году, произошло более 120 вооруженных нападений, в результате которых было разграблено более 1100 вагонов и 500 контейнеров. Убытки от этих атак составили около 12 миллиардов рублей. При Дудаеве преступность из Чечни начала распространяться на республики Северного Кавказа и остальную часть страны[13].
Власти Ичкерии также способствовали росту напряженности в стране. Итак, Дудаев попытался разыграть мусульманскую карту и карту братства кавказских народов. Надеясь возглавить общекавказский фронт «борьбы за независимость от России», Дудаев превратил Чечню в главную базу военизированной Конфедерации народов Кавказа. При этом верховными главнокомандующими войсками КНК были чеченцы из окружения Дудаева: Иса Арсамиков, затем Шамиль Басаев. Предпринимались попытки распространить сепаратистские действия на соседние территории Российской Федерации. Так, в специальном обращении Дудаева к жителям Дагестана – самой обширной республики Северного Кавказа – содержались следующие слова: «… Восстаньте, и пусть презрение падет на потомков тех, кто не способен к воинскому братству в час великого призыва. Восстань, Дагестан…»
Возможно, промежуточные выводы, сделанные из приведенных выше фактических обстоятельств, могут показаться некоторым слишком резкими и противоречивыми, но они полностью отражают ситуацию, сложившуюся в 1991–1994 годах:
1) Фактически руководство Российской Федерации оказалось перед дилеммой – либо отделение Чечни, а затем и других территорий, либо вооруженное столкновение.
2) Выбор должен был быть сделан не между дипломатией и применением силы, а между различными вариантами военного решения. Возможно было попытаться использовать силу только как вспомогательный «аргумент», а возможно – как основу.
На практике Ельцин-центр пытался использовать оба варианта. И изначально выбор, естественно, был сделан в пользу минимизации силовой составляющей давления на Грозный. Однако этот выбор был сделан не потому, что российское руководство освоило новейшие методы ведения локальных гибридных войн, а потому, что ему пришлось адаптироваться к имеющимся ресурсам. Первоначальный выбор в пользу ограниченного применения силы был сделан в связи со следующими обстоятельствами:
Во-первых, Ельцин имел прочную репутацию в стране и за рубежом как первый демократический лидер России. Ельцину было неприятно подрывать этот имидж массовым использованием армии против повстанческого анклава.
Во-вторых, даже после того, как суверенные «независимые» органы власти Российской Федерации получили властные структуры, навыки и механизмы их использования все еще остро отсутствовали.
В-третьих, при преимущественно мирном решении чеченской проблемы негативные последствия, как легко понять, были бы значительно менее болезненными. Но положительные результаты могут быть значительными и будут способствовать укреплению авторитета Ельцина как демократического лидера как внутри страны, так и в мире.
Поэтому первоначальная ставка была сделана на информационную войну и поддержку внутренней чеченской оппозиции режиму Дудаева. Другое дело, что новые московские правители также не обладали навыками использования информационных и дипломатических ресурсов.
Первоначально предполагалось, что применение силы будет осуществляться через внутричеченские группировки, противостоящие режиму Дудаева. Казалось, что достаточно будет снабдить их деньгами и оружием, и они смогут сделать реальную альтернативу официальному Грозному. В целом антидудаевскую оппозицию в 1992–1994 годах можно отождествить с несколькими тенденциями. Они еще не были российскими прокси-структурами, поскольку формировались спонтанно, выражая интересы своих непосредственных руководителей, а не федерального центра. В результате Кремль сотрудничал с этими группами в зависимости от временного совпадения целей, не имея возможности навязывать им свою собственную политику.
Судя по всему, наиболее серьезные внутричеченские оппозиционные силы действовали в Надтеречном районе. Одна их часть группировалась вокруг бывшего председателя Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, уроженца тейпа Гендер-гена Д. Завгаева. Другая часть – вокруг председателя Временного Совета Чеченской Республики, уроженца тейпа Пешхой Умара Автурханова. У. Автурханов был известен тем, что одним из первых среди чеченских политиков нового поколения выступил против отделения и за сохранение единства России. Деятельность этих двух политиков превратила Надтеречный в зону, свободную от власти дудаевцев.
В селе Толстой-Юрт действовали сторонники Руслана Хасбулатова, видного российского политического деятеля, уроженца этого села, уроженца тейпа Харачоя. В родном селе он организовал так называемую «Миротворческую миссию профессора Хасбулатова». Позже к нему присоединятся несколько вооруженных группировок.
Несколько других оппозиционных групп откололись от Дудаева в процессе укрепления его личной власти и отсечения недовольных этим процессом от рычагов управления республикой. Это, например, группа Руслана Лабазанова, бывшего начальника личной охраны Дудаева. Отделившись от Дудаева, он возглавляет военизированную партию Ниисо. По мере того как конфликт с Дудаевым развивается и перерастает в вооруженный, сторонники Лабазанова берут под контроль Аргун, третий по значимости город Чечни.
Кроме того, в Урус-Мартановском районе закрепились два видных чеченских политика. Это его родные, первый дудаевский мэр Грозного Бислан Гантамиров и Яраги Мамадаев. Второй из них стоял у истоков Национального конгресса чеченского народа, был членом президиума его исполнительного комитета, а после прихода к власти дудаевцев возглавил правительство – Комитет по оперативному управлению народным хозяйством. После отставки он начал критиковать своего бывшего лидера и воевал с ним. Он уехал из Чечни в Москву, где объявил о создании правительства народного доверия – фактически теневого правительства или правительства Чечни в изгнании. Переход таких фигур, как Гантамиров и Мамадаев, в оппозицию свидетельствовал об очень значительных трудностях в процессах формирования Чечни.
Из числа бывших борцов с федеральным центром вышли и некоторые другие оппозиционеры. Так, вокруг политиков, вышедших из ОКЧН, сложилось отдельное оппозиционное направление во главе с Лечи Улохаевым. Эти политики были недовольны возрастающей ролью радикалов и лично генерала Дудаева в чеченском национальном движении. Еще одна небольшая группа оппозиционеров создала так называемое Движение демократических реформ Чечено-Ингушской Республики во главе с С. Хаджиевым и Д. Гакаевым. В период, когда коммунисты находились у власти в Чечено-Ингушетии, члены Чеченской РДР, а также их союзные соратники выступали с либеральных позиций. РДР выступала против московского ставленника Д. Завгаева, но позже с либеральных позиций выступала и против узурпации власти Дудаевым, против утверждения его диктатуры.
В условиях силового противостояния со сторонниками Дудаева у оппозиции было только два реальных решения для выживания:
1) Ориентация на Кремль;
2) Объединение антидудаевских групп.
К 1993–1994 годам большинство лидеров оппозиции осознали этот факт. Военные действия официального Грозного с оппозицией, начавшиеся в период с 1 по 7 сентября 1994 года, активизировали процесс объединения оппозиции с ее полной переориентацией на Москву. В Москве к осени 1994 года также произошла переоценка ситуации. На высоком уровне никто больше не думал идти на компромисс с Дудаевым. Казалось, «что стоит только вооружить оппозицию и пообещать ей политическую поддержку, как нарыв будет удален. Появлявшиеся время от времени заявления официальных лиц о «неприменении силы» уже носили лишь «прикрывающий» характер.
Поддержка федерального правительства усилила антидудаевские группировки, привела к их частичному перехвату инициативы в ходе вооруженной борьбы. В середине октября 1994 года оппозиции даже удалось провести скоординированное наступление на Грозный. В политике Кремля начали появляться некоторые элементы, которые часто используются в современных гибридных войнах. Скорее всего, непреднамеренно. Таким образом, успехи оппозиции вдохновили Кремль не только на увеличение помощи оружием, но и на теневое вмешательство в события: российские военные «отдыхающие» отправились в Чечню. Было ясно, что готовится что-то серьезное и масштабное.
И действительно, 26 ноября антидудаевские силы начали новое, более масштабное, чем прежде, наступление на Грозный. В город вошли танковые колонны воинских формирований, противостоявших Дудаеву. Они легко добрались до центра Грозного… Но они оказались там в ловушке и были расстреляны из гранатометов. Многие танкисты были убиты или взяты в плен. Среди них было большое количество российских военнослужащих. Оппозиция потерпела полное военное поражение, а для Кремля провал «спецоперации» обернулся катастрофой. Как пишет бывший военный историк (а нынче бандеровский пропагандист М.А. Жирохов), после инцидента, особенно после демонстрации дудаевцами неких доказательств участия российских военных в штурме Грозного, Кремль оказался перед трудной альтернативой: мир или война.
Было два негативных сценария на выбор. Для реализации первого нам пришлось бы отступить и пытаться умиротворять сепаратистов все новыми и новыми уступками, вплоть до признания независимости Чечни. Другим вариантом было силовое подавление незаконных вооруженных формирований и возвращение Чечни в конституционное пространство Российской Федерации. В Москве нашлись сторонники обоих путей решения чеченской проблемы. Это не позволило Ельцину сделать четкий политический выбор и последовательно его осуществить. Тем не менее ему удалось принять самый очевидный вариант – ликвидировать мятежный анклав силой оружия. Другое дело, что тогдашнее руководство страны в то время не располагало этой силой надлежащего качества и количества, но это станет ясно только во время боевых действий. И поначалу казалось, что федеральные вооруженные силы быстро подавят незаконные бандформирования и большой войны на Кавказе не произойдет.
Результатом иллюзий стал секретный указ № 2137с, подписанный Ельциным 30 ноября 1994 года «О мерах по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики». Согласно указу, была создана руководящая группа, которая должна была руководить действиями федеральных сил против сепаратистов. Ее возглавил министр обороны П.С. Грачев. Перед группой были поставлены такие задачи, как:
– прекращение боевых столкновений и ликвидация боевых сил повстанцев;
– освобождение тех, кого насильно удерживают бандиты;
– создание условий для восстановления правопорядка в Чечне;
– оказание гуманитарной поддержки населению;
– работа со средствами массовой информации и представителями иностранных держав в целях обеспечения нормализации обстановки в зоне конфликта;
– организация переговоров с целью последующего урегулирования вооруженного конфликта дипломатическими средствами[14].
Кремлю потребовалось еще несколько дней, чтобы приступить к реализации принятых решений. Федеральные вооруженные силы начали вводить войска в Чечню 11 декабря 1994 года. С самого начала нам пришлось столкнуться с серьезными трудностями, в том числе из-за сопротивления местного населения, которое в некоторых местах пыталось блокировать продвижение армии, и в некоторых случаях успешно. Еще одной проблемой для Кремля является крайне болезненная реакция на прямое вторжение армии в Чечню со стороны многих представителей оппозиции и простых граждан. События разворачивались всего через год после государственного переворота и расстрела российского парламента осенью 1993 года, поэтому не только либералы, но и некоторые коммунистические деятели надеялись на поражение режима Ельцина и на скорейшую смену политической власти. Озабоченность российской общественности и антивоенные настроения станут устойчивым фактором политической жизни. Свидетельством общественного внимания к первой чеченской войне может служить создание комиссий и наблюдательных миссий не только такими общественными правозащитными организациями, как «Мемориал», но и создание специальной комиссии нижней палатой нового российского парламента – так называемой думской «комиссии Говорухина».
Только к концу декабря удалось занять северные районы Чечни и блокировать Грозный на трех важных направлениях: западном, северо-западном и северо-восточном. Ханкала – к востоку от чеченской столицы – также была взята под контроль. На большее, как отмечается некоторыми экспертами, возможностей группировки федеральных войск, численность которой оценивается в 24 000 человек, просто не хватило. И с такими вот ограниченными силами руководство спецоперации решает штурмовать Грозный. Операция началась в самый канун новогодних праздников – 31 декабря. Видимо, расчет делался на внезапность и превосходство в огневой мощи и бронетехнике.
Однако все расчеты оказались неверными. Повторился сценарий, согласно которому город был взят штурмом внутричеченской оппозицией месяц назад, 26 ноября, но с гораздо большими потерями. России был нанесен колоссальный удар, не только военный, но и имиджевый, от которого можно было оправиться как минимум за десять лет. С тех пор Кремль полностью утратил свою стратегическую инициативу в чеченском конфликте, лишь изредка возвращая ее на тактическом уровне благодаря героизму и жертвам со стороны российских солдат и офицеров. Следствием этого является полный отказ от гибких методов ведения современных войн, которые в XXI веке сначала американские, а затем российские теоретики назовут гибридными.
Таким образом, происходит окончательная потеря контроля над институтами формирования общественного мнения. Зарубежные СМИ и Интернет и раньше открыто поддерживали сторонников отделения Чечни. Но сейчас Кремль растрачивает влияние даже на отечественные российские СМИ. Пропагандистский механизм теряет даже видимость эффективности. Внутричеченская вооруженная оппозиция стремительно теряла свои позиции в республике и больше не могла использоваться в качестве весомой карты. Акцент был сделан на массовом использовании федеральных вооруженных сил – очень часто это обычные призывники, а не профессионалы из специальных подразделений.
С другой стороны, силы, заинтересованные в дальнейшем ослаблении российской государственности, начинают применять новейшие методы ведения современных гибридных войн, включая мягкую силу и технологии концессионных войн, направленных на разложение тыла противника, фрагментарно, чаще всего стихийно, но все более широко и успешно. Некоторые неправительственные организации на Западе, такие как Human Rights Watch и другие, проявили интерес к событиям в Чечне. В самой Российской Федерации продудаевские СМИ, спящие агенты Запада, возродились. Деятельность пацифистских и правозащитных организаций приобретает политический характер. Теперь их усилия были направлены не на защиту конституционных прав граждан, а на усиление давления на российские государственные структуры и армию. В конце концов прилагаемые усилия были направлены на то, чтобы заставить Кремль капитулировать, подобно Портсмутскому миру, который был заключен в 1905 году С.Ю. Витте.
Похоже, что в то время Кремль спасло только то отношение, которое было лично к Ельцину и некоторым членам его окружения, например, к министру иностранных дел А. Козыреву, реформаторам Е. Гайдару, А. Чубайсу и некоторым другим, которое демонстрировало американское руководство. Многие в американском истеблишменте относились к Российской Федерации так же настороженно, как и к Советскому Союзу. Но администрация Клинтона не во всем прислушивалась к своим консерваторам. Клинтон и его команда, как отмечают американские историки Дж. Голдгейр и М. Макфол, считали Ельцина своим бойфрендом в Москве, чье падение означало бы конец проамериканским реформам в Российской Федерации[15]. И это именно то, что может произойти в случае провала Ельцина в Чечне.
Вторжение российских войск в повстанческую республику, которое стало неожиданностью для Клинтона и его помощников по российскому вопросу, заставило многих в Америке усомниться в демократии Ельцина[16]. Однако ради сохранения дружественного ельцинского режима и проводимых им реформ Клинтон был готов закрыть глаза на силовые действия «друга Бориса» и, как еще один американский автор А. Стент рассказывает, даже периодически сравнивал их с «аналогичными усилиями президента Линкольна по спасению Соединенных Штатов от распада во время Гражданской войны». Кроме того, администрация Клинтона не прекращала оказывать экономическую помощь Москве во время первой чеченской войны. Отказ от нее, а тем более от идеи санкций, был отвергнут в принципе.
Изначально больше всего команда Клинтона пыталась помешать чеченской проблеме сформировать повестку внешней политики США в отношении России или сорвать то, на чем эта политика основывалась в Москве – президентство Ельцина. В свете общероссийской темы, по мнению ряда американских аналитиков, Чечня казалась чем-то вроде «отрыжки» в процессе длительного и трудного перехода России к демократии. Только позже администрация Клинтона использует чеченскую тему для оказания давления на Ельцина, в случае, если он проявит чрезмерную независимость. В частности, это найдет свое выражение в том, как свидетельствует тот же А. Стент, что Соединенные Штаты откажутся считать чеченских сепаратистов террористами после Кремля[17].
Возвращаясь к рассмотрению хода конфликта, прежде всего, следует отметить, что после провала «новогоднего» штурма Грозного чеченская кампания вступила в фазу затяжного вооруженного противостояния, в котором сторонам периодически удавалось добиваться локальных успехов. Тем не менее после ряда изменений в руководстве Объединенной группировки войск (ОГВ) и увеличения ее общей численности до 70,5 тыс. чаша весов медленно, но необратимо склонилась в сторону федеральных сил. Боевикам удалось провести несколько громких диверсионно-террористических операций, но они не смогли остановить продвижение российской армии. 20 февраля 1995 года боевые подразделения сепаратистов начали покидать столицу Чечни, заблокированную ОГВ. Были освобождены крупнейшие населенные пункты на востоке республики – Гудермес, Шали, Аргун. На западе Чечни было освобождено село Самашки, трагедия в котором получила широкий резонанс и неоднозначные интерпретации в российском обществе.
В общей сложности к лету 1995 года российская армия оккупировала почти все равнинные районы Чечни. Наступил долгожданный поворотный момент в боевых действиях. Способность незаконных вооруженных формирований противостоять ОГВ резко упала. Боевики массово двинулись в горы, надеясь организовать там какое-то подобие организованного сопротивления. Но было ясно, что если за пределами зоны боевых действий не произойдет чего-то экстраординарного, то к следующей весне с террористами и сепаратистами будет покончено. На самом деле российская армия была на пороге победы. Задачей политиков было защитить ее от провокаций и ударов в спину. Но в тот момент ни организационно, ни даже с политической и психологической точки зрения никто в стране не был готов противостоять угрозам совершенно нового рода. Угрозы, с которыми наша страна никогда не сталкивалась за всю свою историю. Речь идет о распространении подрывных действий международных террористов на Россию. Не только население, но и власти знали о массовом применении средств международного терроризма против гражданского населения исключительно из зарубежного опыта. Соответственно, в стране не было достаточных сил для борьбы с международным терроризмом в случае, если его удары станут широкими, а не узкими.
Событием, кардинально изменившим ситуацию и обернувшимся очередным провалом федерального центра, стал кровавый террористический акт, совершенный полевым командиром Шамилем Басаевым. Понимая, что он бессилен противостоять ОГВ в бою, Басаев решил «перенести войну», условно говоря, на территорию «самой России». В результате налета организованной им крупной банды в Ставропольском крае тогдашняя российская вертикаль власти была потрясена до самого верха. Героическое сопротивление, оказанное небольшим отрядом полицейских в городе Буденновске, которые были заблокированы в городском управлении внутренних дел, сорвало планы захвата аэропорта в Минводах бандой Басаева для организации рейса в Москву. Однако сам Буденновск, не имевший крупных федеральных вооруженных сил, стал легкой добычей боевиков. Одна группа из них совершила налет на городские улицы, убивая и захватывая в плен мирных жителей. Другая часть боевиков захватила городскую больницу. Около 1500 человек были взяты в заложники на территории больницы, что позволяет говорить о террористической акции в Буденновске как о беспрецедентной в мировой практике.
В этих условиях федеральное правительство было полностью потеряно. В конце концов попытки штурма больницы и освобождения заложников были пресечены. С террористами начались переговоры, и они велись лично премьер-министром В.С. Черномырдиным с российской стороны. Результатом переговоров стало согласие Москвы на самые наглые требования бандитов. Им разрешили уехать, прикрываясь десятками заложников, в Чечню. И, кроме того, было выполнено требование прекратить наступление ОГВ и начать переговоры с президентом самопровозглашенной Ичкерии. Анатолий Левин, российский журналист, происходящий из потомственных «эмигрантов» и «беженцев» в Великобританию, в своей очень спорной, хотя и довольно богатой книге о первой чеченской войне утверждал, что «в результате переговоров с Басаевым рейтинг популярности Черномырдина вырос». Это, конечно, даже не ошибка, а ложь – после публичных унижений со стороны Басаева Черномырдин был похоронен как политик под обломками своей рухнувшей репутации и взлетевшего до нуля рейтинга «популярности». После Буденновска никто больше не воспринимал Черномырдина как сильного лидера, способного защитить национальные интересы своей страны.
В то же время в дальнейшем частично были учтены уроки Буденновска. Именно после теракта Басаева был принят Указ Ельцина № 338 от 07 марта 1996 года «О мерах по усилению борьбы с терроризмом». А позже был принят Федеральный закон № 130‑ФЗ от 25 июля 1998 года «О борьбе с терроризмом». В результате категорический запрет на удовлетворение требований террористов перекочевал из международного права в российское.
Таким образом, впервые некомпетентные политики украли возможную победу у российской армии. Однако купленное по такой высокой цене «буденновское перемирие» оказалось шатким и коротким. Уже осенью, после теракта, организованного против командующего ОГВ, печально известного в России и Чечне генерала А.А. Романова, он был сорван. Бои возобновились. В то же время вооруженные формирования сепаратистов успели отдохнуть, пополниться, передислоцироваться из горных районов Чечни в равнинные. Сценарий боевых действий в первой половине 1995 года повторился: первоначально дудаевцам удалось перехватить стратегическую инициативу, но постепенно российская армия смогла вновь ее вернуть, медленно выдавливая местных боевиков и международных террористов в горы. В результате спецоперации был ликвидирован президент самопровозглашенной Чеченской Республики Дудаев. Его сменил не военный, а гражданский деятель, идеолог Дудаева Зелимхан Яндарбиев.
Попытки международных террористов организовать масштабные теракты по буденновскому сценарию в основном заканчивались провалом. В свою очередь, небольшие теракты по взрыву автобусов и троллейбусов с мирными жителями вызвали раздражение населения, но уже не могли повлиять на позицию центральных властей. Тем не менее чеченским сепаратистам и тем силам за рубежом, которые им покровительствовали, удалось успешно разыграть политическую карту. Им дали шанс сделать это президентские выборы 1996 года, которые прошли при резком росте антиельцинской оппозиции. Хотя формально Ельцину на выборах противостояли коммунисты во главе с Г.А. Зюгановым, за Ельциным стояло также много либералов, которые не поддерживали определенные действия президента, в том числе чеченскую войну. Мобилизовав все свои силы, режим Ельцина сумел пережить судьбоносные для Российской Федерации выборы 1996 года. Но ценой победы Ельцина во втором туре президентской гонки стал его союз с генералом А.И. Лебедем и назначение последнего на пост секретаря Совета Безопасности Российской Федерации «с особыми полномочиями» 18 июня 1996 года.
Страна впервые узнала о генерале Лебеде в августе 1991 года, когда он «перешел» на сторону Ельцина вместе со своей воинской частью. С этого момента генерал Лебедь начинает совмещать военную карьеру с укреплением своего политического капитала. Популярность Лебедя особенно возросла во время обострения приднестровского кризиса летом 1992 года (о котором более подробно будет рассказано ниже). С тех пор он начал позиционировать себя не только как жесткий военный, но и как миротворец, который заботится о людях. Лебедь решил использовать свое назначение секретарем Совета Безопасности для укрепления своего имиджа миротворца. С этой целью он выступил с рядом дипломатических инициатив по чеченскому вопросу.
Деятельность генерала Лебедя привела к заключению 22 августа 1996 года в селе Хасавюрт соглашения «О неотложных мерах по прекращению огня и боевых действий в Грозном и на территории Чеченской Республики». Согласно содержащимся в нем положениям, российские войска покидали республику. Это обстоятельство позволило некоторым авторам назвать достигнутые генералом Лебедем договоренности «хасавюртовской сделкой». В совместном заявлении генерал Лебедь и начальник Генерального штаба вооруженных сил самопровозглашенной Чеченской Республики, а по совместительству первый заместитель председателя Государственного комитета обороны Чечни Аслан Масхадов озвучили принципы, на которых планировалось вести переговоры в будущем. Среди них было право наций на самоопределение, хотя оно и не было предусмотрено Конституцией России.
С выводом федеральных сил из Чечни закончилась не только первая чеченская война. Как подчеркивают некоторые авторы, после вывода последних формирований российских войск из мятежного анклава Москва окончательно потеряла контроль над этим субъектом федерации. Но в то же время у властей самопровозглашенной Ичкерии появилась возможность привлечь средства из федерального бюджета, которые они использовали в полной мере[18]. И «окончание» самой войны оказалось формальным – военные столкновения и теракты продолжались и в последующие годы. Таким образом, за годы правления Ельцина, начиная с конца 1990‑х годов, чеченский конфликт, в отличие от осетино-ингушского конфликта, не был урегулирован.
Ближнее постсоветское пространство в кольце конфликтов
Вторым периметром безопасности России, где происходят локальные гибридные войны, направленные на подрыв российских позиций, является постсоветское пространство. Основной тенденцией, определяющей развитие расположенных здесь стран, является приобретение этими странами так называемого суверенитета и его полное укрепление. В той или иной степени все эти страны были порождены демонтажем исторической российской государственности в формате Советского Союза, где-то выход из СССР протекал в целом мирно, как, например, в Эстонии, а где-то, как, например, в Грузии, Латвии и Литве, сопровождался вооруженными конфликтами разной степени интенсивности.
Российская Федерация также была образована в результате отделения от своего социалистического прошлого и создания единого Советского государства. Тем не менее в случае с ним не произошло полного разрыва с прошлым, поскольку Российская Федерация объявила себя правопреемницей СССР и была признана международным сообществом в этом статусе. Это обстоятельство сильно повлияло на политику нового кремлевского правительства, в том числе в зонах конфликтов на бывших территориях СССР. Москва стала естественным привлекательным центром для всех тех, кто был сторонником интеграции и урегулирования межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве.
Кроме того, большое количество русских проживало во всех республиках, отколовшихся от СССР. В одночасье они превратились на своей родине в эмигрантов, людей второго сорта, подверглись дискриминации. Они видели в Российской Федерации силу, способную защитить их интересы и саму жизнь. Многие жители самой Российской Федерации также считали россиян, проживающих в соседних республиках, соотечественниками и считали важным поддержать их. Поэтому, как бы негативно или позитивно новое правительство в Москве ни относилось к этому обстоятельству, оно вынуждено предпринимать дипломатические шаги и тратить ресурсы на урегулирование конфликтов во всех бывших советских республиках.
