Рисовая водка и русские тени. Часть 1
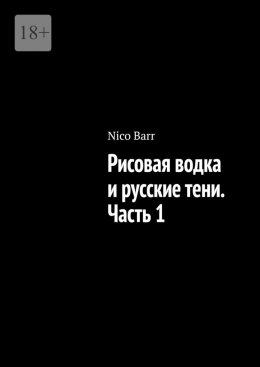
© Nico Barr, 2025
ISBN 978-5-0067-1310-9 (т. 1)
ISBN 978-5-0067-1311-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог: «Билет в никуда»
Дождь в Питере – это не вода. Это жидкая тоска. Он просачивается под воротник, въедается в кости, напоминает: ты здесь чужой, даже если родился в подъезде с облупленными амурами на фасаде.
Я стоял на Московском вокзале, сжимая чемодан, купленный в «Пятерочке» за триста рублей. Внутри – две футболки, паспорт с вырванной страницей, и билет. Не туда, куда хотел. Просто отсюда.
Поезд шептал: «Уезжай, пока не стало поздно». Я верил, что побег – как пересадка сердца: вырежешь гнилое, вставишь новое. Не знал, что память – это вирус. Она плывет в крови, даже если сменишь имя, город, континент.
***
Первая ночь в Ханое. Я сидел в баре у порта, где ром пах керосином, а мухи садились на край стакана, как старые знакомые. Бармен – вьетнамец с лицом, будто вырезанным из коры – спросил: – Ты откуда? – Ниоткуда, – ответил я, а он засмеялся, показав зубы, черные от бетеля. – Ниоткуда – это тоже место. Там всегда ветрено.
Он научил меня двум правилам:
Никогда не спрашивай имя.
Никогда не верь тем, кто говорит «навсегда».
Позже, когда я нашел «Белый Дракон» с вывеской-призраком, понял: бары – это церкви для тех, кому некуда молиться. Здесь оставляют монеты вместо свечей, а исповеди смешивают с виски.
Но тогда, в первую ночь, я просто смотрел, как дождь смывает с улиц следы. Мои следы. И думал: стану водой. Исчезну. Превращусь в пар.
Не получилось.
P.S. Иногда, чтобы найти себя, нужно потерять всё. Даже страх потерять.
Байка первая: «Дождь и бокалы»
Вечер начался с дождя. Не того, что стучит по крыше, словно рассерженный предок, а тихого, вязкого, как сироп из забродившего тростника. Ветер принес его с моря, пропитав Ханой запахом мокрого асфальта и жареной рыбы. Я вытер стойку тряпкой, от которой пахло цитрусовой горечью – остатки лайма, вчерашние, или позавчерашние. Время здесь течет, как рисовая водка сквозь пальцы: липко, но незаметно.
Бар назывался «Белый Дракон», хотя драконов тут не водилось. Вывеску содрали еще до моего прихода, оставив ржавый крюк над дверью. Местные шептались, что место проклято – бывший хозяин ушел в море с контрабандистами и не вернулся. Я не верил в проклятья. В Питере тоже хватало дыр в асфальте, куда проваливались люди. Только там их засыпали снегом, а здесь – прикрывали пальмовыми листьями.
К полуночи пришел Лыонг. Старик с лицом, похожим на высохший манго, в плаще из промасленной ткани. Он был из тех, кто помнил город до небоскребов, когда река Хонгха еще носила трупы солдат. Садился всегда в угол, заказывал «что-нибудь горячее». Я наливал ему самодельный виски с имбирем – напиток для тех, кто хочет забыть, но боится уснуть.
– Ты сегодня молчишь, Русский Призрак, – просипел он, разминая суставы. Мое прозвище здесь звучало как «Ma Ку», что-то между духом и бродягой. Подходило.
– Дождь вымывает слова, – буркнул я, переводя взгляд на окно, за которым мелькали тени мотоциклов. Где-то там, за этой стеной воды, лежал порт, а в порту – корабли под флагами, которых я больше не мог видеть. Пару лет назад билет в один конец стоил дешевле, чем взятка пограничнику. Теперь и взятки не хватало.
Лыонг засмеялся, обнажив зубы, окрашенные бетелем в кровавый цвет.
– Дождь вымывает следы. Ты думаешь, твои – первые? – Он ткнул пальцем в пол, где трещина в плитке извивалась, как река на карте. – Здесь раньше французы ром пили. Потом американцы. Потом… – он махнул рукой, и в жесте было что-то от взмаха крыла летучей мыши, – все ушли. Остались только духи да мы с тобой.
Я потянулся за бутылкой, но он остановил меня жестом. Вытащил из кармана смятый конверт с фото: девушка в белом аозае, смеющаяся на фоне рисовых полей.
– Дочь. Уехала в Сайгон. Говорит, ты научил ее… как это… «мечтать о снеге».
Я сглотнул. Три месяца назад, пьяная ночь, разговор о том, как лед скрипит на Неве. Она плакала, а я врал, что в России снег иногда пахнет корицей.
– Снег тает, – пробормотал я, но старик уже встал, бросив на стойку горсть монет.
– А рис – прорастает, – бросил он на прощание, растворившись в завесе дождя.
Я остался с пустым бокалом и мыслью, что, возможно, проклятия – это просто память, которая не находит выхода. Как мое имя. Как тот билет, что истлел на дне чемодана, задвинутого под кровать в комнатке над баром.
Бар «Белый Дракон» молчал. Только дождь продолжал стучать, смывая с улицы следы тех, кто когда-нибудь все же уйдет.
Байка вторая: «Шрамы и ракушки»
Ураган пришел с юга, как всегда – без предупреждения. Небо треснуло по швам, вывалив на город не воду, а что-то густое, белесое, будто слезы гигантской медузы. В такие ночи «Белого Дракона» навещали только безумцы и те, кому некуда возвращаться. Ко вторым, кажется, относился и я.
Она вошла, когда часы за стойкой, давно остановившиеся на времени «половина пятого», вдруг дернулись и затикали. Высокая, в кожаном пальто не по сезону, с волосами цвета пережженного кофе. Глаза – как обсидиановые лезвия: острые, но тусклые от старых порезов. Села у стойки, бросив на пол рюкзак, с которого стекали лужицы. Пахло морем, солью и железом.
– «Что-нибудь, что горит», – сказала по-английски, но с акцентом, в котором угадывались славянские корни. Украина? Беларусь? Ветер с Балтики, все равно. Мы здесь все – ветки, отломанные от своих деревьев.
Я протянул ей «Чёрную змею» – самогон на кобре, настоянный в подвале три месяца. Она отхлебнула, не поморщившись. Хороший знак. Или плохой.
– Ты тот, кто стирает имена, – заявила она, доставая сигарету. В баре было запрещено курить, но запреты здесь имели вес только до первой полночной бури. – Меня зовут Катя. Вернее, звали. Теперь – Линь. Как рыба.
Она закатала рукав, показав шрам – неровный, будто выжженный молнией. Знакомо. Такие остаются после контакта с колючей проволокой на границах. Мои собственные запястья непроизвольно дернулись под манжетами.
– Ищешь кого-то? – спросил я, полируя бокал, в котором отражалось мерцание неоновой вывески соседнего массажного салона.
– Себя, наверное. Три года назад сбежала из Одессы с контейнером фальшивых паспортов. Выбросила их все в Южно-Китайское море, кроме одного. – Она потянула из горла серебряную цепочку с ключом. – От сейфа в банке Дананга. Но код забыла.
Я хмыкнул. Таких историй здесь хватало. Каждый второй иностранец в Ханое – беглый вор, недописавший поэт или душа, потерявшая ярлык.
– Зачем пришла?
Она наклонилась, и вдруг я увидел в ее зрачках то, что давно избегал видеть в зеркалах: осколок страха, прикрытый насмешкой.
– Говорят, ты умеешь готовить «Буань Инь». Настойку из полыни и… пепла.
Стоп. Это уже пахло опасностью. Рецепт, который я привез из дома, из тех времен, когда работал в питерской «парашке» – подпольном баре для своих. Пепел тогда был не метафорой.
– Умею, – ответил я, медленно вытирая руки. – Но она не для живых. Это напиток для тех, кто хочет поговорить с мертвыми. Или сам стать тишиной.
Она положила на стойку фотографию: мужчина в военной форме, лицо, стертое временем до пятна.
– Он умер в Донецке. Я не успела. Мне нужно… – голос дал трещину, как лед на канале Грибоедова в апреле.
Я кивнул. Спустился в подвал, где между ящиков с мангустинами пряталась бутылка с черной этикеткой. На обратном пути услышал грохот – Катя-Линь била кулаком по стене, срывая штукатурку. Плакала без звука, как плачут здесь: чтобы дождь заглушил.
Мы пили «Куань Инь» до рассвета. Она рассказывала, как ее отец учил ее танцевать на льду, а я вспоминал, как хоронил мать в апрельскую распутицу, когда снег в Питере превращался в грязную кашу. Мы не говорили о Вьетнаме. Здесь это правило: не трогать настоящее, если хочешь уцелеть.
Перед уходом она оставила на стойке ключ.
– Сейф в Дананге. Код – дата твоего побега, – бросила она, исчезая в серой пелене.
Я так и не спросил, откуда она знала. Возможно, мы все здесь – открытые книги, написанные на языке шрамов.
Утром, когда ураган стих, я выбросил ключ в реку. Пусть ржавеет. Мертвые не нуждаются в деньгах, а живые – в ответах.
Только часы за стойкой снова замерли – на этот раз на «без пяти шесть». Как раз вовремя, чтобы забыть.
Байка третья: «Тени и жасмин»
Жара пришла внезапно, словно гиена, выскочившая из-за поворота. Воздух гудел, наполненный зноем и гудением мотоциклов, а асфальт плавился, оставляя на подошвах следы, похожие на шрамы. В такие дни «Белый Дракон» превращался в сауну для потерянных душ. Я вытирал пот со лба тряпкой, пропитанной запахом имбиря, и думал о том, как в Питере июльский дождь пахнет мокрым гранитом. Здесь же даже тени казались влажными.
Он появился на пороге без звука, будто его вырезали из полотна ночи. Низкорослый, в костюме из дешевого шелка, с лицом, напоминающим смятый конверт. В руке – трость с набалдашником в форме лотоса. Взгляд тяжелый, как гиря на весах.
– «Чай с жасмином», – сказал он по-вьетнамски, но с акцентом южных провинций. Голос – скрип несмазанных дверей.
Я кивнул, хотя чая у нас не было. Налил ему рисового вина с лепестками, которые собирала старуха Нга со своего балкона. Она утверждала, что жасмин здесь особенный – прорастает на костях французских колонизаторов.
Он пригубил, не моргнув.
– Ты знаешь, почему умер «Белый Дракон»? – спросил он, указывая тростью на потолок, где трещина образовывала контур драконьей пасти. – Он пытался жевать звезды. А звезды… они жгут.
Я притворился, что проверяю полку с бутылками. Разговоры о прежнем хозяине бара всегда заканчивались одинаково – пустыми бокалами и долгами. Но старик не отступал:
– Он искал твой город. Тот, что из льда. Говорил, что там даже ад замерзает.
Лед. Питер. Апрельский лед на канале Грибоедова, хрупкий, как обещания. Я сглотнул ком памяти.
– Ад везде одинаковый. Просто где-то он пахнет жасмином, а где-то – соляркой.
Старик усмехнулся, обнажив золотой зуб с выгравированным иероглифом «тьен» – деньги. Вытащил из кармана фотографию: молодой парень в форме моряка, стоящий на фоне Ханойской цитадели. 60-е годы, судя по выцветшим тонам.
– Мой сын. Пил в этом баре с американцами. Один выстрел в море – и тело не нашли. Ты видел таких? – Его ноготь, желтый, как старый пергамент, постучал по фото. – Он любил вашу… водку. Говорил, что она как жидкий огонь.
Я отстранился. Такие вопросы пахли порохом. Но старик не ждал ответа. Он положил на стойку медальон – потускневший, с изображением дракона.
– Он оставил это здесь. В тот вечер. Возьми. Может, напомнит тебе, что не все призраки – чужие.
Когда он ушел, растворившись в мареве, я разглядел на обратной стороне медальона гравировку: «СПб, 1974». Советская работа. Тот самый год, когда мой отец, моряк Балтийского флота, исчез в тумане где-то у берегов Кубы. В его письмах тоже говорилось о жидком огне.
Ночью, когда жара спала, я вышел на крышу. Где-то вдали горели огни порта, как чужие звезды. Я швырнул медальон в темноту, слушая, как он ударяется о крыши соседних домов. Ответом стал лай собак – местных стражей забвения.
«Белый Дракон» молчал. Только жасмин за окном шелестел, напоминая, что некоторые истории прорастают сквозь года, как корни через бетон. А мы здесь лишь временные смотрители музея чужих теней.
Байка четвертая: «Призрак и лотос»
Тайфун назвали «Лотосом», будто ураганы здесь цвели, как цветы. Ветер выл, царапая ставни когтями, а дождь лился вертикально – редкие прохожие казались тенями, плывущими сквозь серую пелену. Я гасил свет в баре, готовясь к долгой ночи с бутылкой и собственными мыслями, когда дверь распахнулась с треском.
Она стояла на пороге, держа в руках мокрый холщовый мешок. Платье, цвета выцветшего индиго, облепляло фигуру, подчеркивая линии, которые могли бы принадлежать танцовщице или ныряльщице за жемчугом. Волосы – черные, но с рыжими прядями, будто их коснулось пламя. Лицо… Лицо было как старинная гравюра: острые скулы, рот, готовый к насмешке или поцелую, глаза – два обсидиановых зеркала, отражающих вспышки молний за окном.
– «Чай с имбирем», – сказала она по-русски, и язык, который я почти забыл, прозвучал как обрывок старой песни.
