Есаул Мартынов
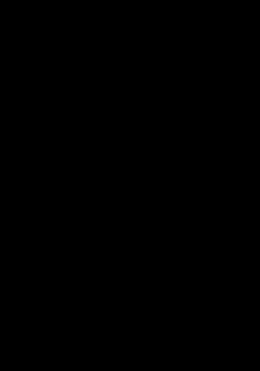
Посвящается 170-летию отражения нападения
англо-французской эскадры на Петропавловск
Петропавловск
На полуостров пришло, наконец, неспешно набирающее тепло лето и сопки курчавились сплошной зеленью склонов. Яркая листва после долгой снежной зимы радовала солдат гарнизона, утомленных ветрами и шквалами камчатской пурги. Во время долгой зимы мир вокруг превращался в бесконечную череду снежных полуокружностей, укрывших сопки, дома и прибрежные скалы. Под снегом были упрятаны склоненные до земли кусты, кедровый стланик и березки, а обильные растительностью сопки выглядели огромными набухшими снегом холмами, готовые вот-вот разрядиться стремительной лавиной. Снег языками свисал с крыш домов и портовых складов, устилал берег, и только неспокойное море с обломками льдин без устали расчищало прибрежные камни и гальку, омывало покрытые льдом скалы, раскачивало баркасы у причала. Море не отдыхало, море дышало, словно огромный кит, пуская фонтаны, волнуя стихию своими необъятными массой, размерами.
Весна пришла вразвалочку – неспешно: яркие солнечные дни сменялись тугим с моря ветром и злой, колючей, на исходе зимы, пургой. Кристаллы льда, подзабыв о своей зимней пушистости и неге, долетали с небес до земли, успев растаять и вновь замерзнуть, и впивались в живую плоть больно, шлифуя мир, словно наждак. Тяжелый мокрый снег лепил на стенах домов, стволах свои причуды, копился, смерзаясь на ветвях деревьев, сгибая и нещадно ломая их.
Голубоватый, искрящийся зимний снег темнел, насыщаясь влагой, снежные горы день ото дня неспешно оседали, как вдруг полетели с сопок ручьи, и скоро, как не казалось это удивительным, проглянула земля, тут же озеленив склоны.
Среди зелени появились и первые полезные для истосковавшихся за зиму без свежих овощей людей дары камчатской природы: черемша и курчавые отростки папоротника, яркая, совсем еще не жгучая крапива, нежные побеги кедрового стланика. Солдатский рацион был не столько скуден, как однообразен: рыба да икра с краюшкой черного ржаного хлеба, изредка какой-никакой разносол: то слежавшаяся в бочонках квашеная капуста, то уставшая от ожидания своей очереди к обеденному столу селедка.
У казармы на склоне Красной сопки на длинной лавке вдоль стены склада сидели и грелись служивые. Солнце царило на небосклоне, одаряя уставших от зимы людей, оказавшихся на краю Отечества. Перед солдатами раскинулась, словно открытая книга с серебрящимися под солнцем строками гребней волны Авачинская бухта, укрытая со всех сторон скалистыми берегами – черными островерхими отрогами падающих в глубину неспокойных вод базальтами. У ближнего берега портового «закутка» тянулся выстроенный из черных истертых бортами кораблей бревен причал с подвязанным ботом и парой шлюпок, а на противоположной его стороне, отделенной от основной бухты, высилась оконечность Никольской сопки и через плоский пологий к морю перешеек, как продолжение первой сопка Сигнальная. Слева, удачно прикрывая вход в «закуток», тянулась темная, из вулканического песка и галечника, коса, поименованная Кошкой.
Молодые солдаты, прибывшие в военный городок в прошлогоднюю навигацию, пережившие обильную снежную зиму, расстегнув шинели и тугие вороты мундиров, с наслаждением подставляли солнцу бледные свои лица, ребячьи шеи со скромными православными крестиками на тесьме. Некоторые солдатики прикорнули в неге, уютно устроившись на травке, подстелив шинельку и скинув тесные сапоги. Солдатская обувка, свесила голенища в поклоне и стояла в сторонке, укрытая истертыми портянками, словно загулявшие девки платками.
Авачинская бухта была нынче спокойна, и только всполохи прибоя у прибрежных скал да парящие у берега чайки оживляли картину. В отдалении высились горные кручи: Корякский и Авачинский вулканы, еще не освободившиеся от снега «взрывали» пейзаж из раскинувшихся вширь и глубину покатых сопок. Вулкан Корякский, подсвеченный солнцем, ровным конусом подпирал зацепившийся за вершины белесую тучу, похожую на папаху и башлык скачущего по небу кавказца.
Семен Гладков и Гаврила Окунев прибыли на Камчатку из Сибири, где служили поначалу в Иркутске. Взрослые уже мужики служили пятый год, а последний провели в гарнизоне Петропавловска. Солдаты-земляки сидели на лавке и разбирали добытый утром в ближнем лесу папоротник, чтобы отнести на камбуз коку для приготовления зелени. Тут же лежала и собранная черемша, которую солдаты ели с припасенным еще с обеда хлебом. К Семену и Гавриле подходили солдатики-сослуживцы и угощались черемшой, а те, ощущая себя хозяевами-добытчиками, торговались, выпрашивая табачок.
− После зимы-то как хочется зелененьким похрустеть, − шутил Семен, щурясь на солнце и раздавая дикий лук.
− Спасение от цинги, – сказывал лекарь, – отвечал ему степенно Гаврила, явно набивая цену товару, рассчитывая разжиться запасом табака впрок.
Солдаты, получив увязанный пучок лесного лука, тут же тыкали черемшой в крупную соль, поданную в туеске из бересты кем-то из запасливых служивых, и с удовольствием хрустели зеленью, посмеиваясь, ‒ тащить табачок не спешили.
− Глянько, братцы! Никак к нам кто-то зашел в бухту. Наши, однако! – раздался совсем мальчишеский возглас молодого солдатика, возлежавшего на травке. Все, разместившиеся у казармы, стали всматриваться на акваторию бухты, где у скал, именуемых местными «Три брата», появился корабль под парусами с развивающимся Андреевским флагом.
− Наш − точно! Флаг-то видишь? Стяг морской, российский! Айда, ребятушки! Айда, служивые, на пристань! Глянем, кто к нам пожаловал!
Приход боевого фрегата из России был большим событием для небольшого, всего-то в две сотни солдат гарнизона. Служивые, натянув наспех сапоги, на ходу застегивая тесные мундиры и поправляя шинели, двинулись чередом к причалу по узкой набитой с сопки тропе, чтобы увидеть прибывших моряков из далекой России.
Время между тем было тревожное: ждали вестей с большой земли о набирающей ход военной компании в акватории Черного моря. Казалось бы – так далеко от эпицентра боевых событий Петропавловск, но вездесущий флот Британии давно приглядывался к российским окраинам, пока еще слабо освоенным, но от этого еще более привлекательным для вероломных саксов. Обиженная за Наполеона на Россию Франция взялась помогать «Владычице морей» и тянулась за ней из последних своих морских сил, отрядив и флот, дабы урвать-таки часть от увесистого «пирога» военной добычи.
Русская армия после угроз со стороны Турции вступила в Бессарабию, а флот без раскачки высадился десантом в Поти и Кутаиси. В ноябре разгорелись первые сражения на море. Русский флот разнес в пух и прах флот султана и засыпал побережье залива у Синопа обгорелыми обломками кораблей турецкого флота. Адмиралу Осман-паше, сдавшемуся Павлу Нахимову, было нечем оправдаться перед Его Святейшеством Султаном Османской Империи Абдул-Меджидом. Разгром был полный: при равенстве морских сил, при значительной огневой поддержке береговых батарей турецкой крепости, турки снова не сдержали натиска русских.
Как написали дипломаты – «Синопский гром» прокатился по всей Европе.
В Авачинскую бухту вошел потрепанный ветрами и шквалами после долгого плавания фрегат «Аврора» под Андреевским флагом. Переход из Кронштадта на Камчатку фрегат одолел за сто девяносто восемь дней плавания под парусами. Самый длительный переход от побережья Южной Америки из Кальяо в Петропавловск, в девять тысяч миль без захода в порты, был исполнен в рекордно короткий срок, – за два месяца и шесть дней.
На причале, укрытом скалистой Николаевской сопкой, в «закутке, в кладовке», − как говаривали местные, ждали уже фрегат: на берегу и на причале собрались практически все жители небольшого поселения, именуемого, тем не менее, городом. Вышли и сонные музыканты с медными мятыми трубами и барабаном. Толкались тут солдаты гарнизона, жители, занятые промыслом да охотой, подтянулось и начальство во главе с военным губернатором Василием Завойко. В мундире генерала, при шпаге, что называется «при параде», Завойко вглядывался через подзорную трубу на фрегат и, отметив, что-то интересное тут же делился впечатлением от увиденного с окружением и помощниками, которые теснились рядком и слушали с вниманием Василия Степановича, кивали головами.
Есть такие люди ‒ крепыши: при сухощавости внешней, низкорослости, на земле стоят, словно отлитые из тяжелого металла. По земле идут основательно, часто широко расставляя ноги, словно ждут нежданного шквала, стремительного шторма. Думаешь, глядя на такие самородки, ‒ вышел бы из него шкипер бедовой шхуны, землепроходец и не ошибешься: таковы мореходы, ‒ ходят по морям, но крепко стоят и на суше. Может это от того, что морская качка неспокойного зыбкого континента развивает способность быть всегда устойчивым и воспринимать спокойно и уходящую из-под ног палубу, и перемену погоды и решительные шквалы ветра, укладывающие судно своим напором на борт так, что все брошенное, а от того ненужное, ту же смывается неугомонной волной.
Таков был Завойко – крепкий человек, обогнувший планету по морям и океанам, возмужавший в походах, баталиях и в созидательной работе, подвижный, но основательно стоящий на земле, как на постоянно качающейся палубе своего корабля.
«Аврора» встала на рейде и вскоре от ее борта отошла шлюпка и встала у причала. Замешкавшийся было оркестр, вдруг заголосил невпопад охрипшей трубой и тут же выправляясь, грянул «Боже, Царя храни!». Звучало вразнобой, не хватало в звучании мелодичности и слаженности, а окривевший барабанщик, с перевязанной платком щекой, явно выпадал из общего строя, стоял потерянный, скривившись от боли, но звуки музыки взбодрили, подчеркнули торжественность момента. Все приосанились, стали смотреть веселее, заговорили, кивая в сторону потрепанного морскими ветрами фрегата.
Капитан-лейтенант Иван Изыльметьев, осунувшийся, с лицом желто-синюшным, был явно не вполне здоров, но бодрясь, пытался чеканить шаг по кривенькому настилу причала, – дошел, покачиваясь, резко вскинул ладонь к козырьку фуражки, доложил Завойко о прибытии. Выслушав доклад, Василий Степанович обнял Изыльметьева и уже в объятиях уловил, как исхудал капитан, как хрупок он, потеряв свой солидный вес во время изнурительного плаванья.
Приобнявшись, Завойко и Изыльметьев отошли в сторонку, присели под навесом у дощатого склада на неказистую лавку у причала и, продолжая смотреть в сторону бухты, на фрегат, который подтягивали шлюпками на веслах к причалу, заговорили о насущных делах.
− Беда у нас на фрегате, Василий Степанович. Матросики хворые у меня на судне практически поголовно. Схоронили более десятка на последнем переходе от цинги, да и теперь половина экипажа в таком состоянии, что, то ли сегодня, то ли завтра помрут. Надо бы их как-то полечить, чтобы отлежались в тепле, подкормились зеленью какой.
− Поможем чем можем, Иван Николаевич. У нас недалече, − верст в сорока, есть благословенное место – Паратунка. Источники там горячие, целительные, а место шаманское, местными ительменами, айнами намоленное. Даром, что язычники они , да, Бог-то он един. Лекаря отправим, дабы присматривал за хворыми. Теперь уже многое на сопках повылазило, – главное лесной чеснок – черемша, да отвары кедрового стланика. Ими и спасаемся. Дал команду солдатикам гарнизона идти в окрестные леса собирать чеснок лесной. Теперь в рационе солдат гарнизона обязательно даем свежую черемшу, готовим папоротник. У нас ведь тоже окромя рыбы мало чем можно поживиться. Хлеб печем свой, − благо, что запасы муки да зерна пока не иссякли.
− Хорошо, Василий Степанович. Судно подтянем к причалу, ‒ нужно срочно отправлять матросов на лечение. Там у меня почти все больны: из трехсот человек экипажа уже пятнадцати не достает, а остальные в основном также не здоровы. Я и сам на последнем переходе свалился с ног, пришлось отдать мостик для командования старшему офицеру, капитан-лейтенанту Михаилу Тиролю. Так, что я как бы и теперь пациент лазарета, а там, на судне, командует мой помощник. Вон тот, – командует швартовкой, – Изыльметьев рукой указал на суетящегося на причале у корабля высокого подтянутого офицера со шпагой, белых парадных перчатках, черном мундире и крепко сидящей на голове новенькой фуражке.
− Как только фрегат заведут к причалу, ‒ начнем, не мешкая отправку больных матросиков, − ждать не будем, – кивнул одобрительно в ответ губернатор.
Завойко поискал глазами своего помощника и отдал команду готовить подводы для перевозки больных в Паратунку.
– Как маршрут удался? Какие новости с большой земли? Ждем здесь вестей о начале войны. Наслышаны мы о Синопском сражении, подвиге Нахимова и русского матроса, офицеров флота. Но ведь так не оставят дело англичане, придут, чтобы укоротить русские аппетиты. К нам уже наведывались с целями явно разведывательными: покрутились, сняли видимо обмеры, какие смогли и ушли.
− Ты прав, Василий Степанович. В Кальяо я повстречался с будущим нашим противником. Адмиралы Прайс и Фебврье-Деспуант, думаю тебе знакомые, ждали уже нас в порту. Не зайти не могли, − уж очень истрепались за переход из Кронштадта, − нужда была крайняя пополнить запасы воды, свежих продуктов, овощей. А как зашли, тут же поняли, что выпускать нас господа европейские адмиралы не планируют. Явно ждут команду на расправу с русским фрегатом, как будет объявлено начало войны. Думаю, скоро грянет и у нас. Крупные у них там силы.
− Какой флот у них, уточнили?
− Обижаешь, Василий Степанович, − улыбнулся Изыльметьев. Три фрегата: «Президент», «Пик», «Форт», корвет и бриг, а еще пароход «Вираго». Всего порядка двухсот орудий и десант очень многочисленный: примерно тысячи две−три. Сам понимаешь, коли десант на борту, знать ждут команду атаковать порты, брать прибрежные российские поселки, запирать и топить наши корабли. Думаю, что Петропавловск у них в приоритете. Зарятся, я слышал, на наши владения и в Америке англичане: на Ново-Архангельск, на фактории на Кадьяке и Курилах.
− Да, брат, Иван Николаевич. Вести прямо скажем тревожные, но ожидаемые. А ты выходит два месяца как вышел из порта в Перу. Как его там?
− Кальяо. С противником нашим удалось пообщаться. Подумал нужно поближе с ними сойтись, что-то узнать, как-то отвлечь, постараться усыпить их тревогу. Побывал на флагманских фрегатах обеих адмиралов. Испил, так сказать, английского виски из солода да французского коньяка.
− Да ты отчаянный. А как если бы задержали тебя – взяли под арест?
− Пока причин задерживать меня не было, да и уверены они полностью были в том, что никуда мы не денемся. Потому приняли нас с лейтенантом князем Максутовым без сомнений, угощали, и несколько высокомерно отзываясь о нашем флоте, армии, балагурили, раскуривая сигары. Мы отмалчивались, а если говорили, то больше жаловались на нехватку вооружений, боезапаса, тянули время. Я жаловался на усталость, болезни экипажа, несколько приукрасив сложившуюся ситуацию. Так, что несколько усыпили их бдительность. Так вот в разговорах я уловил, ‒ благо знаю английский, что ждут депешу важную о начале войны со дня на день.
− А как удалось уйти незамеченными? Неужто подобру-поздорову отпустили фрегат?
− По-доброму было исключено. Поставил Прайс напротив нас в трех, не более, кабельтовых быстроходный пароход «Вираго». Было видно, поддымливает пароход – значит, на парах стоит, готовый сорваться, как сторожевой пес с цепи. Стоило нам поднять паруса, – он тут же перекрыл бы нам выход в море. Оставалось бы только стрелять. Но это нонсенс – открывать стрельбу в чужом нейтральном порту без объявления войны да супротив двухсот орудий флотилии. Так, что пришлось дипломатией и хитростью действовать. Благо офицеры у меня и матросики замечательные. Все же хороша русская косточка, – крепкая подобралась у меня команда. Скажу честно – не нарадуюсь, Василий Степанович, на русского матросика.
− Согласен, Иван Николаевич! Вся надежда на них. Что мы-то с тобой сможем одни? Да только то, что наши солдатики и матросики сумеют преодолеть. А суть русская в том, что чем тяжелее доля, тем слаженнее и отважнее люди наши становятся.
− Обманули мы все же наших врагов. Помог туман, − видимость была не более кабельтова. А чтобы внимание не привлекать, – под вечер спустили мы семь шлюпок и баркас с матросами, тихонько подняли якоря и на буксире на веслах тихонько ушли из пределов рейда Кальяо. Моряки мои – ребята стожильные, ‒ тянули фрегат при встречной волне и боковом ветре буксиром с таким напряжением, что думаю мало, кому удалось бы это. Но сладилось – удалась нам затея, как обмануть неприятеля. А как ушли, паруса быстренько подняли, шлюпки собрали с матросиками и на всех парусах в открытый океан. Не успели англичане даже дымы пустить на «Вираго», мы уж скрылись. Думаю, шумно у них было, когда пытались уяснить, куда это делся русский фрегат. Адмирал Прайс опытный флотоводец, − думаю, был сильно огорчен. При встрече он все пытался мне объяснить, что русских флот устарел, недостаточно силен, паровых машин совсем мало у нас, и от того не может британцам диктовать свои условия. Высокомерный такой господин, но флотоводец заслуженный – много чего прошел, участвовал в сражениях − противник достойный без спора.
− Что же, рад, коли все так сложилось. Теперь Иван Николаевич я думаю нужно нам укреплять оборону нашего порта и большая удача, что ты пришел со своей командой. Думаю так: ставь свой фрегат за косой Кошка, что запирает вход в ближнюю гавань. Бортом ориентируйся в сторону бухты, чтобы вести огонь, а вот пушки со второго борта, я думаю, следует снять и установить на берегу, − вот, как раз, – напротив, на низком берегу между Сигнальной и Никольской сопками и на этой ближней к причалу косе. Между сопками место ключевое, самое тяжелое для обороны, – удобное для высадки десанта со шлюпок. Коса тоже важна, ‒ на нее в случае прорыва также удобно высадить десант.
Завойко встал во весь рост и указал на седловину между двумя заросшими лесом сопками. За седловиной была видна, курчавая волной, поверхность бухты, как улица в окошко из дома.
‒ Вот это то слабое место нашей обороны. Здесь нужно поставить батарею, но сил недостает. Вот тебе и задание: снимай пушки с «Авроры» и стать на этом пляже, да командира потолковее, посмелее назначь.
‒ Есть у меня такой. Толковый офицер, хоть и молод совсем, но серьезный и смелый, ‒ лейтенант князь Максутов, ‒ откликнулся Изыльметьев.
‒ Не брат ли его здесь служит на корвете?
‒ Да, это его брат. Рассказывал Александр: трое князей Максутовых на флоте служат Отечеству.
Встретить русский фрегат вышел весь народ, живущий на берегах бухты. Были здесь солдаты гарнизона, промысловики и охотники, женщины, ‒ жены да взрослые дочери суровых мужчин, оказавшиеся на краю света среди вулканов, привыкая к шквалам, ветрам со снегом или дождем и землетрясениям, как явлениям обыденным. Среди молодых людей у пристани выделялась девушка, одетая в темный сарафан, с рассыпанными по спине пепельными волосами. Стройная, ладная, и, казалось, необыкновенно легкая и быстрая, юная красавица с любопытством рассматривала фрегат и прибывших матросов. Когда стали на шлюпках подвозить больных и совсем слабых, обессиленных цингой, тут же взялась помогать: смело тягала исхудавших матросиков из шлюпки, вела, поддерживая к подводам, укладывала в повозку, бережно подкладывая под голову свернутую шинель, заботливо укрывала парусиной. Хлопотала и что-то постоянно приговаривала каждому, – такое от сердца, из самой глубины, как брату, самому близкому другу. Солдатики, слабенькие, изможденные, смущаясь своей немощи, улыбались ей, и была во взглядах братская благодарность и восхищение.
Среди встречающих слышалось:
‒ Смотри-ка, сердешные, более трех месяцев без остановки шли по океану: надорвались видать молодцы-удальцы. Говорят, многие померли в пути. Вот такая она доля моряцкая да подневольная служивая!
‒ Так недаром: увязался за ними англицкий флот, вот и бёгли, что есть сил. Вот так!
На причал вместе с капитаном Иваном Изыльметьевым прибыли и офицеры с фрегата. На глазах удивленных петропавловцев разыгралась трогательная встреча молоденьких еще братьев князей Максутовых. Старший брат – Александр прибыл только что на «Авроре», а младший служил на корвете «Оливуца», прибывший в конце мая для поддержки гарнизона.
Братья вместе учились в морском кадетском корпусе, а закончив учение, отправился на флот вслед за старшим Павлом.
‒ Совсем ты братишка отощал, в чем душа держится, ‒ сокрушался после объятий Дмитрий, разглядывая старшего брата.
‒ Знаешь, Дима, шли без передыху, не заходили вовсе в порты, ‒ торопились! Вот-вот грянет война, и англичане совсем этого не скрывают. В Кальяо побывали с капитаном на флагмане командующего эскадрой адмирала Прайса с визитом, так порой прямо и говорили, почти не таясь, что нынче разберутся с русскими. Полагали, вероятно, что не знаю языка, так при мне отпускали суждения, прямо скажем обидные.
‒ Дима, скажи, а что это за девушка, что так хлопочет с ранеными?
‒ Это, брат, наша Сероглазка! Краса здешних мест и умница. Дочка местного шкипера в порту по имени Мария. Зовем Сероглазкой за большущие серые и очень красивые глаза. А что, глянулась? Она всем нравится, ‒ милая и очень отзывчивая. Но, брат, строга Маша, коли речи о чувствах вести. И батя у нее суров, ‒ смотри не нарвись на комплимент! ‒ рассмеялся Дмитрий.
Сероглазка, была занята заботой о больных матросах, но пробегая мимо стоящих на берегу у пристани братьев, кинула быстрый взгляд на молодых людей, и можно было заметить, как несколько смутилась и даже слегка покраснела, приметив Александра.
‒ Ну, а что? Попробуй, познакомься, ‒ зашептал Дмитрий, ‒ девушка, ой, как хороша. И ты, брат, ей, как показалось, также интересен.
‒ А как? Я не знаю, как к ней подойти?
‒ Пойдем, поможем ей с матросиками. Так и познакомимся, ‒ рассмеялся находчивый Дмитрий.
Братья тут же взялись помогать снимать со шлюпки и грузить больных и ослабших в плавании матросов, стараясь быть поближе к Сероглазке.
Сероглазка, улыбнулась широко, отметив старание двух молодых офицеров, бесхитростное стремление сойтись поближе, и еще раз с интересом окинула взглядом Александра.
Александр Максутов был стройный, изрядно исхудавший в плавании молодой человек, еще совсем недавно окончивший морской кадетский корпус, но служил уже в чине лейтенанта. Тонкие черты лица, русые волосы и зеленые глаза делали его привлекательным. В поведении чувствовалось и воспитание и высокая, веками выстроенная человеческая порода. Молодой человек весело и оживленно подбадривал матросов, и те отзывались, ‒ чувствовалось, что молодого лейтенанта на фрегате уважают.
После того, как подводы скрипя натужно, тронулись в долгий путь в Паратунку в сопровождении выделенных для этого солдат, Сероглазка сама предложила молодому лейтенанту показать окрестности порта:
‒ Вы, господин офицер, только что прибыли на «Авроре»? А хотите, я покажу вам наши места?
‒ С превеликим удовольствием, ‒ живо отозвался на приглашение лейтенант, явно смущенный и обрадованный решимостью юной красавицы.
Сероглазка и Александр познакомились, прошли с разговором по улочке следом за обозом с больными матросами и далее свернули в сторону Никольской сопки и по тропе среди берез, рябины, ольхи и высокой камчатской травы поднялись на вершину сопки по склону и неожиданно для Максутова оказались на обрывистом берегу. Внизу, под обрывом, раскинулась бухта, и был виден противоположный берег, скалистые уже горные вершины и конус Авачинского вулкана с остатками прошлогоднего снега в распадках. Берег бухты обрамляли заросшие лесом сопки, обрывающиеся в сторону воды черными скалами. Чайки галдели у берега, звучал фоном рокот прибоя, высокое и как обычно нежаркое солнце дополняли картину камчатского побережья.
‒ Красиво! И бухта хороша! ‒ выдохнул Александр, оглядывая простор Авачинской гавани.
Ветер на вершине сопки был активен: тугой волной трепал полы одежды, волосы Сероглазки.
Встречи молодых людей стали довольно частыми. Сероглазка была занята в оборудованном на случай обороны лазарете. Готовила помещения для приема раненых, занималась подготовкой средств санитарной обработки под руководством фельдшера с «Авроры». Александр почувствовал, что влюбился в девушку, а Сероглазка не избегала с ним встреч, была рада видеть его, и казалось, также полюбила молодого лейтенанта.
Как оказалось, приход фрегата «Аврора» не последняя удача, случившаяся до прихода смешанной эскадры англичан и французов. По просьбе Завойко, которая была направлена за полгода до начала боевых действий, пришел, наконец, в Петропавловск, обещанный трехмачтовый военный транспорт «Двина» из Аяна, – с побережья Охотского моря, с солдатами сибирских батальонов числом триста пятьдесят, прибывших из Иркутска по распоряжению губернатора Муравьева. На «Двине» прибыли также и шестнадцать пушек. Для скудной обороны порта пополнение солдатами и пушками было как нельзя кстати.
Опекал Николай Николаевич Муравьев Камчатку после памятного посещения летом 1849 года Петропавловска, заботился и вкладывал в оборону все, что мог собрать.
Губернатор Муравьев
Местный люд от мала до велика высыпал к причалу, когда на входе в бухту появились паруса судна из далекой России. Высыпали, как горох по склону Красной сопки из домишек, прилепившихся на склоне и были все несколько удивлены, когда рядом с сорокалетним губернатором отметили двух красивых женщин в пышных платьях и шляпках.
Для далекого, на краю земли, порта, на многие тысячи верст незаселенного края, появление светских дам в роскошных нарядах на грубом причале, среди народа прямо скажем не светского, было подобно эффекту пролета кометы.
Рядом с яркими дамами не сразу разглядели губернатора: тот был низкорослым, по манерам подвижный человек с рыжеватыми бакенбардами и усами в простом плаще и дорожной фуражке без знаков, определяющих статус. Под полами не застегнутого плаща был виден генеральский мундир, вероятно одетый по случаю завершения долгого маршрута. По облику и простоте общения в прибывшем человеке не сразу угадывался губернатор.
Вскоре встречающие разобрались, ‒ кто есть кто. Народ загалдел, и тут же весть обошла сгрудившихся на берегу петропавловцев: одна из прибывших дам оказалась супругой губернатора Екатериной; вторая, совсем еще молоденькая девушка, музыкант из Парижа Элизабет Кретьен, выступавшая под именем Лиз Кристиани. На берегу уже, когда встали у причала для приветствия, обе дамы, как на подбор высокие, в эффектных, казалось только из салона, платьях, шляпках, возвышались над Муравьевым, а тот все поглядывал, то на жену, то на музыкантшу и веселил спутниц по-солдатски: прямо, без изысков пуская реплики.
Народ в толпе переговаривался:
−
Во как! Француженки! Это ж надо, из самого Иркутска притащились и не спужались! Отчаянные барышни!
−
А молодая-то – та, что музыкантша, − вовсе из Европы заявилась?! Во как! ‒ Диво-дивное! Выглядят барышни так, словно не по тяжкой дороге и морю месяцы добирались, а словно по воздуху, как дух святой прилетели.
Элизабет уже удивила Париж и всю Европу, отправившись в турне по городам и оказавшись поначалу в Санкт-Петербурге и Москве; теперь видимо пришел черед удивиться и далеким поселениям Российской Империи. Здесь вероятно никогда и не звучала виолончель, да, тем более, в руках юной ослепительной иностранки, что уверенно держала инструмент между ног.
Первое время возмущенные дамы, для которых и езда на лошади была допустима только в седлах дамских, когда ноги были у наездницы с левой стороны от седла, возмущенные увиденным уходили с концерта. Попозже попривыкли и с любопытством поглядывая на юную Кристиани, судачили о развращении нравов теперешней молодежи, отмечая между тем, что играет она виртуозно. Мужчинам, безусловно, нравилось то, как себя ведет независимая от суждений Элизабет и ходили на концерты, чтобы порой не столько слушать музыку, сколько наблюдать за страстной экспрессией раскрепощенной красавицы. В салонах обсуждали юное дарование и некоторые мужчины сознавались, что слушая музыку Элизабет, шаловливо представляли себя в прекрасных руках юной красавицы и между, не менее ее прекрасных, ног.
Очарованная Россией, необыкновенным вниманием россиян, их простодушием, отправилась от столиц далее на восток Элизабет и добралась, как ей поначалу казалось, до конечной точки своего маршрута, − до Красноярска. Оценив ширь великой сибирской реки, и собираясь уже назад, вдруг переменила все и отправилась далее покорять дикую, но столь величественную страну. Причина изменения плана была любопытна: прознав, что в соседнем Иркутске (что там тысяча верст – по меркам России и Сибири – пустяк!) жена губернатора француженка, направилась в сторону Байкала, чтобы увидеть еще более дикие и замечательные места.
Как оказалось, в пути по России мадемуазель Элизабет увлеченно читала роман объявившегося во Франции писателя Александра Дюма «Учитель фехтования». В книге она прочла о Жанетт-Полине Гёбль – французской модистке торговой фирмы, ставшей в Сибири женой ссыльного декабриста Ивана Анненкова.
− Вот, как так?! Смелая такая, отчаянная! – дивилась на выходку соотечественницы Элизабет, и было понятно, что одобряет она поступок мадам Гебль и сама готова совершить нечто безрассудное, но идущее от сердца. И, теперь, находясь здесь среди бескрайней Сибири, страстно пожелала Элизабет, если и не повидать отчаянную мадам Гёбль, то хотя бы рассмотреть места, через которые устремилась отчаянная соотечественница вслед за своей любовью.
В августе 1848 года мадемуазель Кристиане прибыла в Иркутск, где играла для сибиряков на своей виолончели мастера Страдивари и конечно сразила всех необыкновенной музыкой и девичьей красотой. Выступления и общение с соотечественницей ‒ женой губернатора, роскошный прием задержали Элизабет в столице Восточной Сибири на год. За это время удалось побывать на Байкале, в Кяхте, на водах в Прибайкалье.
