Туанетт. Том 2
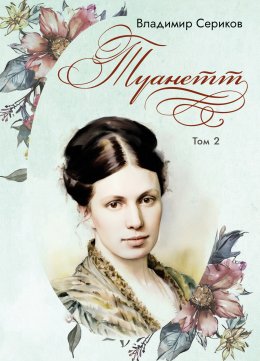
© Владимир Сериков, 2025
© Интернациональный Союз писателей, 2025
Художник обложки Александра Уханёва
Посвящаю свой роман моей доброй помощнице, дорогой внучке Еве Стальновой
Предисловие ко второму тому
Приехав в Казань, дети оказались предоставлены самим себе. Опекунше Юшковой они были не нужны. Хотя она громогласно заявила, что приносит «себя в жертву», видела их изредка, так как они жили не только в разных домах, но и на разных улицах. Некому, кроме старшего брата Николая, было по-отечески пожалеть их и ободрить добрым взглядом. Одним словом, сироты!
Отъезд детей в Казань
Лёва и Маша до последнего мгновения не верили, что они уезжают из Ясной в эту противную Казань. Митя и Серёжа тоже не хотели уезжать, но старались привыкнуть к этой мысли. А младший брат с сестрой надеялись, что произойдёт чудо и они останутся со своей любимой тётушкой Туанетт. Но этого не произошло. Из усадьбы вывезли все вещи и мебель, так что некоторые комнаты большого яснополянского дома стояли пустые, и дети обходили их стороной. На двух баржах вместе с вещами в Казань отправилась и большая часть дворовых: повара, столяры, обойщики и прочие специалисты. А с первым снегом санный поезд отбыл с дядькой Николаем в дальнюю дорогу. Пока ехали до Москвы вместе с тётенькой Татьяной, дети были спокойны. Поезд остановился в Москве у Иверской часовни, куда все пошли помолиться перед дальней дорогой. И вдруг исчезла Маша, и все бросились её искать. Через два часа её нашли, и она, рыдая, заявила, что не желает ехать в Казань и просит её оставить с тётенькой Ёргольской. Еле-еле уговорили её сесть в экипаж. Тут Лёва не выдержал и, захлёбываясь от слёз при прощании с тётенькой, дал слово, что летом они обязательно прибудут в Ясную. Дорога проходила через Владимир, Нижний Новгород, Макарьев, Лысково, Васильсурск и Чебоксары.
В то время, когда Машенька безутешно плакала, санный поезд всё дальше и дальше отдалялся от Ясной Поляны и любимой тётеньки Туанетт. Лёвочка, потрясённый этим расставанием, чувствовал ту непреодолимую силу судьбы, которая безраздельно управляет жизнью. Ему было тяжело видеть плачущую Машу, он как никто другой понимал её страдания и сокрушался только о том, что ничем не может ей помочь. В то же время он видел, что старшие братья ведут себя спокойно.
– Серёжа, а как ты думаешь, Казань больше Москвы? – поинтересовался Митя.
– Откровенно говоря, не знаю, но, кажется, это большой город!
«Как братья не поймут, – продолжал размышлять Лёва, – что мы теперь совсем одни? Тётушка Полина жила не с нами, и разве она сможет понять нас?» горечь от сознания, что они остались одни, стала снова бередить душу, и невольные слёзы оросили лицо. Лёва старался подавить в себе это чувство. Ему захотелось пересесть в карету, в которой ехала Машенька, и не просто успокоить её, а поговорить с ней по душам. Он находился в том же состоянии, когда его в детстве от тётушки Татьяны переводили в комнату мальчиков и все в один голос сказали: «Надо, Лёва, надо!» Сейчас же ему было непонятно только одно: почему Туанетт не поехала в Казань вместе с ними, а отпустила их одних? Он подумал об этом в последнюю минуту, но спросить её так и не решился.
Экипаж остановился. Серёжа с Митей выскочили и, увидев переливающийся серебром только что выпавший пушистый снег, пытались играть в снежки.
Зима вступала в свои права. Хотя проезжающих хватало, тракт ещё не был накатан. Даже на взгорках пока торчали проплешины. Ямщикам приходилось внимательно обозревать дорогу, чтобы внезапно не забуксовать. Через несколько часов, сменив лошадей, поезд понёсся дальше. Дядька Николай подгонял ямщиков, чтобы они не дремали, а старались по светлому дню проехать как можно дальше.
Удивление Елизаветы
Родная сестра Татьяны Ёргольской, Елизавета, жила в Покровском, в восьмидесяти вёрстах от Ясной Поляны. Она вышла замуж за графа Петра Толстого. У неё родился сын Валерьян, которого она безумно любила и лелеяла. С тех пор как Николай Ильич женился на княжне Волконской, она приняла младшую сестру Татьяну у себя, твёрдо заявив, что та будет жить у неё постоянно. Близкие не препятствовали этому, и все относились к ней с уважением и любовью. Пока была жива графиня Мария Николаевна, сестра терпимо относилась к её поездкам в Ясную Поляну. После её смерти Елизавета, хорошо понимая, что старая графиня Толстая не позволит сыну жениться на её сестре, даже как-то воспрепятствовала и не хотела отпускать Татьяну, заметив, что её там используют скорее как гувернантку, чем как равную им родственницу.
– Ты ошибаешься, Элиз, дети меня очень любят!
– Сам граф Николай, заявляя, что любит тебя, однако, чтобы не нарушать маменькиного покоя, ведёт себя не очень порядочно по отношению к тебе. А посему я убедительно прошу тебя уехать от них!
– Но я не могу бросить детей на произвол судьбы, – серьёзно заявила она.
– Татьяна, неужели ты веришь, что твоя жизнь в доме графа Толстого завершится браком и ты станешь истинной хозяйкой?
– Не знаю, но мне и так хорошо.
– Пойми, дорогая сестра, ты живёшь там на птичьих правах, и мне это не нравится.
– На всё воля Божья!
– Здесь я с тобой согласиться не могу. Как говорят, Бог есть Бог, но и сам будь не плох!
В 1837 году внезапно умирает граф Николай Ильич, так и не узаконив брачные отношения с Ёргольской, а следом за ним – и старая графиня Пелагея Николаевна. Его дети остаются с официальными опекунами, которыми становятся родные сёстры покойного графа, Александра и Полина. После смерти графа Елизавета не стала вмешиваться в жизнь младшей сестры, понимая, что, по сути дела, дети остались сиротами. Изредка навещая её, Елизавета видела, что они относятся к Татьяне с большой лаской и любовью. Она также поняла, что и старшая сестра, Александра Ильинична, очень благодарна ей за помощь и живут они, что называется, душа в душу. К младшей сестре, Полине, Елизавета не благоволила, ибо та однажды посмела с ней разговаривать неподобающим образом. Так что даже, будучи приглашена в гости графом Николаем Толстым и узнав, что из Казани к ним приехала Юшкова с мужем, отказалась прийти, сославшись на недомогание.
Елизавета очень удивилась, увидев у себя в Покровском сестру Татьяну. А когда узнала, что графиня Александра Ильинична внезапно умерла и Полина забрала детей в Казань, попросила её рассказать всё в подробностях.
– Я получила письмо от Александрин с просьбой срочно приехать в Оптину пустынь. Мы сразу же с Николаем выехали туда и застали её на смертном одре. Она только и успела мне прошептать, чтобы я не торопилась извещать об этом Полину. И я попросила графа написать ей письмо в Казань. Умерла ведь её родная сестра.
– Ой, Татьяна, когда же ты начнёшь жить в реальном мире?
– А в чём дело, Елизавета?
– Дело в том, дорогуша моя, что ты в первую очередь обездолила детей, которые ей по-настоящему не нужны. За четыре года, как умер Николай Ильич, она хотя бы раз приезжала или интересовалась их житьём и самочувствием?
– Не помню. Да, приезжала на похороны маменьки в 1838 году. А потом, пойми, сейчас она – главный опекун!
– У неё никто опекунство не отнимает, а вот истинной душевной теплоты у неё никогда не было и, поверь мне, не будет! Тем более что она за детьми не сама приехала, а отдала приказание их перевезти вместе с имуществом и со всеми дворовыми. Думаю, покойный отец в гробу переворачивается от такой опеки и её «любви» к его детям. Но теперь, сестра, поздно слёзы лить и кулаками махать!
Татьяна сидела, низко опустив голову. Только сейчас она до конца поняла причину просьбы Александрин – не торопиться извещать родную сестру о её смерти. Да, права Елизавета: надо было кому-то съездить в Казань и серьёзно поговорить с графиней Полиной, а не посылать ей жалобные письма.
Первое разочарование
За долгий путь в экипаже дети очень устали и, въехав в город поздним вечером, сразу же легли спать. Лёвочка проснулся первым. И в зимних бликах возрождающегося дня, внимательно обозревая комнату, увидел спящих братьев. «Где мы?» – подумал он. Ему, как всегда, хотелось вскочить и побежать в комнату тётеньки Татьяны, но он вспомнил, что вчера они приехали в Казань, к тётеньке Полине. Лежать в кровати не хотелось, и он, тихонько одевшись, вышел из комнаты. На стуле сидел камердинер Николай.
– Как вам спалось, Лёва, на новом месте?
– Крепко, спал как убитый и без сновидений. А тётенька Полина здесь?
– Нет, Лёва, она живёт на другой улице, в своём доме.
– А это чей дом?
– Он снят для вашего проживания.
– И когда же она придёт?
– Часа через три она заглянет к вам.
– Разве она не будет жить с нами? – с удивлением произнёс Лев.
– Нет, здесь будете жить только вы с братьями на первом этаже, а на втором этаже живут хозяева этого дома.
Лёва даже от удивления раскрыл рот, окончательно уразумев, что переживаниями он может теперь делиться только со старшим братом Николенькой.
Тётенька Пелагея пришла к ним после завтрака. Дети давно не видели её. Хотя по заведённому обычаю в доме Толстых поцеловались рука в руку, но истинного тепла от этого поцелуя дети не почувствовали.
– Тётенька Пелагея, – спросил Лёва, – а почему вы не поселили нас в своём доме?
– Понимаешь, мальчик мой, – ответила она сладким голосом, – у нас очень мало места. Я сняла для вас в доме горталова целый этаж с мезонином. Если у вас ко мне возникнут какие-либо вопросы или нужна будет помощь, то вы можете обратиться к своему дядьке или Петру Васильевичу.
– Получается, что мы с вами, тётенька Полина, а вы без нас, – с разочарованием проговорил Митя.
– О чём вы, дети мои? Если я вам срочно понадоблюсь, вы пришлёте с запиской казачка ко мне, и я всё устрою. К тому же с вами постоянно находятся ваши люди. Они окажут вам любую помощь. А сейчас одевайтесь, и пройдёмте в мой дом, дядюшка Вольдемар будет счастлив вас лицезреть!
– Если бы он стремился нас увидеть, то пришёл бы сюда вместе с вами, – прошептал Сергей.
– Вы, Серёжа, что-то хотели спросить?
– Нет-нет, тётенька, нам всё понятно. – Он хотел было сказать ей о том, зачем она их увезла из дома, если не собиралась жить с ними, но передумал.
Войдя в дом, она провела братьев в гостиную и попросила их чуть-чуть подождать, так как Владимир Иванович ещё не выходил из кабинета. Оживление у братьев вызвала появившаяся сестра Маша. Она сказала, что в доме тётеньки ей отведена комната, где она будет жить вместе со своей бонной. Взяв сестру за руку и отойдя с ней в сторону, Лёвочка тихо спросил:
– Правда, что у тётеньки дом небольшой?
– Пока, Лёва, я тебе сказать не могу. Вчера я сразу же легла спать, а сегодня ещё нигде не была.
– А тебя, Машенька, дядюшка Вольдемар встречал? – поинтересовался Сергей.
– Я его не видела.
– Всё ясно! – произнёс погрустневший Сергей.
Николенька как никто другой понимал, что это была сиюминутная прихоть тётеньки Полины и с младшими детьми придётся заниматься ему, и только ему. И он спрашивал себя снова: «Что плохого сделала ей Ёргольская, почему к ней такое отношение со стороны Юшковых?»
Увидев, что Ёргольская вместе с детьми в Казань не приехала, Пелагея Ильинична саркастически заметила:
– Вот видите, Вольдемар, ей не особенно и нужны эти сироты. Если бы она их любила, то явилась бы вместе с ними!
– Глупая вы, матушка, дама. Она имеет чувство собственного достоинства и не желает быть у вас в подчинении. Она, может быть, и приехала бы, если бы вы появились в Ясной Поляне, поговорили и посоветовались как с детьми, так и с ней. А в приказном тоне такие вещи не делаются, но вам, к сожалению, понять этого не дано. Я понял, что вам страстно захотелось сыграть по отношению к детям и Ёргольской роль вашей покойной маменьки, только вряд ли у вас это получится!
Он вспомнил, как однажды они приехали в гости к Толстым и он удивился той непринуждённой и радостной атмосфере, царившей в семье графов. Ему очень понравилась Мария Николаевна, и, конечно, он ещё раз убедился в обаянии Татьяны. В душе он посетовал, что личная семейная жизнь её не сложилась.
Как-то после смерти графини Марии Николаевны, заметив, с какой нежностью и любовью Ёргольская относится к детям графа Николая, он решил поговорить с женой Полиной о женитьбе графа на Татьяне и услышал высокомерное заявление: «Запомните, Вольдемар, этого никогда не будет!»
Зачем мне сердце?
Родная сестра Ёргольской Елизавета заметила, что с отъездом детей в Казань Татьяна словно окаменела. Она неохотно разговаривала, отвечала на вопросы, но горевшие раньше глаза словно потухли, и казалось, что вчерашний интерес к деятельной жизни у неё совсем пропал.
– Танюша, может, тебе замуж выйти? – пытаясь растормошить сестру, шутливо заметила Елизавета.
– Ты что, Элиз, а как же дети Николая? Да и кому я нужна?
– Во-первых, дети скоро сами станут взрослыми, и, поверь моему слову, хотя дорогая опекунша и забрала их к себе, она скоро поймёт, что они для неё – лишняя обуза. Беда только, что Казань далеко от Тулы, а то Лёва с Машей пешком с радостью к тебе возвратились бы!
– Вот этого, Элиз, я и не могу понять: почему она младших детей не оставила у меня?
– Всё от великой доброты. Вспомни, как её родная сестра, покойная Александрин, после смерти Николая была счастлива, что ты осталась в семье, помогаешь воспитывать детей её брата, и она не предъявляла тебе никаких претензий.
– Что ты, Элиз, мы с ней и детьми жили душа в душу, и я никак не думала, что она так рано покинет нашу бренную землю.
– Да, ты права, Танюша. Мы с Александрой часто бывали в Оптиной пустыни. Пока был жив брат Николай, она не раз повторяла, что очень хочет, чтобы Всевышней её забрал на небо. Но случилось несчастье, и брат Николай умер внезапно. Тогда Александра твёрдо сказала, что хотя жизнь и бремя, но она не принадлежит ей. Ежели Богу будет угодно продлить её, то она должна беречь её ради детей!
– Александра поистине была святым человеком. Живя со старшими детьми в Москве, она просила меня прислать ей кактус с бутоном. Когда он цветёт – это для неё такая непередаваемая радость. «Не могу себе позволить купить, – утверждала она, – так как он дорого стоит!»
– Я понимаю, милая сестра, как тебе тяжело, но на Полинину глупость обижаться не стоит. Поверь, дети от тебя не отстанут. Они и сейчас думают, печалятся больше о тебе, чем о ней!
– Ты правильно заметила, дорогая Элиз, я над обидой поднимаюсь душой высоко. Только порой охватывает отчаяние: зачем мне сердце, если некому его отдать?!
– А вот тут, дорогая Танюша, я с тобой согласиться не могу. Я верю и знаю, что как ты в воспитании служила детям покойного Николая, так и впредь будешь им служить. Поверь мне!
«Дай-то Бог», – с тяжёлым сердцем подумала Ёргольская.
Возвратившись в свою комнату, она как будто заснула и вдруг явственно услыхала, как Лёвочка жалобно просил её: «Тётенька Туанетточка, родная моя, помогите, мне так трудно дышать!»
– Сейчас, сейчас, дорогой мой мальчик, я приду к тебе. – Сев на кровати, она поняла, что это был не простой сон, это был настоящий зов.
«Видимо, с ним правда происходит что-то серьёзное, он, наверное, тяжело болен», – с тревогой подумала она.
– Элиз, Элиз, прости, что не даю тебе спать. Я сейчас во сне услышала мольбу Лёвы, он просит меня приехать к нему.
– Успокойся, Танюша, там народу и без тебя хватает. Мало ли что может тебе присниться от тяжёлых дум. Давай-ка, милая, ложись со мной рядом и успокойся.
Она обняла её, как в детстве и, гладя по голове, легла с ней рядом, подумав: «господи, за что же столько страданий этой невинной душе?»
Через несколько дней Ёргольская получила письмо от Лёвы, в котором он коротко писал: «Я три дня не выходил из комнаты и не выхожу до сих пор, хотя мне намного лучше. У меня ужасно болело горло, с жаром, лихорадкой и воспалением. Надеюсь, что вы больше не будете обо мне беспокоиться, раз я вам говорю, что мне лучше»[1].
– Вот видишь, моя дорогая сестрица, не только ты думаешь о нём, но и он сообщает тебе, что выздоравливает. А ты говоришь, что никому не нужна. Нужна и всегда будешь ему нужна!
Возмущение детей
Почувствовав себя свободным, Митя отказался жить вместе с братьями и потребовал, чтобы ему выделили отдельную комнату. При этом он сказал, что у себя будет убираться сам. «Митя почти мне ровесник, а какой он самостоятельный, – подумал Лёва. – У меня же вести себя так духу не хватает».
Верхний этаж занимали сами хозяева. Против дома находилось здание губернской тюрьмы. Недалеко был расположен Кизический монастырь. Из мезонина открывался красивый вид на реку Казанку и расположенные за ней слободы. При доме был благоустроенный сад: террасу окружали кусты жасмина и большая клумба с белыми розами.
– А с тётенькой Татьяной мы жили вместе, и она постоянно с нами занималась, – простодушно заметил Митя.
Но тётенька Полина на эти слова никак не отреагировала.
– Николенька, – не унимался Митя, – разъясни, пожалуйста, зачем она нас вытащила сюда? Получается, что тётенька Полина поступила с нами как с крепостными? Она, видите ли, захотела и забрала нас из родного дома, а тётенька Татьяна не в состоянии была заступиться за нас!
– Ну что вы, Митя, так сгущаете краски. Просто тётеньке Полине верится, что в городе Казани нам будет жить интересней, – сказал старший брат Николай, осознавая, что ему самому надо было ещё раз попытаться убедить Полину Ильиничну оставить их дома. Он также понял, что если Туанетт постоянно занималась с ними, то Юшкова много внимания детям уделять не намерена.
Бунт Мити
Тётеньку Пелагею дети очень скоро раскусили и поняли, что ей ничего не надо рассказывать, так как она многого не понимает, а иногда просто отмахивается от них, как от надоедливых мух. Как-то Маша упала, ушибла себе ногу и, по обыкновению, увидев тётеньку, которая в это время разговаривала с какой-то дамой, подбежала к ней, уткнулась в колени, со слезами ожидая, что та её обнимет и успокоит. Но Пелагея Ильинична, высокомерно отодвинув её от себя, произнесла:
– Идите к бонне, а мне выслушивать ваши жалобы неинтересно!
Брат Митя, наблюдавший эту сцену, тут же подошёл к ней и резко произнёс:
– Тётенька, зачем вы нас привезли сюда, когда мы вам в тягость и не нужны? Мы никогда не полюбим вас, так как являемся для вас обузой. Лучше, если бы вы нас отправили домой, к тётеньке Татьяне. Она истинно любит нас.
В эти минуты, стоя перед тётенькой, не соблюдая этикета, Митя выговаривал ей злобным, неприятным голосом, при этом невольно размахивал руками, и со стороны создавалось впечатление, как будто он её собирается ударить. Тётенька буквально побледнела от неожиданного натиска племянника, видимо сожалея о своём опрометчивом решении и уже думая, как перенести эту брань.
– Вы, Митя, не так меня поняли, я люблю и забочусь о вас, – с трясущимися губами тихо возразила она.
– Не лгите, мы вам совсем не нужны, и вы для нас чужая, – обдав её испепеляющим взглядом, громко заявил он.
Она ещё больше побледнела, заметив, что этот громкий, неприятный разговор произошёл на людях. «Завтра вся Казань будет обсуждать этот инцидент», – со страхом подумала Юшкова.
Вечером об этом узнал и её муж, Владимир Иванович, который не преминул уколоть её:
– Что, любезная жёнушка, получила оплеуху от Мити? Не я ли вас предупреждал, что их надо было оставить дома? Но вам всё нипочём. Как вы не поймёте, они сироты, к ним нужен особый подход, а вы им не владеете!
– Я смотрю, что вам радостно, – со злобой в голосе произнесла Юшкова, – что вашу жену оскорбляет какой-то мальчишка, и вы даже не делаете попытки защитить меня!
– Вы правы, Пелагея, ибо я вас с первой минуты предупреждал, что их сюда привозить не надо. Вы же меня не послушали, а теперь мешаться в ваши отношения я не желаю.
Юшкова была не готова к такому повороту событий, и тут до неё дошло, что в первую очередь она обездолила детей, до которых ей истинно не было никакого дела. Она неспособна к самоотвержению. Не имея детей, думая только о житейских радостях и удовольствиях, вращаясь в кругах большого света, Пелагея страстно хотела блеснуть добродетелью и наказать безродную кузину. Она легла, пытаясь забыться, но стоило ей прикрыть глаза, как в ушах звучало оскорбление Мити и виделся презрительный взгляд Сергея. Ей докладывали, что Маша постоянно плачет, а Лёва грустит. Хорошо, что старший брат успокаивает их, рассказывая по вечерам всякие небылицы. Запали ей в душу и жестокие слова мужа, что она такая же бездушная, как родная маменька, которая после смерти невестки не позволила сыну жениться на Ёргольской, хотя он продолжал её боготворить, но в результате страдают дети, которые сейчас спокойно жили бы у себя дома, и не было бы этого безобразия. Когда же к ней как к опекунше стали поступать различные финансовые документы и счета, она вынуждена была обратиться к Ёргольской, так как сама в этом совершенно не разбиралась.
Лицемерие тётеньки Полины
Лёва был буквально обескуражен тем, что здесь, в Казани, родная тётенька Полина живёт не с ними и они теперь сами по себе. Лёва вспомнил ловкого и смелого форейтора отца, Митьку Копылова. После смерти папы он, отпущенный на оброк, щеголял в шёлковых рубашках и бархатных поддёвках, и богатые купцы наперебой приглашали его к себе на большое жалованье. Но стоило старшему брату Ивану уйти в солдаты, как отец вызвал сына к себе, и он теперь выполняет всю тяжёлую работу и не ропщет. «Роптать и мне не к лицу, тем более что Николенька вечерами не покидает и, как наседка, опекает нас. Да, он по-настоящему любит нас, и если мне, паче чаяния, станет очень плохо, я могу разбудить его и поговорить с ним о своей беде. Не побегу же я среди ночи к тётеньке Полине рассказывать о своих думах, да и говорить мне с ней сейчас не захочется». С такими тяжёлыми мыслями он уснул.
Приехав в Казань, старший брат Николай стал внимательно присматриваться к тётеньке Полине. Он понял, что с мужем она живёт не очень дружно и временами Юшков старается избегать её. Главное кредо Полины Ильиничны – светская жизнь и необузданные эмоции: «Я хочу!» Только сейчас Николай понял последние слова покойной тётеньки Александры: «Воздержитесь писать Полине о моём уходе». «Необходимо было мне самому поехать в Казань и объяснить тётеньке Полине, что забирать детей из дома не надо». Ему вспомнилась любимая поговорка отца: «Семь раз отмерь – один раз отрежь!» А теперь махать кулаками было поздно.
Спустя несколько дней тётенька на встречу с братьями пришла вместе с мужем Владимиром Ивановичем Юшковым. Она опять стала говорить о любви к ним и о том, что приложит все силы для их удобной жизни. В её сладенькой улыбке сквозило лицемерие. Дети это почувствовали, а Лёва не выдержал и спросил:
– Тётенька Полина, если вы утверждаете, что любите нас, то почему вы сами не приехали к нам в Ясную и не спросили нашего мнения, хотим ли мы ехать в Казань или нет?
– Я думала, – несколько растерянно произнесла она, – что вам здесь жить и учиться будет намного интереснее.
– Если бы нам, как вы утверждаете, здесь было бы жить и учиться лучше и интереснее, то тётенька Татьяна не писала бы вам, что мы хотим жить дома.
Владимир Иванович Юшков понял, что его супруга толком не может объяснить своего упрямого решения, и видел, как дети смотрели на них каким-то невыносимым взглядом, в котором читалось некое неприятие и даже неуважение к ним, и он, улыбнувшись, произнёс:
– Теперь, господа… – но, поняв, что произнёс не то, поправился: – Дети мои, когда вы здесь, поздно рассуждать об этом! В будущем мы обязательно будем советоваться с вами.
Тётенька, опустив глаза, не нашла что сказать и, оставив мужа с братьями, быстро ушла к себе. С этой минуты Лёва с горечью понял, что, по сути дела, они одни и предоставлены самим себе. И неслучайно впоследствии он назовёт годы отрочества пустыней. Ухаживают за ними горничные, дядьки, ходят учителя, крепостные мальчики выполняют их приказы, но тётенька Полина не может уразуметь своим скудным умом, что им нужен душевно родной человек, с которым можно поговорить обо всём и который понимал бы их с полувзгляда, как Туанетт. Полина Ильинична на это неспособна.
Старший брат Николенька писал Ёргольской: «Вот уже пятнадцать дней, как мы приехали в Казань. Я работаю и часто думаю о вас, моя добрая тётенька, особенно вечером, когда все мы собираемся маленьким кружком. В этом обществе я исполняю роль рассказчика, чтобы развлекать моих братьев и сестру. Моя аудитория не очень требовательна, поэтому я могу гордиться, что имею полный успех…»
Сюрприз на Рождество
Николенька как никто другой видел, что, в отличие от Сергея и Мити, Лёве и Маше было здесь намного тяжелее без родного тёплого взгляда. Под Рождество на одной из центральных улиц города, Проломной, Николенька договорился с устроителем праздника, весёлым петрушкой-скороходом, и, предварительно заплатив ему, попросил как бы в честь наступающего Рождества вручить подарки детям. Проснувшись утром, он сообщил, что ему приснился удивительный сон и они идут гулять в город.
– Мы, – с заговорщическим взглядом вещал старший брат, – идём сейчас с вами только вперёд. Представьте себе, что, шагая по Проломной улице, где множество прекрасных магазинов, мастерских и рестораций, мы вдруг видим, как к нам выходит петрушка, а может быть, клоун или очаровательная фея и начинает вручать подарки.
– Это вы явно загнули, дорогой братец, – скептически проговорил Серёжа.
– Ничего необычного, – возразил Митя, – как раз перед Рождеством и происходят всякие фокусы.
– Я бы поверил, если бы это случилось на балу или утреннике, но не на самой улице, где полно чужих людей.
Маша с Лёвой, слушая разговор братьев, во все глаза смотрели, не появится ли и правда неизвестный, который начнёт раздавать подарки. А Николенька продолжал вести свою группу, при этом, увидев в одной из витрин модной лавки бегающего зверька, воскликнул:
– В своей норе и хорёк хорош!
– Какой же это хорёк? Это же настоящая белка! – воскликнула радостно Маша.
– Правильно, которая грызёт орешки, тем более что в этих орешках все скорлупки золотые.
Дети обернулись. Перед ними уже стоял ряженый на ходулях с мешком за плечами. Он вмиг приблизился к ним, снял с плеча мешок и весело крикнул:
– Принимайте дары к Рождеству, я перед вами стою наяву!
Сергей, не веря своим глазам, резко крутанулся и чуть не упал. Митя с Лёвой с нескрываемым восхищением смотрели на скорохода, а Маша даже присела на корточки от удивления. Остановились и некоторые прохожие, наблюдая за происходящим. Заметив, что толпа увеличивается, ряженый мгновенно передал большую коробку Николаю и так же внезапно исчез, как и появился.
– Николя, что это? – удивлённо глядя на старшего брата, поинтересовалась Маша.
– Вернёмся домой и посмотрим, – сам как будто не понимая, что произошло, ответил старший брат.
– Мне кажется, – всё ещё сомневаясь в происшедшем, проговорил Сергей, – что здесь какой-то розыгрыш.
– Какой же вы, братец, недоверчивый.
– Но мы же не знаем, что в этом коробе!
Возвратившись домой, Николай открыл его, вынул куколку, вручил её сестре и порадовался, увидев её прежнее детское выражение, по-настоящему ту самую жизнерадостность, которая была ей присуща. С момента переезда в Казань взгляд её стал какой-то отстранённый и, общаясь с братьями, она стала не по-детски сурова и сдержанна. Даже в момент встречи тётушка Полина, увидев её, мгновенно стёрла сладкую улыбку и просто поприветствовала её.
Николенька вручил детям несколько книг. И если Лёва воскликнул от восторга, прочитав название «Чёрная курица» Погорельского, то братья к книгам отнеслись сдержаннее. Больший восторг был в тот момент, когда старший брат вручил им почти настоящие сабли и маски, и тут же завязалось настоящее сражение и беганье по всем комнатам.
Наступал 1842 год. В этом большом незнакомом городе имелось всё. Дети были сыты, обуты и одеты, но не было дорогого человека, который бы сумел их приласкать и приголубить. В будние дни за занятиями время для Лёвы пролетало незаметно. Но стоило приблизиться праздникам, как какая-то тоска наваливалась на него, он стремился где-нибудь уединиться и начинал вспоминать тётушку Туанетт, с которой было так тепло и уютно. «Бывало, – про себя вспоминал он, – забежишь к ней в комнату, она сидит с книжкой, отложит её в сторону, возьмёт со столика и достанет из одной из скляночек какую-нибудь сладость. Сосёшь конфетку или кушаешь печеньку, и уютно и сладко на сердце, и даже в классы идти не хочется. А сколько задушевных бесед было с ней, и не счесть».
Сейчас сидеть одному в пустой комнате было жутко грустно. Именно тут он чувствовал своё сиротство. Николенька ушёл в гости. Сергей с Митей были заняты своими делами, да и беспокоить их плохим настроением не хотелось. Тем более что недавно Сергей сказал: «Пора, Лёва, перестать нюниться, тебе уже четырнадцатый год бьёт, так будь самостоятельным человеком!»
«А может быть, мы неправы и зря заподозрили тётеньку Полину в том, что мы ей не нужны? И это просто наше воображение?» Он быстро оделся и пошёл к ней. Дворецкий, узнав его, беспрепятственно пропустил. Вой дя в гостиную, он увидел, что Полина Ильинична с большим увлечением переставляет в гостиной мебель.
– Нет, я же вам объясняю, – с долей раздражительности командовала она, – этот диван надо поставить в правый угол, чтобы я могла смотреть в окно!
Заметив вошедшего Льва, она бросила:
– Лёва, я сейчас занята, пройдите на половину Владимира Ивановича.
«Прав Митя, ей до наших забот нет никакого дела. Перестановка дивана её больше интересует, чем мы!» И, одевшись, он ушёл к себе.
За окнами завывал декабрьский ледяной ветер, стуча голыми ветками в окно. Однажды Лёва даже вздрогнул, подумав, что к ним в комнату хочет залезть кто-то чужой, но поняв, в чём дело, даже посмеялся над собой и о пустых страхах. Он вернулся в комнату и сел на диван. горничная Матрёна зашла в комнату, чтобы зажечь свечи, и, увидев пригорюнившегося отрока, приблизилась к нему, поинтересовалась:
– Лев Миколаевич, что это вы будто сам не свой или болит чего? – И, не дожидаясь ответа, произнесла: – Да, человеческую ласку на базаре не купишь! У Полины Ильинишны светская жисть. И зачем она сорвала вас сюда?
– Ей казалось, что нам здесь будет хорошо, – тихо проговорил отрок.
Она присела с ним рядом и, чуть приобняв его, сказала:
– Вы не грустите, Лев Миколаевич, скоро весна, а там с тётенькой Полиной поедете в свою Ясную.
– Да-да, Матрёна, хорошо бы!
– А сейчас старайтесь думать о чём-нибудь добром!
От её ободряющих слов исходило такое спокойствие, что ему захотелось рассказать ей о своих переживаниях, и в то же время он думал: «Поймёт ли она меня?» И тем не менее он был ей благодарен за то сочувствие, которое она проявила к нему.
– Ой, – воскликнула она, – мне же надо во всех комнатах свечи зажечь! – И исчезла так же быстро, как появилась.
Подарок Юшковой
– Дети мои, – произнесла в одну из встреч с братьями Толстыми тётенька Полина Ильинична, – сегодня я желаю вам подарить четырёх крепостных мальчиков, которые постоянно будут обслуживать вас и помогать вам.
– Это совершенно ни к чему, – серьёзно произнёс Митя. – Я и сам могу великолепно себя обслуживать. Не знаю, как вы, братья, а я отказываюсь от своего раба и даю ему свободу.
Николенька как старший брат дипломатично промолчал, только обаятельно улыбнулся. Сергей тоже ничего не сказал, но несколько саркастически посмотрел на Митю. Лёва же с восхищением смотрел на Митю, думая, что у него не хватило бы смелости отказаться от крепостного мальчика, тем более что, как выразилась тётенька, они же графы. Да и что об этом скажут и подумают окружающие? Полина Ильинична от поведения среднего брата была в шоке и потемнела лицом. И хотя Митя освободил Петю – так звали его крепостного мальчика, – троих братьев и сестру теперь каждое утро обслуживали крепостные. Лёве помогал Ванюша, с которым он быстро нашёл общий язык. Но больше всего ему импонировал помощник Николеньки Казимир. Его никто никогда не видал грустным или озабоченным. Любую работу он выполнял играючи. Утром у него всё было готово, и Николенька лишней минуты не задерживался, уходя на занятия в Казанский университет.
Митя вёл обособленный образ жизни. С братьями он общался мало и только во время занятий. В доме Юшковых уже несколько лет жила взятая на воспитание больная девушка, Любовь Сергеевна. Это было жалкое существо. Дмитрий приходил к ней в комнату, разговаривал, читал ей, но никогда и намёком не показывал, что делает доброе дело. Старшие братья подтрунивали над ним, а Лёва восхищался Митей, хорошо понимая, что сам заниматься с такой девочкой он не смог бы, так как от неё постоянно дурно пахло и она была неимоверной плаксой.
Первую весну дети встречали в Казани. В конце апреля Казимир ворвался в комнату мальчиков и объявил:
– город плывёт!
– Тонем? – высунувшись из-под одеяла, поинтересовался Сергей.
– Здесь у нас сухо, но полгорода охвачено половодьем.
– Не рассказывай нам сказки, мы тебе совсем не верим!
– Жаль, что на улице сейчас ветер рвёт и мечет, а главное – ледяной снег сечёт в лицо, а то бы вы сами в этом убедились!
Ближе к вечеру пурга отступила. Все сразу высыпали на улицу и, дойдя до Кремля, поняли, что Казимир был прав.
– А весь город не затопит? – поинтересовался у Казимира Митя.
– Нет, такое половодье каждый год происходит, но вода только до определённых мест доходит и останавливается, – с уверенностью произнёс мальчик.
С высоты крепостных стен перед ними открылась великолепная картина. Обширная равнина вод, окаймлённая Улонскими горами с юга, которые тонули в тумане. К западу лежали Адмиралтейская и Ягодная слободы, где на горе красовался Зилонов монастырь. Несколько правее находились сушильни порохового завода.
– А что это торчит в воде, похожее на монумент, между крепостью и слободами? – спросил Николенька у Казимира.
– Это памятник в честь убиенных русских воинов при взятии Казани, а за ним находятся сёла Щербачёвка и Савиново. У меня в Щербачёвке дед обретается.
– И он не боится утонуть? – спросил Митя.
– Они привычные: живность и сами – на крышу, пока вода не схлынет.
– А весь дом не уйдёт под воду? – продолжал допытываться Митя.
– В позапрошлом годе вода чуть-чуть не подобралась к крыше, но это только раз было. А так дом только наполовину стоит в воде. До мая просидят на крыше, а там и вода уйдёт. Только потом стены просыхают плохо, даже в жарынь в нём прохладно. Подождите, чуть потеплеет, я вас покатаю на лодке. Дюже интересно пройти по воде, – проговорил Казимир.
– Стихия – это страшная вещь, – думая о чём-то своём, тихо проговорил Митя.
Старшие братья не обратили внимания на его реплику, а Лёва, возвратившись в дом, подошёл к Мите и спросил, что он думает по поводу стихии.
– А то, что человек бессилен против стихии. Некоторым кажется, что мы всесильны, а оказывается, что всесилен Бог, и здесь уже ничего не сделаешь!
Митя не стал развивать эту тему, но Лёва понял, что для него это не праздный, сиюминутный вопрос, а серьёзная задача для дальнейшего размышления. Отныне Лёва совсем другими глазами смотрел на брата Митю, который был старше его на год. И между ними не делали различия, кто старше и младше. Если Сергей всё время подчёркивал, что он старший, и даже требовал к себе уважения, то Митя вёл себя спокойно и никогда не претендовал на старшинство. Но здесь Лёва осознал, что он много и серьёзно размышляет о жизни. Перед ним он – сущий ребёнок. Именно Митя выступил в защиту сестры Маши, поняв лицемерие тётушки Полины. Именно Митя уверенно заявил, что ему не нужен крепостной мальчик и он сам в состоянии себя обслужить. И в классах, когда Мите что-то непонятно, он не стесняется переспросить учителя. Честность и прямота Дмитрия покоряли Лёву. Сам он, как ему казалось, этих качеств в себе ещё не выработал.
На лето дети уехали из Казани в имение Паново, которое находилось в двадцати девяти вёрстах от города, на левом берегу Волги. Перед господским домом находился большой пруд с островом, на котором когда-то жил медведь. Как-то в усадьбе собралось много гостей. Все веселились и отдыхали. Взрослые братья были заняты с пришедшими девицами, а Лёве казалось, что на него никто не обращает внимания. Тогда, чтобы удивить пришедших, он в костюме бросился в пруд, решив переплыть на другой берег. Силы стали покидать его, и он стал тонуть. Женщины, убиравшие сено, подбежали к пруду и протянули грабли, с помощью которых Лев сумел выбраться на берег.
В начале сентября Толстые возвратились в город и не узнали Казань. В конце августа на город налетел ураган и в одной из гостиниц на Проломной улице вспыхнул огонь. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на другие дома. Порывистый вихрь закрутил пламя, стали разбрасываться искры, и летали целые головни. Огненное море разлилось, запылали улицы: Воскресенская, Покровская, Грузинская и другие. Звон колоколов, стук и треск от разрушений слились с криками и воплями людей. Ужаснее, чем днём, было во мраке ночи. Пламя перебросилось за Булак и распространилось далее. Вспыхнули гостиный двор и всё окружающее его пространство. Пламя распространилось до Арского поля. О мощи урагана и резвости огня свидетельствовали пепелища окрестных деревень. Они горели даже за девять вёрст от города, и разносимые бурей горевшие стога сена способствовали усилению всеобщего пожара. Сгорел гостиный двор со всеми его отделениями. Пожар уничтожил казённые и общественные здания, в том числе театр и мост через Булак. город представлял собой сплошные развалины.
– Вам удивительно, молодёжь, что город в очередной раз сгорел, – спокойно произнёс Владимир Иванович, – а мне – уже нет. Ваш дедушка Илья Андреевич только вступил в должность губернатора, как произошёл в 1815 году страшный пожар, уничтоживший пол-Казани. Надо отдать ему должное, он организовал сбор пожертвований и сам внёс в пользу погоревших пятьсот руб лей.
Удивлению Лёвы и его братьев не было предела. Живя в Ясной, они не наблюдали подобных катаклизмов. Здесь же, в Казани, за несколько месяцев увидели весеннее половодье, затопившее полгорода. Сейчас, в сентябре 1842 года, разрушительный ураган с пожаром, по сути, превратил город в руины, многие жители остались без крова. Письма от тётеньки Татьяны приходили редко, и, по обыкновению, ответное письмо писал Николенька, а братья с сестрой Машей дописывали по строчке. Сейчас он сообщал: «Казань очень печальна и пустынна после пожара. Любители балов и празднеств в отчаянии. А у нас идёт интенсивная учёба, и все мы постоянно думаем и скучаем по вам».
С ранних отроческих лет Лёва задумывался о перипетиях жизни, о той сиротской судьбе, которая выпала на их долю. Он запоем читал историю Иосифа из Библии, русские былины, сказки «Тысяча и одна ночь» и осознавал, как разнообразна и удивительна жизнь. Читая повесть Н. Полевого «Блаженство безумия», Лёва увидел судьбу героя, похожую на его собственную. У Антиоха умирает мать, вскоре он лишается и отца. «Дед мой, – пишет автор, – богатый помещик, окружённый льстецами и прислужниками», который отвратил от себя юного героя, разрушив его романтические мечты, что и привело к безумию и смерти. С большим интересом Лёва прочитал и «Парашу-Сибирячку» того же Полевого, и ему даже представилось, будто он сам её написал.
В 1843 году Сергей и Дмитрий поступают в Казанский университет, на математический факультет.
Расставание с Николенькой
Старший брат Николенька, окончив Казанский университет, уезжал в Москву, думая поступить на службу в армию. Братья Сергей и Митя перешли на второй курс и тоже вышли на каникулы. Лев только готовился поступать в университет и уже сдал некоторые предметы. Оставалась самая малость: история и география. На экзамене по географии произошла заминка, и Лев не смог ответить ни на один вопрос. Ему даже пытался помочь попечитель университета Мусин-Пушкин, попросив перечислить названия нескольких французских городов. Лев молчал, и тогда он посоветовал ему летом позаниматься и прийти на переэкзаменовку осенью.
– Милый граф, вы так молоды, поэтому не стоит обращать внимание на такие мелочи, как экзамен! Я знаю, что вы ещё объедете всю Европу, многое нам расскажете и в дальнейшем об этом провале будете вспоминать с улыбкой, – подбежав к нему в университетском коридоре, протараторила тираду некая девица и тут же исчезла.
Лёва изумлённым взглядом проводил её, но больше никого не заметил и вышел на улицу. «Чудеса, да и только, кому расскажешь – не поверят, да и нужно ли говорить об этом?»
Утром он узнал, что Николенька скоро уезжает. Сергей с Митей стали полностью самостоятельными, а он теперь остаётся совсем один, как будто былинка в поле, и настроение его снова испортилось. Дойдя до дома, он присел на скамейку в саду, наслаждаясь запахом цветущих яблонь и черёмухи, и не заметил, как задремал.
– Вы, Лёва, так усердно занимаетесь, что того и гляди окажетесь под скамейкой, – легонько толкнув его, произнёс подошедший Николенька.
– Уже отзанимался и провалился на истории с географией.
– Слышал. Попечитель Мусин-Пушкин также советует плотно пару летних месяцев позаниматься и в августе пересдать! Огорчаться, Лёва, по этому поводу не надо. Как говорится, игра стоит свеч!
– Вы правы, Николенька, – ответил Лёва, переживая, что в это лето ему не придётся увидеть любимую тётеньку Туанетт.
– Милый Лёва, я понимаю твоё огорчение, но отчаиваться ни к чему.
– Ты думаешь, что мне сейчас легко? У тебя всё понятно, и я верю, осенью станешь студентом, а что ждёт меня, пока непонятно!
– Как это? – невольно вырвалось у младшего брата.
– Поверь, хуже всего – неизвестность!
– Но вы, Николенька, пока мы будем учиться, можете пожить с тётенькой в Ясной.
– Нет, Лёва, пока есть желание, надо служить, как покойный папенька. Помещиком быть я не собираюсь, а жить трутнем не желаю, поэтому мне и грустно, что я расстаюсь с вами.
Лёва, только что готовый разрыдаться от жалости к самому себе, был, что называется, ошарашен признанием старшего брата, и ему стало неимоверно стыдно за свой эгоизм.
– Вы знаете, Николенька, мы постоянно будем думать о вас, и вы, пожалуйста, почаще пишите нам.
И тут он окончательно осознал, что брат уходит во взрослую жизнь. Ему почему-то вспомнился его переход из тётенькиной комнаты в комнату мальчиков. Здесь всё было намного серьёзнее. «Какая это будет жизнь и как она сложится для него, средних братьев и для Николеньки?»
«Дорогой друг»
Дети писали редко. Больше всего – старший, Николенька, который сообщал, что у них всё хорошо, живут они самостоятельно, тётушка Пелагея почти каждый день к ним наведывается. «Я понимаю, – рассуждала Ёргольская, – старшим детям в Казани хорошо, но зачем она забрала Машу с Лёвой, тем более что они не хотели уезжать?» Теперь же она каждой весточке из Казани была рада. Два года дети в Ясную Поляну не приезжали. Ёргольская, понимая, что положиться на управляющего нельзя, время от времени наезжала туда. В начале 1844 года она вдруг получила письмо из Казани от Пелагеи Юшковой.
«29 января 1844 года. Я только что получила письмо Пьера Воробьёва, из которого ясно вижу, что произошла неразбериха в опекунских делах. Г-н Языков, я полагаю, в коротких отношениях со всеми судейскими, поскольку он нуждается в их поддержке. Воейков же хочет доказать противное.
Дорогой друг, отправься ещё раз в деревню, чтобы узнать, что произвело раздор между опекуном и Пьером. Этот последний написал мне также, что очная ставка Языкова с г-ном Воейковым заставила последнего целиком встать на сторону Семёна Ивановича. И вот, как он выражается: “Во всех беспорядках остались виноваты мы и…” Я понимаю, что под этим “и” моё имя и имя моей бедной сестры… Я уверена, мой дорогой друг, что ты постараешься немедленно информировать меня относительно всего, что сможешь обнаружить. Поверь, я очень обеспокоена всем этим. Может быть, я плохо поместила своё доверие? Жду твоего письма с огромным нетерпением…»
Ёргольская дочитывала письмо, когда в комнату вошла её сестра, Елизавета Александровна.
– Маша или Лёва? – поинтересовалась она.
– Маша и ещё кое-кто.
– Не поняла.
Ёргольская передала ей письмо. Прочитав, она в сердцах заметила:
– Ты, оказывается, теперь для Пелагеи стала «дорогим другом», которого можно пинать ногами.
– Но вы, сестра, очень суровы к ней. Каждый из нас может ошибаться!
– Нет, дорогая моя, это не ошибка. Она в полной уверенности, что ты должна быть у неё на побегушках: съезди и доложи! До Ясной Поляны восемьдесят вёрст – это не ближний свет. Управляющий Воробьёв спелся с опекунами Воейковым и Языковым, вместе потихоньку растаскивают имение. Ты теперь поезжай, Татьяна, а я дома «на печи буду есть калачи!» Причём раньше она малость стеснялась, просьбы передавала через Николая, а теперь решила произвести нападение. А ты никуда не поедешь, так как письма этого ты не получала. Вот тебе, дорогая сестра, мой сказ!
– Как же это можно, Элиз? – с сомнением спросила Татьяна. – Ведь мы же не чужие.
– Ты права, радость моя, мы близкие, но далёкие. Когда она научится себя вести, тогда и посмотрим. А сейчас только так, – сказала как отрезала сестра.
– Но это же имение детей, а не её, – не сдавалась Татьяна.
– Пойми, великая твоя душа, я всё понимаю, но если ты сейчас появишься в Ясной, они воровать перестанут?
– А может, одумаются, совесть у них должна быть!
– Не смеши меня, Танюша!
Елизавета, родная сестра Татьяны Ёргольской, также была изгнана отцом после смерти маменьки. Если Елизавету к себе забрала родная тётка Скуратова, то её сестру, Татьяну, взяли к себе дальние родственники, графы Толстые. Ёргольская как никто другой знала, что А. С. Воейков, С. И. Языков и П. И. Юшкова были непригодны к опекунству. Александр Сергеевич был способен только ораторствовать, пускать пыль в глаза и отдавать распоряжения, забывая потом их проверять.
Семён Иванович ещё при жизни графа Николая Ильича фактически разорился и жил приживальщиком в имении. Ёргольская также догадывалась, что управляющий Воробьёв, когда ударялся в очередной запой, позволял себе приворовывать. Он побаивался покойного графа Толстого и постоянно, прежде чем идти на доклад к Николаю Ильичу, справлялся у неё о настроении графа, всегда относился к ней не подобострастно, но с уважением, видя в ней истинную хозяйку. Поэтому, несмотря на возражения сестры, через несколько дней Татьяна выехала в Ясную Поляну.
Братья Сергей, Николай, Дмитрий и Лев Толстые
Возвращение в родные пенаты
Прошло три года. Молодые графы Толстые вместе с опекуншей Пелагеей Ильиничной ехали из Казани на каникулы домой, в Ясную Поляну. Чем ближе подъезжали к усадьбе, тем сильнее росло возбуждение детей. Но вот открылись знакомые башенки.
Лёва с Машей соскочили с экипажа и побежали в родные пенаты наперегонки. Ворота были распахнуты, их ждали.
Маша, увидев Ёргольскую, от радости вскрикнула:
– Тюнечка, мы приехали! – И, отбросив этикет, повисла у неё на шее. Маша – с одной стороны, а Лёва – с другой.
Графиня Пелагея Ильинична, увидев эту сцену, изобразила радостную мину, хотя у самой от зависти кошки скребли на душе. Три года она бок о бок живёт с этими детьми, но ни один из них не бросается ей на шею и не выказывает такого восторга от встречи с ней. А ведь именно она – родная тётка, а Ёргольская – седьмая вода на киселе. Но всё-таки она, оказывается, ближе и роднее. «Может быть, прямо сейчас повернуться и уехать?» Только и там её особо не ждут. Она украдкой смахнула непрошеную слезу и степенно вылезла из экипажа с натянутой улыбкой, чтобы всем показать, как она рада приезду в Ясную.
Вдруг Митя увидел подходящего к ним старого учителя Фёдора Ивановича, который спешил поздороваться. Обнял его и прижал к груди. Заметив стоящую в одиночестве Пелагею Ильиничну, горничная Агафья Михайловна подошла и тепло поприветствовала её. Графиня, не сдержавшись, с чувством благодарности заплакала у неё на груди. Ёргольская узнавала и не узнавала своих питомцев. Немудрено: уезжали они в 1841 году от неё отроками, а сейчас – юноши. Даже Маша вытянулась и становится полнокровной девушкой, хотя ей шёл только четырнадцатый год. Восемнадцатилетний Сергей стал не только взрослым, но и неприступным, порой не желал никого слушать и никому не хотел подчиняться. Митя давно стремился жить самостоятельно. Да и Лёве уже пятнадцать, готовится поступать в университет.
Лев с замиранием сердца от переполнявшего его восторга и с непередаваемым трепетом после длительного отсутствия вбежал в сени. За сенями сразу же шла лестница, которая с невысокого нижнего этажа вела на второй, в переднюю. Отсюда шли входы в разные комнаты парадного этажа. Он даже на секунду прикрыл глаза, чтобы представить то незабываемое время детства, когда были живы папа и бабушка, как они здоровались рука в руку. Заскочил в буфетную, где тогда хозяйствовал Василий Трубецкой. «Он брал нас на руки, – вспомнил Лёва, – сажал на поднос, и это было одним из самых больших удовольствий: “И меня! Теперь меня!” – и так носил по буфетной».
Дверь слева вела из передней в кабинет отца. И опять перед глазами встал папа, который всегда с трубкой сидел на кожаном диване. Лев вошёл в парадные комнаты: большая зала, диванная и гостиная. Лепные потолки, паркетные полы. гостиная: диван, большой круглый стол красного дерева и четыре кресла. Напротив дивана – балконная дверь, а в простенках между ней и высокими окнами два зеркала в резных золочёных рамах.
Ёргольская заметила, что для Лёвы Сергей продолжал оставаться кумиром. Он так же, как Сергей, перед тем как войти в дом, одёрнул сюртук и пытался поправить причёску. Хотя на голове торчал жёсткий ёжик, пригладить его было нечем.
Лев остановился около зеркала и стал рассматривать себя, хмурясь всё больше и больше.
– Какой же я страшила, – прошептал он.
– Лёвушка, что тебя тревожит? – переспросила шедшая за ним Ёргольская.
– Вы видите, тётенька, какая у меня невыразительная физиономия: грубые и дурные черты, глаза серые, скорее глупые, чем умные, да и мужественного в ней ничего нет!
– Не наводите на себя напраслину, мон шер, – потрепав по голове и улыбнувшись, она успокоила Лёву.
– Посмотрите, Туанетт, какой Сергей красавец. Настоящий комильфо!
– Ты ещё мальчик, – улыбнувшись, успокоила она Льва. – Пройдёт ещё год, от силы два, и ты станешь настоящим мужчиной!
Митя внимательно смотрел на тётушек, которые встретились после долгого перерыва, и стал невольно их сравнивать: Татьяна Александровна – благородная, несмотря на преклонный возраст, всё ещё красивая. Он вспомнил, как дядюшка Юшков, спрашивая старшего брата Николеньку о Ёргольской, заметил: «О, в молодости Татьяна была очень привлекательна, с чёрной курчавой огромной косой и агатово-чёрными глазами, оживлённым энергическим выражением! Да она и сейчас прекрасна». «Вы правы, дядюшка. Она не только добрая, но и умная», – произнёс Митя тогда.
Пелагея Ильинична, полная пустого пафоса, сама же чопорная, не в меру восторженная и лживая, а в глазах, даже когда улыбается, скрывается что-то змеиное. С возрастом на лице её большей частью читалось: «Не тревожьте меня!» А ещё, как остроумно заметила Маша, перед выездом на раут Юшкова появлялась в длинном платье, и казалось, что она плавно шествует в ореоле собственного сияния. Но Юшков, как они поняли, этого терпеть не мог и почти не ездил с ней вместе, предпочитая появляться там раньше или позднее.
«И чего они все к Ёргольской липнут, как мухи к мёду? – проснувшись, снова с закипающей злобой и горькой обидой думала Юшкова. – Даже Фёдор Иванович, этот древний старикашка, бывший их учитель, намного им дороже, чем я! Именно я забочусь: обучаю их, стараюсь сберечь их усадьбы, а кто позаботится обо мне? – И опять слёзы горечи залили её лицо. – Даже при отъезде в Ясную муженёк не обнял и не пожелал доброго пути. Что за жизнь у меня?»
Уже давно рассвело, за окном слышались трели птиц. Нежный запах трав и цветов наполнял комнату чудным ароматом. Вдруг дверь распахнулась, и в её комнату с улыбкой впорхнула Маша.
– Дорогая тётенька Полина, пойдёмте гулять!
– Как – гулять? – опешив, спросила она. – А завтрак?
– Завтрак через полчаса, а я вас зову пройти в наш замечательный сад. Хочу вам показать, как он прекрасен!
– Иду, иду, – стараясь скрыть растерянность и уразумев, что Маша относится к ней как к родной, ответила Пелагея. Не ожидая от себя такой прыти, быстро поднялась, накинув на голову модную вуальку, и направилась вслед за племянницей.
Сестра Маша
Самой младшей в семье графов Толстых была Маша. Братья постоянно играли и учились вместе, а сестра хотя и общалась с ними, но большую часть времени проводила с гувернанткой и любимой тётенькой Татьяной, которую ласково звала Тюнечкой. Маше было одиннадцать лет, когда её вместе с братьями увезли в Казань, разлучив с Ёргольской, которая, по сути, заменяла для неё родную маменьку, умершую сразу же после её рождения. Казанская тётенька Юшкова не сумела завоевать сердце Маши, и девочка с первой минуты ощутила сиротство и одиночество. И только братья всеми силами души и лаской старались поддерживать её. Тётенька Полина определила Машу в Родионовский институт, по окончании которого она в 1846 году возвратилась к любимой тётеньке Ёргольской. Та жила вместе с родной сестрой Елизаветой в Покровском. Вместе с ними проживал и сын старшей сестры, тридцатитрёхлетний Валерьян, которому приглянулась шестнадцатилетняя Маша. Мать со слезами просила сына не смущать юную девицу, зная, что Валерьян живёт с крестьянкой и та имеет от него детей. Но сын не унимался и продолжал обхаживать графиню.
– Мама, но что произойдёт, если я женюсь на ней?!
– Воля, да она ещё и жизни не видала, и ты ей не пара, – урезонивала его мать.
– Маменька, она же не в тайге жила, а в Казани, окончила институт. А вы утверждаете, что она жизни не видала. Право, смешно!
– Воля, ты прекрасно понимаешь, почему я против.
– Одно другому не мешает!
– Молчи, негодник, не рви моё больное сердце.
В гостиную зашла её сестра, и Валерьян, смотря на тётеньку невинным взглядом, спросил:
– Как вы думаете, Татьяна Александровна, могу я сделать предложение руки и сердца вашей племяннице Машеньке?
Опешив от такого вопроса, та просто не знала, что и сказать, и тут же, словно очнувшись, произнесла:
– Это, Валерьян, серьёзный вопрос, и он сиюминутно не решается.
Сын тут же уехал, а Татьяна обратилась к сестре:
– Как ты, Элиз, думаешь, может быть, и неплохо, если Маша выйдет замуж за твоего сына и мы будем продолжать жить все вместе?
– А ты, сестра, у Маши спрашивала?
– Пока нет, но, думаю, она не станет возражать.
– Татьяна, ты знаешь, сколько Воле лет и сколько – Маше, она ему почти в дочки годится!
– Ну, это не преграда!
– Я, Татьяна, категорически против этого брака.
– Ну, Элиз, Маша по натуре своей очень добрый человек и будет верной женой твоему Волиньке.
– В этом, сестра, у меня сомнений нет, но я не желаю отдавать её в лапы своему сынку. – А про себя подумала: «Кобелю ненасытному!»
Она хотела было рассказать Татьяне о любовных похождениях Валерьяна, но язык не поворачивался открыть истину. А в глубине души закралась мысль: «А что, если и правда женить его на Маше? Может, и угомонится, хотя вряд ли».
Татьяна, захваченная этой идеей, спросила у племянницы:
– Машенька, как ты думаешь, если Валерьян предложит тебе выйти за него замуж, согласишься или нет?
– Мне, Тюнечка, так хорошо и уютно с вами, век бы не расставалась, поэтому мне всё равно.
– Я не поняла тебя.
– Замуж выходить рано или поздно надо.
– Но тебе нравится Валерьян?
– Я, Тюнечка, пока этого не ведаю, может быть, и да, но больше всего я люблю вас и тётю Элизу. Этого мне достаточно.
Ёргольская была тронута этим ответом, при этом снова подумала, что Машенька даже замужем останется при ней.
«И у меня будет свой угол, куда я без страха смогу приткнуть голову!»
А тем временем Валерьян не оставлял мысль жениться на Маше и всё настойчивее атаковал маменьку, требуя её согласия, так как чувствовал, что юная графиня примет его предложение.
В 1847 году маменька наконец согласилась. Осенью состоялась свадьба, и Маша стала женой Валерьяна.
Отчёт управляющего
На следующее утро в дом пришёл управляющий Воробьёв. Прежде чем войти в дом, он раскурил трубку, присев на одну из скамеек. Хотя он и пытался держаться уверенно, его волнение было заметно. Временами судорога пробегала по лицу. Накануне он немало выпил и сейчас пытался залить тот жар, который обжигал его грудь. Наконец, поднявшись и перекрестившись, он вошёл в сени, поприветствовал камердинера Фоку Демидовича и попросил доложить о себе госпоже Юшковой. Полина сидела в кабинете с Ёргольской и знакомилась с последними поступившими бумагами и документами.
– Доброго здоровья, ваше сиятельство!
– Как наши дела, Пьер? – поинтересовалась Пелагея Ильинична.
– Как будто всё порядком, ваше сиятельство! – скороговоркой ответил он.
– Я этого не заметила, – сухо произнесла она, сурово глядя на него, и, не дожидаясь ответа, продолжила: – Большинство окон в доме не помыты, даже мебели в некоторых комнатах нет. Как вы посмели всё разбазарить?
– Ваше сиятельство, Пелагея Ильинична, вы же сами приказали большинство мебелей переправить в Казань. Я так всё по вашему распоряжению и выполнил.
– Скажите, Пьер, я недовольна тем, что некоторые крестьяне сидят в кутузке, и за каждого из них требуют выплатить семьсот пятьдесят руб лей потому, что они торговали вином.
– Я с этим вопросом, графиня, ваше сиятельство, уже разобрался. Большинство денег внесено, другие вот-вот заплатят.
– Хорошо, скажи, пожалуйста, все ли свидетельства получены под залог наших деревень? И учти, очень скоро надо будет составлять раздельные акты между братьями и сестрой, и тут должно быть всё в порядке.
– Да-да, я это помню, и всё будет выполнено, – подобострастно смотря на графиню, произнёс он.
– Я сегодня рано утром прошла по территории усадьбы и увидела следы разрушения и запущенности: беседка подгнила и покривилась, во многих местах заметны вырубки в лесу. Как это объяснить?
– Мои люди в лесу только производили чистку сухостоя, также мы убрали старые и больные деревья.
– О чём вы, Пётр Евстратович?! – не выдержав его наглой лжи, воскликнула Ёргольская. – Полчепыжа[2] вырублено, а вы пытаетесь доказать нам, что это просто чистка. Если вам говорят о недостатках и хищениях, то имейте мужество признать свою вину и больше не допускать таких безобразий. Вместо того чтобы стоять на страже и оберегать имение молодых графов, вы беззастенчиво расхищаете и разоряете его.
– Если, Пьер, я замечу ещё раз что-либо подобное, то немедленно сниму вас. Вы поняли меня? – твёрдо произнесла Пелагея Ильинична.
– Так точно, ваше сиятельство.
В родном краю
Оказавшись в стихии родной усадьбы, Лёва никак не мог надышаться яснополянским воздухом. Митя после завтрака уходил заниматься к себе. Сергей, узнав, что в Туле выступает цыганский хор, отпросился у тётушек и сразу же уехал. Маша большую часть времени проводила с любимой Тюнечкой, не забывая при этом о тётушке Пелагее и стремясь её чем-нибудь позабавить. Лёву в эти дни можно было найти в нижнем парке, где он, устроившись с книгой, не столько читал, сколько размышлял или наблюдал за трактом, по которому ехали телеги, экипажи или шли богомольцы. Но больше всего любовался живописно раскиданными купами лип и берёз, а также смотрел на спокойную гладь пруда, над которым стремительно носились стрекозы и по которому чинно плавали утки. Он то бродил по дорожкам парка, то вдруг, сорвавшись, чуть ли не бегом направлялся в оранжерею около среднего пруда. Между оранжереей и прудом находилась просторная ухоженная лужайка, где он предавался мечтам и чтению. Как-то после завтрака Ёргольская подала Толстому очередной журнал «Библиотека для чтения».
– Что это, Туанетт, за талмуд? – поинтересовался Лёва.
– Здесь немало безделок, которые, может быть, тебя захватят. Но я желаю, чтобы ты познакомился с сочинениями лорда Брума. Он рассказывает о жизни таких великих людей, как Вольтер, Руссо, Юм, Робертсон, и других.
– Если я не ошибаюсь, это философы?
– Абсолютно верно.
– Я предпочитаю, милая тётушка, читать самих философов. В произведениях они рассказывают и о своей жизни, но за подсказку спасибо. А безделки интересны, но здесь они печатаются частями, я же стараюсь поглотить сразу всю книгу от начала до конца. А главное, все события для меня так живы, как действительность. Мне нравятся в этих романах хитрые мысли, пылкие чувства и цельные характеры.
Лев обратил внимание, что Туанетт его внимательно слушает, а поэтому не стеснялся, что Сергей или кто-нибудь из его знакомых скажут: «Всё это вздор и ваши фантазии» – и, посмеявшись, займутся своими делами.
– Вы не поверите, тётушка, – с воодушевлением продолжал Толстой, – однажды мне захотелось быть похожим на одного из героев с густыми бровями.
– Да-да, Тюнечка, – со смехом произнесла Маша, – Лёва решил постричь себе брови и до того их подровнял, что все выстриг. Потом они у него выросли большие-большие, чуть ли глаза не закрывали.
– Но я этого не заметила, – констатировала Туанетт. – Брови как брови!
Ёргольская из рассказов Маши и Пелагеи Ильиничны узнала, что Лёва весной не сдал некоторые экзамены в университет, на отделение востоковедения, причём экзамены по языкам он сдал хорошо. Не знал он вопросов по истории и географии, а также не изучал латинский язык, а потому не смог перевести оду горация. Переэкзаменовка назначена на осень.
Ёргольская заметила, что Толстые не привыкли ничего делать вполсилы. Если чем-то увлеклись, то, говоря простым языком, могут загнать себя в угол, но не остановятся и не скажут: «Хватит!» Таким был Митя, который вёл аскетический образ жизни, а теперь Сергей, увлёкшийся цыганским хором. Юшкова неслучайно писала о нём в письме, что он «полон цыганского тумана» и даже хотел, вместо того чтобы ехать в Казань, уехать в Нижний, но денег у него не было. Слава Всевышнему, его сумел уговорить его приятель Зыбин ехать в университет на занятия. Николай – умница! Окончил университет и поступил в армию, сейчас служит на Кавказе. Леон пока больше занят своей внешностью, а не занятиями. Словом, проблема на проблеме, и сейчас молодых людей необходимо держать под контролем! Получится ли это? Одному Богу известно.
Раздел имений
Братья продолжили обучение в Казани. Леон тоже поступил в университет, но что-то они с тётушкой Полиной не ужились и разъехались. Лев поселился в отдельной квартире. Маша, окончив Родионовский институт, возвратилась к Ёргольской. Теперь они жили то в Ясной Поляне, то у её сестры, Елизаветы, в имении Покровском, в восьмидесяти вёрстах от Ясной.
В 1847 году молодые графы Толстые собрались в Ясной Поляне, составили раздельный акт, и 11 июля братья с сестрой подписали его. По нему всё наследство делилось на равные части следующим образом: Николай получал село Никольское и деревню Платицино (в Чернском уезде). Для уравнения выгод он обязывался уплатить Льву две с половиной тысячи руб лей серебром. Сергею достались село Пирогово с конным заводом (в Крапивенском уезде), и он должен был уплатить Дмитрию семьсот руб лей и Льву – полторы тысячи руб лей серебром. Маше перешли село Пирогово со 150 душами крестьян, 904 десятины земли, мукомольная мельница и около трёх пудов столового серебра. Дмитрий получил деревню Щербачёвку с мукомольной мельницей и 115 душами из спорного имения Поляны (в Белёвском уезде).
Лев по просьбе братьев наследовал деревни Ясная Поляна, Ясенки, Ягодная и Мостовая Пустошь (в Крапивенском уезде), Малая Воротынка (в Богородицком уезде).
Из-за того что некоторые имения были заложены, окончательное утверждение раздела затянулось на несколько лет. Раздельный акт Тульская гражданская палата утвердила только 12 февраля 1851 года, после уплаты значительной части долга.
Братья и сестра, вступив в права наследства, решили уплатить оставшиеся долги таким образом: Сергей – три части (за себя и братьев Дмитрия и Льва), Николай – остальное, что было ими подтверждено в прошении от 1 февраля 1851 года, поданном в Тульскую гражданскую палату.
Кому я нужна?
Ёргольская волновалась. Она знала, что Сергей и Митя оканчивали Казанский университет, да и Лёва уже учился там же, только на юридическом отделении. И если у старших братьев с учёбой никаких проблем не было, то Льву учёба почему-то не давалась. Проучившись один год на философском отделении и не сдав экзамены, он решил перейти на юридический. «И как он там, в Казани, останется один?» – переживала она.
Как графиня Пелагея ни старалась приблизить к себе детей покойного брата Николая, но потерпела фиаско, и сейчас, когда они уже стали самостоятельными, стремились поскорее вернуться в Ясную и жить своим домом.
А Туанетт размышляла про себя: «Сумею ли я найти с ними общий язык? Будут ли они прислушиваться к моим советам и пожеланиям?» Она понимала, что Николай уже давно взрослый и служит в армии. Сергей и Митя в её опеке не нуждаются, да и советов её слушать не хотят, а вот Лёва – юноша увлекающийся и доверчивый, к нему у неё душа не просто лежит, а болит за него: как же он будет вступать во взрослую жизнь? Маша уже почти год после окончания Родионовского института жила с ней. А может быть, все братья ласково ей намекнут, что они прекрасно обойдутся и без её вмешательства в их судьбы! Покойная мачеха всю жизнь смотрела на неё косо, стремилась от неё отделаться и выдать поскорее замуж. Но она не могла оставить её сына Николя, которого безмерно любила, как любит до сих пор его детей, хотя они почти взрослые, а кузина Пелагея намеренно её разлучила с ними. Зла на неё она не держит. А самое печальное то, что до сих пор у неё практически нет своего постоянного угла, правда, старшая сестра, Елизавета, всегда рада её приезду, и у неё даже есть в Покровском своя комната. Тем не менее уютнее всего она чувствовала себя в Ясной! Хорошо бы здесь жить постоянно, но неизвестно, сбудется ли её желание. В большинстве случаев, о чём бы она ни мечтала, это не сбывалось. Сейчас, на краю собственной жизни, она просто существовала и с нетерпением ждала приезда детей, а более всего – её дорогого Лёвочки.
Апрельское солнце призывно светило в окно, и Ёргольская решила приоткрыть окно, но рама не поддавалась. Оставив её в покое, она спустилась и направилась в сени.
– Пришёл Федул – тепляк подул, – заметил камердинер Фока. – Считайте, барыня Татьяна Александровна, весна пришла, да снег исчезает с такой скоростью, что скоро трава кругом зацветёт. Одним словом, апрель полновластно вступает в свои права!
– Вы правы, Фока Демидыч, уже так и хочется прогуляться по «прешпекту».
– Приятной прогулки!
– Благодарю вас.
Настроение с утра было хорошее. С той минуты, как она появилась в Ясной, дворник тщательно очищал парадную дорогу, и поэтому идти было легко. Весенний тёплый ветерок обвевал её теплом, и она, незнамо почему, ощутила такую радость, словно чувствовала: сейчас произойдёт что-то необыкновенное. Вдруг она увидела знакомый тарантас. «Кто же едет в нём?» – подумала она. Занятия в университете ещё не закончились, но додумать она не успела, увидев, как молодой человек чуть ли не на ходу выскочил из экипажа, и она оказалась в объятиях дорогого племянника.
– Лёвочка, душа моя, что произошло? Или тебя раньше времени отпустили?
– Нет, братья Сергей и Митя оканчивают учёбу в университете, а мне учёба надоела. Я принял решение совсем оставить это учебное заведение, заняться хозяйством в своей любимой Ясной Поляне. А главное – больше никуда не уезжать. Казань так надоела мне, что я не захотел оставаться в ней ни одной лишней минуты. И я безмерно рад, что тут же встречаю свою дорогую и любимую маленькую Туанетт.
Он обнял её, чуть ли не взял на руки и целовал, целовал, а Ёргольская от несказанного счастья зарделась, и они пошагали к дому. Она заметила, что Леон осунулся и похудел.
– Ты не болен, мой мальчик? – заботливо спросила она.
– Чуть-чуть приболел, но уверен, что скоро всё будет хорошо!
– У тебя, случаем, не чахотка? – снова с тревогой поинтересовалась она.
– Пустяки, тётенька. – Лёва явно не желал рассказывать ей о болезни, но, заметив с её стороны серьёзную озабоченность и, видимо, поняв, что она не успокоится, пока не узнает, вручил ей тоненькую тетрадь и попросил прочитать первую страницу его дневника.
17 марта 1847 года Леон записал: «Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, и вот шесть дней, как я почти доволен собою. Я получил гаонарею оттого, отчего она обыкновенно получается; и это пустое обстоятельство дало мне толчок, от которого я стал на ту ступень, на которой уже давно поставил ногу; но никак не мог перевалить туловище (оттого, должно быть, что, не обдумав, поставил левую вместо правой). Здесь я совершенно один, мне никто не мешает, у меня нет прислуги, мне никто не помогает – следовательно, на рассудок и память ничто постороннее не имеет влияния, и деятельность моя необходимо должна развиваться. Главная же польза состоит в том, что я ясно усмотрел: беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души…»
Ёргольская была в шоке. Она толком не знала, что это за болезнь. Ходили слухи, что винят в ней распутных дам. «Ладно Пелагея, но почему господин Юшков не захотел поговорить с Лео ном и не предостерёг его от этого дурмана? Теперь поздно локти кусать, надо ему как-то помочь, а как?» Этого она не знала. Она решила в ближайшее время обратиться к знакомому штаб-лекарю Франциску Карловичу Бееру. Может быть, он что-то посоветует! Сам же Леон, видимо, по молодости лет серьёзного значения этой болезни не придавал, выполняя курс лечения, назначенный университетским эскулапом. В Казань, вероятнее всего, по этой же причине он не хочет возвращаться. «Ах, господа Юшковы, сколько в вас надменности и фарисейства», – подумала с горечью Ёргольская.
– Ты, Леон, наверно, проголодался? – спросила Татьяна, не выдав волнения. – Вернулся в Ясную наш повар Миша. Стал готовить такие вкусности, что порой хочется лишнюю минуту посидеть за столом в столовой.
Толстой был благодарен Туанетт, что она не стала охать и смотреть на него как на прокажённого. Он был счастлив, что теперь окончательно дома, со своей такой родной маленькой тётенькой и может делать только то, чего сам пожелает!
Владелец Ясной Поляны
Радостно встретили приезд молодого барина и все обитатели Ясной Поляны. А когда в конце июня 1847 года управляющий Воробьёв спросил Льва, можно ли дать команду возвратиться яснополянцам из Казани домой, то все поняли, что всё возвращается на круги своя. Ёргольская и Лёва настолько были рады встрече, что в это утро даже не говорили о чём-либо существенном. Она была безмерна рада, что Леон душевно не изменился, остался таким же порывистым и открытым и всё, что было у него на сердце, старался рассказать, поделиться думами. Поэтому она его не торопила и не стремилась выяснить, почему он оставил университет и уехал из города раньше братьев. Она видела, что он настолько устал с дороги, что даже вкусная еда, приготовленная поваром Мишей, не прельщала его. Ей вспомнилась фраза, брошенная экономкой усадьбы Прасковьей Исаевной: «Знаете, барыня, так всем надоела наша неустроенность, пора бы жить по порядку». И вот сейчас, смотря на зевавшего Леона, она испытывала ту несказанную радость, что, кажется, теперь «эта неустроенность» канет в Лету и всё будет хорошо!
– Ты, может быть, поспишь? – с улыбкой спросила она.
– Да-да, тётенька, вы правы, я с дороги, пойду сосну часок-другой.
Он ушёл, а она осталась сидеть за столом и, улыбаясь самой себе, прошептала: «Он вернулся. – И, чтобы убедить саму себя, ещё раз повторила: – Он вернулся!» Она так была счастлива, что даже, общаясь с Прасковьей Исаевной, говорила шёпотом и попросила экономку, чтобы люди в доме громко не кричали, дабы не разбудить молодого барина.
– Что вы, милая, – ответила та, – его сейчас и пушкой не прошибёшь. Пусть, с Богом, отдохнёт после дальней дороги!
День клонился к вечеру, но Леон и не думал просыпаться. Подойдя к широкой софе, на которой он, не раздеваясь, уснул, Татьяна накрыла его одеялом. Она вдруг услышала: «Маман, это вы?» Она замерла на минуту, как бы ожидая продолжения, но Леон, пожевав губами, чему-то улыбнулся во сне и перевернулся на другой бок.
Лев проснулся ближе к утру и не мог понять, где он, но, вспомнив, что в Ясной, поднялся и подошёл к окну. «Неужели я наконец дома?» – с охватившей его радостью подумал он и понял, что проспал почти сутки. Он решил тихонько пройти в кабинет папеньки. Ему вспомнилось, с какой радостью они с братьями приходили сюда, к отцу, и как любили вместе играть. Лев обрадовался, что в кабинете ничего не было тронуто, всё сохранялось так, как будто папенька только вышел из него. Подойдя к шкафу, он обнаружил полное собрание сочинений Руссо, философов Вольтера, Канта, Адама Смита, поэта Байрона. Взяв в руки первый том Руссо, он настолько углубился в чтение, что даже не заметил, как вошла Ёргольская и пригласила его на завтрак. Чтение настолько захватило его, что он скорее незрячим сердцем увидел тётеньку, чем глазами. Скороговоркой откликнувшись на её зов, Лёва продолжил читать.
– Ну же, Леон, я прошу тебя, отложи на минутку книгу!
– Да-да, иду, – с неохотой оторвавшись от чтения, снова произнёс он и пошёл за нею с книгой в руках.
– А братья скоро приедут? – поинтересовалась она.
– Вероятно, в середине июня, а может быть, и позже!
– Если я правильно поняла, ты больше не вернёшься в Казань?
– Верно. Я и документы из университета уже забрал.
– Но, Леон, может, тогда поступишь в Московский университет?
– Нет, Туанетт, я буду заниматься самостоятельно! Я уже составил для себя огромную программу самосовершенствования.
– А силы воли хватит?
– Обязательно! – с уверенностью произнёс он.
Став владельцем Ясной Поляны, Лев пригласил старосту и управляющего, объявил им, что отныне госпожа Татьяна Александровна Ёргольская является для них такой же хозяйкой, как и он, и чтобы они выполняли все её требования неукоснительно. Для Ёргольской этот поступок Леона был таким неожиданным, что у неё просто не хватило слов отблагодарить его. А главное – она впервые за долгую жизнь вдруг поняла, что стала не нахлебницей и приживалкой, каковой её считали покойная графиня Пелагея Николаевна и Полина Юшкова. Она наконец обрела свой дом, где могла спокойно жить и чувствовать себя полноценным членом семьи.
Не доучившись в университете, Лев ставит перед собой грандиозные задачи по самосовершенствованию. В дневнике молодости он записывает: «Я, кажется, без ошибки за цель моей жизни могу принять сознательное стремление ко всестороннему развитию всего существующего. Я был бы несчастливейшим из людей, ежели бы я не нашёл цели для моей жизни – цели общей и полезной…
Теперь я спрашиваю: какая будет цель моей жизни в деревне в продолжение двух лет? 1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство как теоретически, так и практически. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить в математике гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила. 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать».
В числе правил, имеющих целью развитие самообладания, он пишет: «Чтобы никакая боль, как телесная, так и чувственная, не имела влияния на ум». Против изнеженности выставляет правило: «Не иметь прислуги». Он также ставит перед собой задачу, которая потребовала от него значительных усилий против половой страсти и тщеславия. Он внушает себе правила: «Отдаляйся от женщин» и «Убивай трудами свои похоти», «Будь хорош и старайся, чтобы никто не знал, что ты хорош».
Толстой увлекается сельскохозяйственной деятельностью, приобретает машины, много читает и занимается, встречается и беседует с крестьянами. Однажды Лев пришёл в столовую расстроенный и понурый. Всё в нём клокотало, даже волосы на макушке были взъерошены.
Татьяна Александровна сама себе удивлялась. Ей не верилось, что Леон сделал её истинной госпожой. Даже управляющий Воробьёв, прежде игнорировавший её, одним из первых поздравил Татьяну и теперь всегда с улыбкой прислушивался к её распоряжениям. До глубины души её тронуло то, что при составлении хозяйственных планов Леон теперь советовался с ней.
– Что с тобой, Леон? – поинтересовалась Туанетт. – Ты явно не в себе!
– Тётенька, душенька, поймите, как так можно? Я для них ничего не значу!
– Ты о чём, мой друг?
– О том! – чуть ли не вскричал он. – Я уже больше года общаюсь, наблюдаю и пытаюсь понять их крестьянские души, желаю войти в их жизнь и помочь им, а они меня игнорируют.
– Ну, это ты, Леон, преувеличиваешь!
– Как, тётенька, преувеличиваю? Вы же помните, я днями сход мужиков устроил и спрашивал, кому что нужно. Всё записал.
– Да-да, ты мне говорил.
– И что же вы думаете? Сегодня с утра пошёл в деревню. Захожу в одну избу – и скажу: у меня хлев чище и надёжней, а дом Юхванки того и гляди обвалится. Весь на подпорках, вот-вот рухнет! А он просит у меня несколько лесин, чтобы новую подпорку соорудить. «Тебе, – говорю, – мил человек, новый дом строить надо». А он мне в ответ: «Ничего, подопру и в этом ещё поживу!»
– А староста об этом знает? – спросила Туанетт.
– Да, разумеется, но больше меня поразил другой молодой негодяй. Извините, я его по-другому величать не могу.
– Что же он сотворил?
– Ему старуха мать отдала налаженное хозяйство. Как мне рассказал староста, дом у них был полная чаша. Сынок принял хозяйство, женился, нарядил жену, а сам вместе со своей молодухой взвалил на матушку всю тяжёлую работу. Ей бы на печи лежать и калачи с кашей есть, а она в семьдесят лет, шатаясь, работает за двоих. Совести у них ни грана нет. Староста мне говорит, что постращать его надо, а это значит: выпороть на конюшне. Беда ещё в том, что он все деньги прогуливает в кабаках и от работы отлынивает. А мать голодная сидит!
– Но ты, Леон, дал бы ей немного денег, – посоветовала тётенька.
– Я, разумеется, дал три рубля, но боюсь, что сынок отнимет. А главное, когда я стал говорить ему о том, что мать уважать надо, он кивал мне, но по глазам вижу, что он не собирается менять свой образ жизни. Понимаете ли вы психологию крестьян и их жизни? Я совсем не понимаю.
Лев сидел такой понурый и, кажется, совсем забыл о еде.
– Верите, Туанетт, я поставил для себя огромную задачу самообразования, а сумел выполнить её меньше чем наполовину. Видимо, брат Сергей прав в том, что я пустяшный малый!
– Не говори, Леон, ерунды. Ты ещё молод, и не всё сразу получается! Ты же не сидишь сложа руки, а трудишься. Я верю, что всё у тебя получится!
Пожалуй, эти полтора года были для Ёргольской относительно спокойными и радостными. Большую часть времени она проводит в Ясной и знает, что у Маши уже двое детей. Николай в армии на Кавказе. Митя в своём имении Щербачёвке или в Москве. Серёжа нигде не служил и свою красавицу цыганку Машу не оставил, но и особо не распространялся о ней. А Леон продолжал хозяйствовать у себя в имении. Иногда Лев показывал Туанетт дневник, в котором строил грандиозные планы самоусовершенствования, и очень сокрушался, что много намеченного не сумел осуществить.
Постоянно занимаясь музыкой, он просил её сесть вместе с ним за инструмент, и они играли в четыре руки. Лёва сильно переживал, если сбивался с такта, стремился отработать досконально каждую музыкальную пьесу. Изучая юридические науки, он сажал её рядом с собой, читал тот или иной параграф, объяснял ей, что многие законы не поймёшь для кого написаны.
– Но писали учёные люди! – возражала она.
– Написать всё что хотите можно, но всегда необходимо учитывать обстоятельство и время, в которое живёшь, а получается, как говорят: что написано пером – не вырубишь топором. А вырубать необходимо, ибо жизнь не стоит на месте!
Она как никто другой видела его мятущуюся натуру. «Он же ещё мальчишка!» – рассуждала она сама с собой, увидев, как он купается в пруду вместе с крестьянскими ребятишками и подзуживает их: «Кто сумеет нырнуть на глубину и достать комок грязи?» При этом не просто поддразнивает их, а сам ныряет и, радостный, выныривая, показывает им комок грязи. Или затеет с ними играть в городки и тут же сам сбивает построенную пирамиду. Потом что-то рассказывает им, а те внимательно слушают молодого «граха», как они его величают, и от души вместе с ним смеются.
А какой азарт его охватывает на охоте. Поспорил с егерем, что он первый выстрелил в зайца, а егерь заупрямился и говорит: «Ваше сиятельство, как вы могли первый выстрелить, когда заяц прямо на меня выскочил и ваш выстрел был второй?» Поспорили! И егерь воочию показал ему, что он неправ. Лев потом сам рассказывал, что необоснованно обидел человека. Он показал Льву, что его дробь попала зайцу в глаз, а его выстрел только шкурку испортил.
– Мне, тётенька, так стыдно стало, что я чуть не заплакал. Слава Богу, застыдился и извинился перед ним.
Хотя Лев утверждал и успокаивал тётеньку, что чувствует себя хорошо, тем не менее венерическая болезнь временами обострялась и беспокоила его. Появился зуд, ощущалось недомогание, и он посоветовался с местным доктором, а тот предложил ему поехать в Москву и обратиться к известному хирургу Оверу: «Он гофмедик и сумеет вам, граф, оказать существенную помощь». Ничего не говоря Ёргольской, он срочно уезжает в Москву.
Пустяшный малый
До старшего брата, Николая Толстого, который служил на Кавказе в армии, доходили слухи, что у младших братьев в самостоятельной жизни не всё ладится. Сергей увлёкся цыганским пением и даже решил выкупить красавицу цыганку, певицу Машу. Родные отговаривали его от этого опрометчивого шага, но он не пожелал никого слушать. Митя метался от одной деятельности к другой: устроился на службу в один из департаментов Москвы, но вскоре ушёл оттуда, занялся торговлей, но и это дело его не увлекло.
Младший, Лев, оставив Казанский университет, приехал в Ясную Поляну, решив жить помещиком и руководить своим хозяйством. Но вскоре стал понимать, что не всё у него идёт по намеченному плану: мужики на сходках как будто слушают его, но не слышат и продолжают делать всё по-своему. «Видимо, тётенька была права, советуя выбирать торные дороги, которые ближе ведут к успеху, а пока только одни разочарования!» – думал Лев.
Беспокоит его и венерическая болезнь, периодически появляется зуд и ощущается недомогание. Доктор Беер посоветовал ему обратиться в Москве к известному хирургу, гофмедику Оверу.
Осенью 1848 года Лев внезапно уезжает в Москву и снимает квартиру в Николопесковском переулке.
Встретив знакомого, Василия Перфильева, Лев рассказал о неудачах, с которыми столкнулся, занимаясь хозяйством в имении.
– Милый Лёва, – заметил Вася, – я на такие подвиги неспособен. Служу по провиантской части, на жизнь не жалуюсь. Надо жить потребностями дня, а если всё время задумываться, то и не заметишь, как молодость пролетит!
Лёва удивлялся: «Почему я не умею жить сегодняшним днём и радоваться каждой проживаемой минуте?» Но внутренний голос не соглашался с ним, утверждая, что всё это пресно и скучно. Толстой не возражал приятелю, тем более что тот сказал, дескать, взял для него приглашение в Английский клуб, где будут нужные и интересные люди, а также состоится большая игра. Лёва решился сказать Перфильеву о своей несвоевременной болезни, и он посоветовал ему проконсультироваться сразу у двух врачей: «Во-первых, один ум – хорошо, а два – лучше, а во-вторых, дешевле!»
Перед отъездом в Москву Лев встречался с братом Сергеем и говорил об общем долге, который необходимо было внести в заёмный банк. Брат считал, что это не более 200 руб лей, но выяснилось, что срочно надо было заплатить 1195 руб лей серебром. «Может, Сергей что-то перепутал? – подумал он. – Видимо, придётся продать Савин лес. Интересно, сколько за него дадут? Надо срочно написать тётеньке Татьяне, чтобы она связалась с управляющим Андреем».
– Вы слишком много задумываетесь, мон шер, – заметил Перфильев. – Мне кажется, что вам не двадцать лет, а намного больше. Надо помнить, что молодость мимолётна, проскочит и улетит, как птица. Ты мог бы не приезжать в Москву, а продолжать находиться у себя в Ясной, – твердил он. – А коль появился, то изволь жить весело и со смыслом!
«Как это – со смыслом?» – подумал Толстой, но спросить не решился, так как они уже подходили к Английскому клубу. Лев заметил, как легко и непринуждённо Васенька вёл себя в обществе. Здесь он был своим человеком: одни жали ему руку, другие улыбками приветствовали его, третьи приглашали к столу. Перфильев представил Льва нескольким своим знакомым, и вскоре Толстой увлечённо играл за карточным столом. Московская светская жизнь закружила его настолько, что он и не заметил, как много денег проиграл в карты и оброс долгами. А к тётеньке и управляющему полетели письма с просьбой о высылке денег. «Что я делаю? Я же так разорюсь, – сетовал он, – все мои благие намерения пропадают втуне! В то время как Перфильев, князь Львов и другие служат, Калошин пишет статьи и получает денег больше, чем я доходу со своего хозяйства. Но они все учились, а я бросил учёбу в университете. Неужели я ниже их? – корил он себя. – Мне кажется, что они не умнее меня. Ум тут ни при чём! Они умеют пристраиваться, а я – нет. Но у себя в усадьбе я не бездельничал: пытался создать приемлемую, нормальную жизнь для своих крестьян, но ничего путного из этого не вышло. Неужели я правда, как утверждает брат Сергей, пустяшный малый?»
Лев был настолько расстроен, что решил возвратиться домой. И тут к нему заглянули его новые знакомые – барон Герман Ферзен и Борис Озеров.
– Лёва, ты что-то совсем закис. Это не дело!
– Вы правы, есть о чём задуматься. Вы, друзья, при деле, а я баклуши бью да весь в долгу как в шелку, поэтому пора к дому прибиваться.
– Долг, Лёва, – дело наживное. Сегодня образовался, завтра рассчитаешься. К себе ты всегда успеешь, а мы тебе предлагаем поехать с нами в Петербург, ты там никогда не был.
– Я уже и тётеньку известил, что возвращаюсь домой.
– Мало ли, Лёва, что мы обещаем родным. Петербург – столица, там университет, а главное – там значительно больше возможностей для приложения сил, да и город необычайной красоты.
– Мне надо подумать.
– Лёва, право, думать не стоит, поехали, не пожалеешь! В дилижансе уже и место для тебя забронировано.
Соблазн был велик, и он согласился.
Приехав в Петербург, Лев остановился в гостинице «Наполеон». Трое с половиной суток в дороге вымотали его окончательно, и, вой дя в номер, он сразу же уснул богатырским сном. Проснулся, когда солнце призывно светило в окна. Открыв глаза и увидев незнакомую обстановку, подумал: «Где я?» Вспомнил, что приехал в столицу. Хотя и выспался, но тело ещё до конца не отдохнуло, и вылезать из-под одеяла не хотелось. «Не спать же я сюда прибыл», – одёрнул он себя и крикнул Ивана, который уже наготове ждал пробуждения барина. Из окон гостиницы открывался вид на Исаакиевскую площадь. Перед ним возникла громада строящихся зданий, Исаакиевского собора и Министерства государственных имуществ, которые тонули в лесах. Главным украшением площади был Мариинский дворец.
Камердинер Иван сообщил, что недавно заходил один из его приятелей и передал, что будет ждать его к вечеру в трактире у Каменного моста. Кучера хорошо знают этот трактир.
День был воскресный, и гуляющих оказалось немало. У дверей гостиницы стояли рысаки. Кучера наперебой предлагали прокатить с ветерком, но Лев решил прогуляться пешком. Поддавшись общему движению, он пошёл, что называется, куда глаза глядят. Спешащий парень задел его и не извинился, детский плач грудного ребёнка ввёл его в раздражение. Ещё больше возбудила его пьяная гонка двух всадников, которые проскакали посреди дороги. Дух противоречия проснулся в нём: «Зачем я сотни вёрст мчался сюда? Такой же город, с улицами и домами, как и в Москве, только улицы попрямее!» Хотел было повернуть назад, но, пересилив себя, направился дальше, вышел на Стрелку Васильевского острова и остановился. От увиденного буквально замер. Это было что-то удивительно прекрасное. Дома стояли в одну линию, создавая неповторимый городской ландшафт. Перед глазами открылся Зимний дворец. С другой стороны он увидел Биржу, которая была поставлена строго по оси Стрелки. Все сооружения на Стрелке связаны с Биржей, а ростральные колонны с пандусами, пристанями и лестницами являлись величественными морскими воротами в град Петров. Вдоль Невы прекрасно вписались в архитектуру набережной здание Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, дворец Прасковьи Фёдоровны и Старый гостиный двор. Белоснежным ковром лежала величественная Нева.
Стоявший с отцом отрок, крутя головой во все стороны, вдруг с воодушевлением воскликнул:
– Грандизно! – И снова закричал, поворачиваясь во все стороны: – Грандизно!
Отец с улыбкой заметил:
– Не грандиозно, а grandiose, majestueux, ambitieux, что значит «грандиозно, величественно, масштабно…» Этот город совсем молодой, – продолжал он рассказывать сыну, – заложен Петром Первым в 1703 году.
– Он что, моложе дедушки? – вопросительно глядя на отца, спросил мальчик.
– Чуть постарше, – произнёс он, чуть замешкавшись и не ожидая такого вопроса от сына, и стал прикидывать в уме, сколько батюшке лет.
А в это время на Неве все увидели, как мчится кавалькада троек с гиканьем и свистом. Неожиданный выстрел вернул Льва в реальность.
– Папа, что это?
– Это, сын, адмиральский час! Ежедневно в Петропавловской крепости в двенадцать часов дня гремит выстрел, сообщая, что в столице наступил полдень, и рабочий люд приступает к дневной трапезе.
«Как этот отрок прав: грандиозно!» – с восторгом подумал Толстой. Отец с сыном ушли, а он всё стоял и любовался красотой дворцов и величественных зданий, а главное – той гармонией, которая вливалась в душу и от которой захватывало дух. Неслучайно в одном из писем к родным он напишет: «Я навеки остаюсь здесь, в Петербурге!»
Лев отправился к памятнику Петру Первому. Он вышел на Сенатскую площадь и увидел огромную глыбу, на которой был водружён памятник основателю Петербурга. «Кто ж такой валун приволок сюда? – подумал он. – А может, он здесь лежал со дня основания города?» Ему захотелось подойти ближе к памятнику, но решётка вокруг монумента не позволяла это сделать. И тем не менее он прочитал: «Петру Первому – Екатерина Вторая. Лета 1782».
Ему показалось, что конь, вставший на дыбы, сейчас перемахнёт Неву, и опять вспомнилось восклицание отрока: «Грандиозно».
Увидев лихача, он подозвал его и приказал ехать к трактиру, расположенному у Каменного моста. Приятели радостно встретили Льва и усадили его за стол.
Вечером он был в Мариинском театре, на балете «Эсмеральда» Цезаря Пуни. В главной партии танцевала несравненная Фанни Эльслер. Время пролетело незаметно, но Толстому было неловко, что в театре он был не в сильном восторге от балета и знаменитой танцовщицы. Хотелось уже оказаться в кровати.
Прошло две недели, и Лев пишет восторженное письмо брату Сергею: «Я и решился здесь остаться держать экзамен и потом служить, ежели не выдержу (всё может случиться), то и с 14-го класса начну служить, я много знаю чиновников 2-го разряда, которые не хуже и вас, перворазрядных, служат. Короче, тебе скажу, что петербургская жизнь на меня имеет большое и доброе влияние, она меня приучает к деятельности и заменяет для меня невольно расписание; как-то нельзя ничего не делать; все заняты, все хлопочут, да и не найдёшь человека, с которым бы можно было вести беспутную жизнь, – одному нельзя же. Я знаю, что ты никак не поверишь, чтобы я переменился, скажешь: “Это уже в двадцатый раз, и всё пути из тебя нет, самый пустяшный малый”; я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся: прежде я скажу себе: “Дай-ка я переменюсь”, а теперь я вижу, что я переменился… Ежели же кто хочет жить и молод, то в России нет другого места, как Петербург; какое бы направление кто ни имел, всё можно удовлетворить, всё можно развить, и легко, без всякого труда. Что же касается до средств жизни, то для холостого жизнь здесь вовсе не дорога, всё, напротив, дешевле и лучше московского; нипочём квартира…»
Вскоре он также извещает любимую тётеньку, что желает жить в столице. Брат Сергей предупреждает его только об одном: чтобы он не вздумал там играть в карты, так как это может очень плачевно кончиться для него.
В один из дней он навещает дядюшку, вице-президента Академии художеств, графа Фёдора Петровича Толстого. В вестибюле академии привратник сразу же провёл его в жилые апартаменты графа. Его жена, Анастасия Ивановна, любезно приняла гостя. Лев увидел и Фёдора Петровича, который сидел у окна за отдельным столом, увлечённо набрасывая рисунок за рисунком. Причём ощущалось, что его в эти минуты никто не сумеет оторвать от начатого дела. Беседуя с тётенькой Анастасией, Лев в душе был восхищён дядюшкой, который, по его мнению, доходил до крайностей, и ничто его во время занятий не могло отвлечь от любимого дела. Как-то в детстве Лёва услышал историю о его нелёгкой учёбе и жизни, и он сумел преодолеть немало препятствий, прежде чем успех пришёл к нему. Лев убедился в том, что дядюшка в юности понял, чем надо заниматься. «А я до сих пор витаю в облаках и не пойму, в какую сторону мне двигаться».
– А вы, Лев, уже определились, чем желаете заниматься? – не отрываясь от дел, спросил Фёдор Петрович.
– Пока, дядюшка, присматриваюсь и думаю.
– Ты же, кажется, в Казани в университете учился?
– Вы правы! Я оставил его.
– Здесь неплохой университет, продолжи учёбу в Петербургском университете, а там и поймёшь, к чему лежит душа.
– Я тоже так думаю!
Вошёл знакомый привратник и, подойдя к графу, попросил его срочно пройти в одну из аудиторий.
– Анастасия, угости нашего гостя, мне срочно надо отойти. Кажется, император Николай Павлович решил навестить наш храм искусств…
Посидев немного с графиней, Лев сослался на то, что ему хочется погулять по этому прекрасному городу.
Он регулярно навещал знакомых и родственников, бывал на балах и раутах. Видел, что многие его знакомые с утра отправляются в присутствие и заняты делами. В один из приёмных дней он пришёл в гости к дальней родственнице графине Прасковье Васильевне Толстой.
– Прости, батюшка, что принимаю тебя по-домашнему, – произнесла пожилая графиня. – Скажи мне, как поживают твои тётушки?
– говоря откровенно, сам не знаю. Из Ясной я уехал в Москву осенью 1848 года. С тётенькой Татьяной с тех пор нахожусь в переписке, а о тётеньке Юшковой вообще ничего не знаю. Слышал, что Владимир Иванович с тётенькой Пелагеей разошёлся и теперь она скитается по монастырям.
– Что так?
– Право, не ведаю, что-то казанская жизнь её не устроила, и она уехала.
– А почему с Татьяной в Ясной не живёт?
– Характер у старушки сложный.
– Насчёт характера я с вами, Лев, полностью согласна. Она и в молодости любила настоять на своём, а это не всем по душе. А как братья?
– Николенька служит в армии на Кавказе, а мы пока бездельничаем.
– Надо когда-то и побездельничать: молодость быстротечна, – с грустной улыбкой заметила графиня. – Моя младшая, Александра, с отрочества вся в заботах, а уж о старшей, Елизавете, и говорить не приходится. Обе служат фрейлинами во дворце. Вижу их крайне редко. Бывает, заскочат на минутку – и опять на пост. Рада бы тебя с ними познакомить, но сама не ведаю, когда они у меня появятся.
Льву импонировало, что она не стала пенять ему, что он без дела оказался в Петербурге. Накормив гостя и ещё поговорив немного, предложила ему иногда заглядывать на огонёк.
– Может, Бог даст, и с Александрой столкуешься, она дева умная.
Толстой поблагодарил её за добрые слова и в будущем обещал по возможности навещать.
Встретил в столице Лев и друзей детства Иславиных. Костенька стал его постоянным сопроводителем в Петербурге. Он имел пристрастие к аристократическому обществу, помня, что его мать была урождённая графиня Завадовская, а бабка – графиня Апраксина. Поэтому и кстати, и некстати упоминал об этом. Учился он на первом курсе в университете, на юридическом отделении, а главное, всех знал и везде был принят за своего. Взяв опеку надо Львом, он пытался внушить ему, что перед сильными и важными господами незазорно даже встать на колени.
– О чём ты, Константин? Я дворянин и граф и никогда не только не совершу этого, но и в мыслях не намерен этого делать.
– Если хочешь достичь вершин власти, то должен быть с ними предельно любезен! К тому же они аристократы.
– А я, – в запальчивости воскликнул Лев, – я не меньше их аристократ и по привычкам, и по положению, и по рождению! Я аристократ, потому что вспоминать предков: отца, дедов, прадедов моих – мне не только не совестно, но и всегда радостно!
– Ладно, Лев, не расходись, я же желаю тебе добра и хочу помочь определиться тебе здесь.
– Я такое добро не приемлю, и постарайся не поучать меня.
В одной аристократической компании Лев увидел маленького человечка в тёмном фраке с портретом государя, украшенным алмазами, в петлице.
– Кто таков? – простодушно поинтересовался Лев, указывая глазами на присутствующего тщедушного господина.
– Что ты, Лёва, это министр по иностранным делам Карл Нессельроде, любимец императора.
– И вот перед таким пигмеем ты советуешь склонять голову? Уволь, уволь, – с сарказмом заметил Лев.
Толстой стал часто бывать у Прасковьи Васильевны. Как-то её гостем был профессор Никитенко. Он говорил о положении дел в университете, в частности о том, что некоторые профессора ратуют за отмену на юридическом отделении таких предметов, как русская словесность, история и философия.
– Наша молодёжь, – заявлял он, – и так не умеет правильно излагать мысли по-русски, а если сократить эти важные дисциплины, они, по сути дела, останутся неучами с университетским дипломом.
– Я с вами тут совершенно солидарен, – поддержал его Лев. – Я учился в Казанском университете, и некоторые преподаватели так плохо по-русски излагали свой материал, что мы ничего не понимали. Вот я и перестал посещать эти лекции.
– Простите, с кем имею честь?
– Граф Лев Толстой.
– Рад слышать из уст молодого господина такие разумные речи. Разве можно допускать в образовании один прикладной метод, без знания своей истории и духа философии? Это значит принести молодого человека в жертву случайности и потоку времён. Вы представляете, – продолжал он с возмущением, – это значит уничтожить в нём всякий порыв к лучшему и всякое доверие к высшим непреложным истинам.
– Убирать надо не эти предметы, о которых вы нам говорите, Александр Васильевич, а этих, с позволения сказать, профессоров.
– Что вы, Прасковья Васильевна, небезызвестный вам господин Бутурлин предлагает закрыть университеты. Образование – это притворство! Именно в университетах студенты читают иностранные книжки, а там сплошной социализм и коммунизм, как утверждает он.
– Я бы поняла, если бы подобные сентенции высказывал какой-нибудь солдафон, но когда такие речи звучат из уст директора Императорской публичной библиотеки, просто не знаешь, что и думать.
– Он ко всему прочему председатель Особого секретного комитета для высшего надзора за исправлением.
– Тогда надо попытаться доказать, что данные предметы так же важны образованному человеку, как и юридические, – продолжала графиня. – Надо бы им напомнить, что нашим молодым аристократам давно пора научиться правильно говорить по-русски!
– Вы совершенно точно подметили, – сказал Лев. – Я недавно на балу с одной девой заговорил по-русски, и что же вы думаете? Она заявила мне, что я истинный мужлан и никак не комильфо.
– Молодец, продолжайте с ними беседовать по-русски! Беда, Лёва, в том, что в нашем обществе мы рассуждаем по-немецки, шутим по-французски, а по-русски только молимся Богу или ругаем наших служителей.
Все рассмеялись весёлому замечанию хозяйки.
Чем дольше Лев жил в Петербурге, тем больше дни его были заполнены различными встречами и развлечениями. В то же время он постоянно думал, по какой дороге ему пойти, чтобы найти именно свою стезю. Он постоянно задавал себе вопрос, мог бы он быть письмоводителем или столоначальником и сидеть в присутствии положенные часы. И сам себе отвечал: нет! Да и постоянная светская жизнь с её интригами и завистью порой раздражала его.
Однажды на Невском проспекте Лев встретил близкого знакомого по Казани, князя Дмитрия Оболенского.
– Лёва, ты ли это? – увидев его, радостно воскликнул тот и, обняв, повёл в ближайшую кофейню. – Как ты сам? Как твои братья и сестра?
– Старший, Николенька, служит в армии на Кавказе, другие живут в своих имениях, а сестра Маша замужем, у неё уже трое детей.
– Как я понял, университет ты не окончил?
– Я ушёл оттуда.
– Это поправимо. Известный тебе по Казани Михаил Николаевич Мусин-Пушкин здесь является попечителем Петербургского университета.
– Надо попробовать.
– Прекрасно. Я в ближайшие дни навещу господина попечителя.
Очарованный встречей с Дмитрием, который занимал пост председателя Петербургской палаты гражданского суда, Лев решает поступить в университет и 30 марта 1849 года подаёт прошение о допущении к испытаниям на юридический факультет Петербургского университета.
Документы его были приняты. Он сдал два вступительных экзамена и начал готовиться к очередному испытанию. Находясь в университете, Толстой услышал от студентов хвалебный отзыв об одном из адъюнктов, который читал им лекции об историческом развитии политической экономии.
– Вы не подскажете, кто это? – поинтересовался Лев.
– Это наш старшекурсник Владимир Милютин. Советуем вам послушать его. Он так доходчиво рассказывает об историческом развитии политической экономии и никогда не заглядывает в конспект. Его всегда внимательно слушают студенты, боясь что-нибудь упустить.
«Это же наш хороший знакомый, ещё по детским играм», – вспомнил Лев.
Как только Владимир вышел из аудитории, окружённый слушателями, Лев подошёл и громко поздоровался с ним. Милютин, узнав его, ответил на приветствие и пригласил посетить вместе с ним одно из собраний, на котором обсуждаются социальные и нравственные вопросы дня.
– Я уверен, что тебе понравится. На сегодняшнем заседании будет выступать с темой «Об организации крестьянских работ по Фурье» твой сосед по имению, помещик Алексинского уезда Тульской губернии господин Беклемишев.
Милютин привёл Льва в Коломну, в небольшой деревянный домик, стоявший на Покровской площади. Молодые люди с большим вниманием слушали оратора. Здесь не вели пустой болтовни, а проводили серьёзную работу по разъяснению и освоению первых социальных основ учений Сен-Симона, Фурье и Руссо. Высказывали мысли о гармоничном и всестороннем развитии способностей человека и всех законных его потребностях, данных ему природой и развитых образованием. «Это ли не стремление к счастью?» – подумал Лев с восторгом и благодарностью, что Милютин пригласил его на эту встречу.
