Белые платочки России
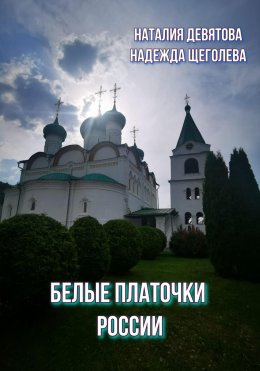
Когда архимандрита Ефрема, игумена Ватопедского монастыря1 спросили, почему было решено привезти Пояс Богородицы именно в Россию, ведь много стран просили святыню и получили отказ, он ответил: «Из-за большой любви к русскому народу, особенно к “белым платочкам”, – так он называл русских женщин.
Именно женщины удержали православие в России в период воинствующего атеизма. В отличие от большинства мужчин, которые побаивались ответственности, многие женщины не потеряли веру, ходили в оставшиеся храмы на службы, крестили детей, соблюдали посты и религиозные праздники.
Надежда
Фото из личного архива.
Кроваво‑красное солнце поднялось над глухим хутором Самойленко. Косые лучи озарили багряным светом крыши крепких казацких хат, засияли на крестах Никольского храма. Три редких, протяжных удара в колокол «красным» звоном нарушили раннюю тишину, возвещая о начале утренней службы. Благовест в «красный» колокол, пришедший на смену «постному», означал, что настал Великий четверг Страстной седмицы и богослужения будут особенными, какими бывают только в этот период. Протоиерей Александр, настоятель храма, начал читать двенадцать Евангелий. Перед чтением каждого дьячок подавал знак натянутой сверху веревочкой, и звонарь ударял в колокол: один раз – перед первым, два – перед вторым, три – перед третьим.
Недалеко от храма стоял красивый, ухоженный дом, в котором жила семья отца Александра. Дом был небольшой, но добротный, построенный из кирпича, оштукатуренный и побеленный, покрытый серым волнистым шифером, с высоким деревянным крыльцом. Фасад украшали три больших окна, обрамленных голубыми резными наличниками. Прямо перед самыми окнами раскинула свои ветви с первыми нежно‑зелеными листочками высокая белая береза. Вишни за домом уже оделись в бело‑розовый наряд, наполнив сад сладковато-медовым цветочным ароматом. Между деревьями был разбит небольшой огород с аккуратными грядками, на которых появилась первая зелень, посаженная под зиму.
Матушка Вера. Фото из личного архива.
Матушка Вера, супруга протоиерея Александра, высокая, худощавая женщина с фигурой, не утратившей стройности после рождения шестерых детей, хлопотала на кухне. Строгое синее платье подчеркивало красоту и грациозность фигуры, поверх него был надет серый льняной передник с большими накладными карманами. Густые темно‑русые волосы были собраны в пучок на затылке и покрыты беленьким ситцевым платочком, завязанным сзади на узел.
Матушка доставала из металлических форм только что испеченные куличи и выстраивала их в ряд на невысоком столике, а на смену готовым – отправляла в печь новую партию. Пекла она много, семья‑то большая, и надо, чтобы куличей хватило на всю пасхальную неделю. Они в этот раз получились на удивление пышные, румяные, просто загляденье! По заведенной ею традиции матушка пекла куличи разных размеров: большие – для семейной трапезы, средние – в подарок прихожанам, которые всегда поздравляют семью со светлым праздником Пасхи, а два маленьких – для младших сыновей, девятилетнего Лени и восьмилетнего Сережи. Удовлетворенно осмотрев куличи, матушка накрыла их нарядным белым рушником с вышитым крестиком затейливым узором, в центре которого красовались ее инициалы: В. М., – пусть остывают. Вечером они с детьми будут украшать куличи взбитым с сахаром белком и посыпать цветным пшеном, красить яйца, в розовый цвет – марганцовкой, в бирюзовый – зеленкой, и в самый ее любимый, коричнево-желтый, – луковой шелухой.
Двенадцатый удар в колокол возвестил о том, что батюшка скоро закончит утреннюю службу. У матушки все готово, чтобы покормить мужа, щи еще не остыли – как только батюшка вернется, она быстро накроет на стол. Вера улыбнулась и продолжила хозяйничать на кухне: достала из буфета курагу, изюм и орехи, а также специальную разборную деревянную форму – пасочницу в виде усеченной пирамиды, символизирующей Гроб Господень. Творог уже был готов, оставалось добавить в него сухофрукты, орехи и еще кое‑какие ингредиенты, известные только ей одной. Затем полученную сладкую творожную массу уложить в пасочницу для придания пасхальной формы.
Маленькое круглое окошко на часах открылось, из него выглянула серая кукушка, на мгновенье замерла, как бы проверяя, есть ли кто‑то, кому нужно сообщить время, и, прокуковав один раз, быстро спряталась в свой домик. Матушка посмотрела на ходики. Не ослышалась ли она? Неужели уже час дня? Что случилось, почему до сих пор не вернулся со службы батюшка? В груди защемило, сердце учащенно забилось, почувствовав недоброе. Она вновь взглянула на часы, еще раз удостовериться, что не ошиблась. Скоро вернутся из школы дети, надо непременно отправить их в храм, узнать, почему так долго нет отца. Матушка устало опустилась на стул, расправив на коленях передник, и вдруг ахнула, вскочила и начала что‑то судорожно искать. Она то переставляла с места на место посуду, то приподнимала полотенце, то выдвигала-задвигала ящики дубового буфета, украшенного резьбой. На секунду замерла, потом вдруг опустила руки в карманы передника, продолжая что‑то искать, но, не найдя там ничего, дрожащим голосом стала повторять: «Где же оно, где? Ведь еще утром было на месте…»
Во дворе радостно затявкала собака, скрипнули половицы, и на пороге кухни появился отец Александр – высокий, крепкого телосложения мужчина сорока пяти лет с длинными темными вьющимися волосами и густой окладистой бородой. Выглядел он моложаво, хотя уже начал слегка лысеть, и первая седина посеребрила голову. Порой хуторяне, увидев батюшку, не могли сдержать восторга: «Вот дал же Бог столько красоты одному человеку!» Отца Александра прихожане очень любили. Иногда он был строгим, но всегда оставался справедливым ко всем своим духовным чадам.
Батюшка только что вернулся из храма, поэтому на нем была черная ряса священника, а на груди висел большой серебряный крест – награда от епископа за усердное служение Господу. Отец Александр с нежностью посмотрел на жену: «Какая же она прекрасная, моя любимая Верушка, тихая, добрая, трудолюбивая, «незаметно незаменимая» – эти слова как будто про нее написаны в Церковном уставе, рассказывающем, какой должна быть супруга православного священника».
– О, божественный запах! – воскликнул батюшка. Матушка подняла на него полные слез большие серые глаза.
– Вера, что случилось? Почему ты плачешь?
– Кольцо обручальное… Ведь еще утром было на руке, а сейчас его нет нигде! – едва слышно промолвила она.
– Не плачь и не переживай! Найдется твое кольцо, никуда оно не денется из дома. Лежит где‑нибудь и посмеивается над тобой. А может быть, оно соскользнуло с руки, когда ты замешивала тесто? Тогда кто‑то получит пасхальный подарок вместе с твоим куличом! – батюшка улыбнулся. – Накрывай лучше на стол, я ужасно голоден, с утра маковой росинки во рту не было.
Матушка, немного успокоившись, принесла кастрюлю с постными щами из кислой капусты, нарезала хлеб и поставила на стол солонку. Она мало солила пищу, при этом любила повторять: «Недосол – на столе, пересол – на спине!»
Поставив перед мужем полную тарелку щей, матушка Вера села напротив и, подперев лицо руками, спросила:
– Ты сегодня сильно задержался, я даже хотела за тобой детей послать. И, вижу, чем‑то расстроен, что случилось?
– Да как тебе сказать, старая история. Помнишь, наш председатель просил выделить колхозу часть помещения в храме под яровизацию зерна? Я тогда отказал ему, не дал ключи, ведь негоже в Божием доме склады устраивать. Он грозился разобраться со мной и, по‑видимому, пожаловался начальству, потому что сегодня приезжала целая делегация из района, сказали, что это саботаж, контрреволюционная деятельность и я за это отвечу! А один пренеприятный тип добавил, что скоро попов вовсе не будет, храмы закроют, тогда точно их все отдадут под склады, а может, даже разрушат, так как «религия – это опиум для народа!».
– Господи, помилуй! – матушка перекрестилась. – А ты что ответил?
– Что я могу ответить? Мое мнение известно, теперь пусть церковный староста собирает совет, там вместе решим, как поступить.
– У меня какое-то нехорошее предчувствие… Вспомни, четыре года назад твоего предшественника, протоиерея Рогозина, арестовали по ложному доносу. Где он теперь, ни слуху ни духу…
– Вера, о чем ты говоришь, я же не сделал ничего, за что можно человека арестовать!
Матушка не ответила и о чем‑то задумалась. Отец Александр тоже молчал, видимо, вспоминая сегодняшнюю неприятную беседу и размышляя над тем, чем могут обернуться для него угрозы районных властей. Наконец он встал, перекрестился на стоявшие в красном углу иконы Спасителя, Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца, окаймленные красочно расшитым матушкою рушником, и сказал:
– Спасибо, Вера, щи очень вкусные! Пойду немного отдохну перед вечерней службой.
Матушка начала убирать со стола посуду. Во дворе вновь радостно залаяла собака, послышался шум, детский смех, и на пороге появились дети, вернувшиеся из школы.
– Тише вы, неугомонные! Отец отдыхает. Садитесь к столу, поедите – и будем красить яйца.
После обеда старшие сыновья Женя и Володя пошли наколоть дров и принести воды из колодца. Матушка взбивала белок для украшения куличей, а Нина с Лидой, старшие дочери, приготовились красить яйца.
– Я тоже хочу красить яйца! – сказал маленький Сережа, – дайте мне какую‑нибудь краску.
Нина, уже успевшая принести из своей комнаты шкатулку с рукоделием, строго ответила:
– Ты еще маленький, можешь все испортить!
Нина четырнадцати и Лида двенадцати лет, будучи искусными рукодельницами, как и матушка, имели свои секреты окраски пасхальных яиц. Одни яйца они обвязывали нитью, после крашения ее снимали – получались белые полоски на яркой поверхности. Другие – заворачивали в кусочки кружева, после окрашивания его снимали – оставался тонкий ажурный узор. Лида любила вырезать из бумаги различные фигурки: цветочки, листочки, звездочки или буквы ХВ – «Христос Воскресе!». Вырезанные из белой бумаги – использовали как трафарет, а цветные – приклеивали к уже сваренному яйцу сырым белком. А еще девочкам очень нравились яйца с «переходом»: когда яйцо погружали в краситель и потом медленно вынимали из раствора, верхняя часть получалась более светлой, а нижняя – темной. Дочери ревностно относились к этому важному делу и не допускали к нему братьев, считая, что мальчишки в принципе не способны справиться с творческим занятием, тем более такие маленькие.
Несмотря на то что Сережа был младшим в семье, он не уступал старшим детям в изобретательности, упорстве и настойчивости, поэтому, подбежав к матери и дернув ее за передник, попросил за себя и брата:
– Мам, ну скажи, чтобы они нам с Леней тоже разрешили яйца красить.
Матушка улыбнулась, погладила сына по светлой головке и сказала примирительно:
– Девочки, пусть братья вам помогают, ведь они тоже хотят поучаствовать. Дайте им посильную работу, под вашим присмотром у них все получится!
Лида фыркнула, но ослушаться матери не посмела. Невзирая на разницу с братьями всего в три и четыре года, она считала себя взрослой, а их – «мелкотой», оттого снисходительным тоном заявила:
– Ладно уж, идите сюда, покажу!
Младшие с радостью уселись за стол, и закипела творческая работа. Первое сделанное Сережей розовое яйцо с зеленым листочком было готово, и мальчик радостно воскликнул:
– Смотрите, какое у меня чудесное получилось! – и со счастливым видом положил его в нарядную плетеную корзинку с пасхальными яйцами.
Когда работа подходила к концу, в кухню вошел отец Александр.
– Вера, что же ты меня не разбудила? Хотел полчасика поспать и разоспался…
– Ну и слава Богу, хоть отдохнул перед вечерней службой! Дети уже закончили, сейчас будем пить чай.
Батюшка увидел корзину, полную красивых праздничных яиц, похвалил детей:
– Какие молодцы! В субботу будем святить.
– А мы с Леней тоже сегодня красили яйца! – с гордостью сказал Сережа. – У меня лучше всех получились!
Сестры переглянулись и засмеялись.
– Все вы постарались во славу Божию! – и отец Александр ласково похлопал сына по плечу.
Нина с Лидой накрыли стол к чаю: достали из буфета чашки, изящную стеклянную вазочку с вишневым вареньем, сухарики, которые постоянно делали из оставшегося хлеба, подсушивая его на печи.
Варенье матушка варила сама прямо в саду. Там устанавливали жаровню – круглую железную коробку на ножках, по ее бокам были сделаны отверстия, а внизу – решетка. Топили такую жаровню дровами и шишками. Сначала матушка готовила медовый сироп: в медный таз с деревянной ручкой заливала слегка разбавленный водой мед, постепенно растапливала его, затем погружала туда отборные, спелые, сочные вишни из собственного сада, добавляла листья мяты и уваривала до готовности. Сахар был дорогим и редким удовольствием, к тому же считался скоромным продуктом, а дешевый мед всегда можно было купить на соседней пасеке. Варенье «на меду» разрешалось есть и во время поста. Нежные розовые вкусные пенки, получавшиеся при кипении, матушка делила между детьми.
Когда вернулись старшие сыновья, семья села пить чай.
Вновь на улице залаяла собака, но на сей раз громко, отчаянно, зло. Это было совсем непохоже на милого, доброго дворнягу, которого много лет назад дети нашли щенком на дороге и принесли в дом.
Мать тогда стала ругать их, но отец Александр сказал:
– Пусть останется, любовь к животным делает детей добрее и сострадательнее. Пока поживет под крыльцом, а к зиме смастерим ему настоящую будку.
Дети радостно побежали обустраивать собаке место под крыльцом, постелили солому, на нее положили старый маленький круглый половичок, поставили мисочку с водой. Псу очень понравилось новое место проживания, он улегся на подстилку и положил мордочку на лапы.
– А как мы его назовем? – спросил Сережа.
– Давайте назовем Дружком, – предложила Нина.
