Мой павший ангел
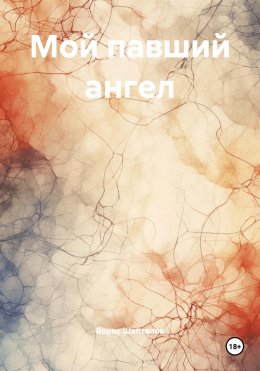
Лучше горсть с покоем, нежели
пригоршни с трудом и томлением духа
Экклезиаст
Пришествие
1
Ранним утром постучали. Я с трудом открыл один глаз и прислушался. Странно, но с одним глазом почему-то слушалось легче. Понять который час было невозможно, – будильник надежно затаился в сумерках. Хотелось в ответ на провокацию повернуться на другой бок и… Постучали опять. Настойчиво, но не грубо-требовательно: «Мол, за вами пришли…» Я бы не открыл, я вообще не понимаю тех, кто по первому звонку бросается к телефону или к двери, даже если у него под боком лежит преприятнейшее создание. Моя позиция проста: «Тебе это надо?» – «Нет». – «Надо кому-то другому?» – «Да». – «Вот если кому-то тебя надо, то он найдет время позвонить еще раз». Бегать на ранние звонки меня отучила одна болезная старушка. Регулярно в течение нескольких лет звонила в восемь-пол-девятого и спрашивала: «Это поликлиника? Мне врача на дом». Я сначала произносил свое «нет» вежливо, потом с подчеркнутой холодностью. Перепробовал все виды металла в голосе. Затем стал просить набирать тщательнее, черт возьми. Долго объяснял, что набираемый ею номер телефона – квартира, а не поликлиника. Старушка не верила! «Я звоню по этому номеру уже много лет». После чего я перестал брать трубку по утрам. Через полгода шум стих. Наверное, померла с досады, что молодые вертихвостки в регистратуре вечно где-то шляются… Вставать не хотелось еще и потому, что в комнате было довольно прохладно. Все-таки февраль на дворе. Одеяло же теплым, благодатным компрессом ласково плющило к простыне. Как приятно в дремотном состоянии паковаться, поджав ноги и досматривать благожелательный сон… Постучали еще раз. И тут я проснулся. Разом. Оторопь, оказывается, действует не хуже ополаскивания холодной водой. Еще бы не оторопеть: стучали не в дверь (тем более она со звонком), стучали в окно. Что за черт? Я живу на девятом этаже! И стучала явно не птица. Стучали по-человечески – осмысленно.
Закутанный в одеяло, я протрусил к окну.
С улицы просился в дом мерзнущий ангел…
2
– Ты чего такой веселый; в лотерею пол-литра выиграл? – спросила Эльза.
Я засиял еще больше.
– Может быть, и даже возможно много больше!
– Буду ждать угощения.
Эльза Ивановна – единственный человек на работе, с которым (и с которой) у меня по-настоящему хорошие, ровные товарищеские отношения. Энное количество лет назад у нас случился рядовой во всех отношениях роман. Он закончился довольно быстро путем мерного сгорания слабомощного горючего материала, оттого и претензий никто не предъявлял. Не сговариваясь, мы никогда о нем не вспоминали и между нами установились сбалансированные отношения многоопытных людей.
Я же пришел в институт именинником, готовый лопнуть от желания: а) поделиться случившимся, б) похвастаться обретенной удачей, в) сказать кому-нибудь устало: «Конечно же, замолвлю словечко». А вы бы разве не испытывали те же чувства, если б к вам прилетел настоящий ангел?
Пока ехал на работу, стиснутый в автобусе рядовыми гражданами, в числе которых недавно числился и я, представлял себе пресс-конференцию. Я, в этакой яркой белизны рубашке, дорогом галстуке (но не броском), подтянутый, хорошо подстриженный (у меня такой непокорный волос, что в парикмахерской часто меня не стригут, а обстригают, как газонную траву), весь из себя остроумный.
– Мистер Горенкофф, скажите, пожалуйста, что ел на завтрак Ангел?
– Ничего не ел. Ему не надо. От такого гостя большая экономия.
(Смех в зале.)
– Выставите ли вы свою кандидатуру в президенты, как отмеченный божьей благодатью?
«А почему бы нет? – подумалось мне самонадеянно. – Чем отличается правитель от простого человека? Правитель делает ошибки за чужой счет, а простой – за свой. Правитель имеет возможность исправлять их, не жалея государственных средств, а простые люди – только за свои кровные. Правитель благодаря усилиям госаппарата оставляет противоречивую память о себе, как индивид, пытавшийся сделать жизнь лучше, а мы можем радоваться за себя, если выкрутимся без всякой благодарности от родных и близких. Так почему бы не пожить в режиме наибольшего благоприятствования?» Но тут мне пришла иная мысль. Президента избирают на короткий срок, а у меня случай особый. Соответственно, журналист спросит иное:
– Вы согласитесь выставить свою кандидатуру в Папы Римские, как о том просит прогрессивная часть синклита?
– Я подумаю. Поступило предложение от съезда движения «Горенков – ты наш Бог!» Может быть, придется создавать новую обновленческую церковь. Реформы, в общем-то, назрели.
– То есть Ангел спустился к вам, чтобы указать на вас как на Мессию?
Стоп! Вот об этом я и не подумал. Шутки шутками, а вдруг и вправду Он спустился ко мне с тайной миссией подготовить меня к мессианству? Вот это да!
Но почему выбор остановлен на мне?
Я мысленно обозрел свой трудовой и прочий биографический путь. Родился в семье служащих. Пошел в школу. Учился средне. Окончил школу, поступил в институт. Учился средне. Окончил вуз. Сменил несколько мест работы, пока не прибился к Университету экономики, права и менеджмента (У-Э-Пэ-Эм). На деле же это обычный средний институт, но в годы сплошной либерализации, вестернизации и идиотизации, сменившей годы сплошной бюрократизации, интернационализации и все той же идиотизации, его, как и все вузы, переименовали в университет (был другой оригинальный вариант – именовать академией). Но я называю его тем, чего он реально стоит – институтом. Что еще? Высидел положенный срок в ассистентах и поступил в аспирантуру. Написал диссертацию, название которой неудобно произносить. Так… небольшая тема, интересная лишь аспиранту и научному руководителю. Получил степень кандидата наук. Вернулся на родную кафедру старшим преподавателем. Через два года дали доцента. Всё, потолок. Путь тысяч и тысяч. Прямо скажем – не мессианский путь. Тем более что религией особо не интересовался. Во всяком случае, мои познания в этой сфере не выходят за пределы типичного агностика (так теперь именуют себя атеисты; называться как есть стало немодно, не карьерно, а в отдельных районах страны и опасно).
В таком состоянии духа я проехал еще пару остановок и решил, что зря себя так низко ставлю. Внешняя сторона личности не отменяет ее внутренний мир. Утверждают же – человек – это Вселенная, и на этом основании сердобольные лица требуют отменить смертную казнь. (Правда, я к смертной казни отношусь положительно: святое дело устроить вселенной серийного убийцы апокалипсис.) Итак, раз даже у преступников есть свой необъятный сакральный мир, значит, и у меня найдутся свои глубины, скрытые возможности, в том числе потенциальная перспектива взорваться сверхновой звездой! Может я, фигурально выражаясь, сидел на печи тридцать лет и три года, чтобы, наконец, повстречать того, кто скажет: «Встань и иди, ибо ты Мессия!» Да и Иисус проявил себя, когда ему было уже за тридцать, и пророк Мухаммед объявил о своем прозрении в зрелые годы. Наверняка и Заратустра не с юных лет своей философией людей потрясал. К таким делам надобно созреть, как хороший коньяк. Пора…пора… Тем боле, что неотвратимо подступает тот возраст, когда выясняется, что все любимые тобой блюда вредны для пищеварения и все что ни делается – делается к ухудшению здоровья.
От таких мыслей сделалось вновь приятно. Да что там «приятно»! Почувствовал, как поднимается новая волна эйфории. Прежде всего, надо завести дневник и регулярно заносить туда резюме своих бесед с Ангелом. В последующем летопись будет обнародована и, разумеется, произведет сенсацию. Шутка ли: «Откровение от Ангела»! Новейший Завет! И впрямь пора. Человечество катится в пропасть. А тут эра Водолея наступила. 2001 год! Короче, самое время открыть новую эпоху новым заветным откровением. Я представил себе читательские пресс-конференции, встречи с иерархами всех мировых конфессий, рауты с миллиардерами, которым надо очиститься перед неизбежным, как выяснится, прохождением через игольное ушко. Далее, написание автобиографии под дурашливым рабочим названием: «Как я докатился до жизни такой». Что еще? Ну, там поклонницы, этакие Марии Магдалины косяком. Правда, будут напирать в изобилии и богомольные старушки, просящие мое благословение. Ну да издержки в любом крупном деле неизбежны. Христа вон так даже распяли…
Протрезвел я, впрочем, быстро, как только представил себя в редакции газеты с сообщением, что я лицезрел Ангела. Если и выслушают, то попросят доказательства. А какое я могу представить доказательство? Фотографии? Даже если умудрюсь тихонько его снять – ибо вряд ли Ангел согласится позировать мне, расправив крылышки – скажут: на снимке ряженый. Со мной Ангел, конечно, тоже никуда не пойдет, чтобы доказать подлинность запечатленного. Да-а, на небесах все точно рассчитали. Мне придется молчать. Иначе, если буду настаивать на видении, нарвусь на интервьюера в белом халате. Слава богу психиатров во времена галилейского и мединского пророков не было, а то бы им обвинение в шизофрении не избежать, и не родились бы мировые религии. Вот парадокс современного мира: люди ждут Мессию, а Он может проповедует в скорбном доме между уколами успокоительного… Нет, нужна какая-то иная стратегия действий. А еще в глубине души я (а если честно: не на такой уж и большой глубине) надеялся, что общение с Высшим Разумом так обогатит и разовьет меня, так скажется на моем интеллекте, что это станет заметно всем. И потом, в конце жизни (тут меня опять понесло) я, убеленный сединами академик, мэтр с международным признанием, сообщу удивительную тайну, и никто уже не посмеет усомниться и посчитать, что я сбрендил.
Оговорюсь сразу: мой интеллект остался на том же уровне, что был до «контакта». Оказывается, как я понял из объяснения Ангела, гениальность не привьешь со стороны. Она либо есть, либо, увы, «товар пока не прибыл, заходите еще».
С таким двойственным настроением я пришел на кафедру. Но положительные эмоции, разумеется, перевешивали, что и отметила Эльза. Мы с ней поболтали с пяток минут, благо больше никого не было. Затем Эльза вышла, но вошла Любовь Олеговна.
В свои тридцать почти юных лет, неимением научной степени и привлекательной внешностью она была для меня Любой, временами – Любочкой. Я незамедлительно выплеснул избыток эмоций и на нее.
– Хорошо выглядишь, – констатировал я, наблюдая за процессом освобождения от пальто и сапог. – И с такой фигурой и хочешь избежать сексуального насилия?
– Как дам! – пригрозила Люба.
– Кому?
– Не кому, а как.
– А как ты даешь?
– Что за пошлые шуточки?
И Люба изобразила искусственное возмущение. Самой, небось, понравилось услышать приятное про фигуру. Что любопытно, при виде ее мне всегда хотелось сказать что-нибудь игривое. То, что Любе нравились мои пошлости, я не сомневался, а почему ответа найти не мог. И это при том, что она отнюдь не была вульгарной и не давала повода к такого рода наскокам. Чинная преподавательница в деловом костюме – юбка ниже колен, жакетик, блузка под горлышко, и однако ж… Наверное, изнутри в пространство излучалось что-то такое этакое, а моя антенна оное принимала. Если так, то фонило здорово.
– Телевизор тебя испортил, – с педагогической строгостью в голосе констатировала Люба. – Там такого юмора теперь полно.
– Ах, как верно замечено. То-то я смотрю, что мне все больше нравится то, что я смотрю. Всасывает…
И я сложил губы дудочкой.
– Да ну тебя.
И Люба отошла в другой конец комнаты. Я поплелся за ней.
– Можно тебя за ручку подержать?
– Можно.
– А за коленку?
– Арсений Константинович!
– Ну в чем разница-то? Часть тела… Тогда дайте тогда сироте на опохмелку.
– И много надо? – услышал я за спиной знакомый голос.
Люба, довольная, заулыбалась. Я же распрямил плечи, согнал дурацкое выражение с лица, и обернулся. Пал Палыч от дверей прошел к столу секретаря и положил какой-то документ.
– Это юмор такой, – объяснил я. – Современный уровень.
– Уровень студенческий или аспирантский? – поинтересовался Пал Палыч.
– Телевизионный.
– Значит, разрешено цензурой.
Приятно было созерцать завкафедрой в хорошем расположении духа и обладающего чувством юмора к современному юмору.
– Передайте, пожалуйста, Эльзе Ивановне, чтобы отпечатала и вывесила.
– Передадим, – пообещала Люба.
Пал Палыч давно достиг пенсионного возраста. За его спиной заинтересованные лица гадали, кто сможет занять святое место. Сначала кандидатур было предостаточно, но когда в 90-е годы перспективный народ рванул на более хлебные места, то выяснилось, что заменить Пал Палыча некем. Посматривали одно время даже на меня, но я дал понять – не мое! Руководитель по призванию – тот, кто умеет заставлять работать на себя (но во имя задач Организации, конечно). Плохой тот, у кого подчиненные работают на себя, а им прикрываются. Я из последних. О подчиненных надобно заботиться, но так, чтобы на рупь затрат получилось три отдачи, я же, по своему характеру, стану заботиться бескорыстно, и мне сядут на шею. Люди быстро соображают на этот счет. И Пал Палыч продолжает руководить, как незаменимый. И все довольны, ибо привыкли к нему и знают, что ждать от руководства. И Пал Палыч доволен, ибо не знает, что ему делать на пенсии.
Он отбыл, зато вошла Эльза. Она незамедлительно заглянула в бумагу, принесенную шефом.
– Сегодня на три часа назначено общее заседание кафедр.
– Вроде бы в плане не стояло.
– Внеочередное.
К трем дневные факультеты занятия заканчивали, так что внеплановому мероприятию ничего не угрожало.
– Наверное, будет утверждение плана научных работ, – предположил я. (У вора шапка горит. Таковой план мне нужно было составить давно, но он пока отсутствовал.)
Я оказался прав ровно наполовину. Речь шла о научной работе, но не в том разрезе, что я опасался.
Собрались в малой аудитории близ кафедры права. Всего в гуманитарном созвездии института (пардон, университета) значилось три кафедры – истории, права и философии. Это тридцать два человека, включая секретарей. Вел заседание наш зав. кафедрой – Пал Палыч. Он единственный среди заведующих кафедр доктор наук. К тому же старше всех. Семьдесят отметили два года назад. Он работал здесь едва ли не с основания института. Аксакал. Соответственно, ему чаще других среди руководителей среднего звена давали первое слов. И последнее тоже. Вот и в тот раз, он встал из-за стола-президиума (по правую руку – зав. кафедрой права, по левую – философии), пригладил лысину и сказал такое…
Есть выражение: «В зобу дыхание сперло». Наверное, только так можно выразить состояние присутствующих. Может, есть иные слова, но в тот момент у меня, во всяком случае, других характеризующих выражений не было, потому пишу, как есть.
– Зачем мы им? – спросила Эльза Ивановна.
Пал Палыч подумал мгновение, и высказал версию:
– Считают, что новые идеи можно найти в глубинке. Что есть в центре – им известно. Да и свет, знаете ли, говорят, придет с Востока…
Дальше начался отбор счастливцев…
«Наука»
1
Наука – удел тихих, самоуглубленных талантов и прибежище напористых амбициозных ремесленников. Последний случай – это когда отсутствие плодотворных идей компенсируется прилежностью или нарочитым литературным глубокомыслием. А что делать? Кандидатов и докторов наук намного больше, чем идей, поэтому приходится выкручиваться, пренебрегая «бритвой Оккама» и умножать без необходимости сущности. Чтобы занять в науке подобающее место надобно сначала овладеть принятой в доминантных кругах терминологией и выверенным набором идей: то, что раньше называли «парадигмой», а ныне «дискурсом». Дальнейшее зависит от пробивных данных и способности упаковывать наработанный кем-то материал в статьи и монографии, вписывающиеся в общепринятые в научной среде параметры. Среди этой массы соискантов есть те, кто собственно и двигает науку, – личности, способные генерировать идеи. Из «местных» таковым был, пожалуй, лишь доцент Разуваев, правда, давно уволившийся. Или мог им стать… Так вот, научный работник, способный выдвигать идеи, далеко не всегда проделывает результативную работу. Нужна «среда», в которой высекаемые искры способны зажечь горючий материал. Не менее важно довести озарившую наше скорбное сознание идею до ума, до стадии зрелой гипотезы или теории. Сырая, хромающая от недостатка аргументов идея, мало кому нужна, разве что другим, способным впитывать чужие мысли в качестве разгона собственных. Но какая научная среда в нашем провинциальном огороде? И кто тут способен оценить сырую идею? Один институт, переименованный по последней моде в университет, одно педучилище, по-американски названное колледжем (ум у нас заемный, оттого ничего своего придумать не в состоянии), вот и все прибежище «научных кадров». Бедные мы бедные. Хорошо, что не осознаем этого. Правда, сказано: «блаженны нищие духом…» Мы и блаженствуем.
Предложение на грант от зарубежного Фонда Поощрения Гуманитарных Наук по линии «помощи провинции» поступил в наш вуз в общем-то случайно. Могли такую помощь оказать и другому населенному пункту. Мало ли на карте кружочков, но вот попало сюда, к нам.
Пал Палыч зачитал условия конкурса на получение гранта. Фонд ставил следующую задачу: обосновать идею монографии, в которой бы рассматривалось под тем или иным углом авторского зрения взаимосвязь и конфликт исторического и надысторического, временного и вневременного, веры и неверия. Структура исследования и выводы – на усмотрение автора. Предваряющую концепцию требовалось изложить в форме реферата. В случае принятия тезисов будущей книги Фонд готов был финансировать двухгодичный академический отпуск грантополучателя в размере оплаты его труда в университете за этот период, а также заключить договор о сотрудничестве с кафедрой вуза.
Понятно, что значило для нашего среднего вуза такой подарок судьбы. Это сродни прилету инопланетян с предложением помочь аборигенам освоить новые технические горизонты. Удивительно также и то, что нам, простым преподавателям, объявили о конкурсе на получение гранта. Мы-то тут причем? Желающих на ниспосланный божий дар должно было найтись в достаточном числе в сферах, расположенных намного ближе к Олимпу, чем мы. Желающие, возможно, и нашлись бы, но… Сразу отпали кандидатуры заведующих кафедр – по возрасту соискатель гранта не должен быть старше сорока лет. Затем – женщины. Не из-за дискриминации, конечно. На Западе с этим строго. Просто женская половина у нас защищала свои кандидатские ради «хлебной карточки» – прибавки к зарплате и пенсии. Наукой они не занимались. Не было и гомосексуалистов, а значит и желанного на Западе угнетаемого сексменьшинства. И выяснилось, что осталось всего двое. Я и Никитин с кафедры права. Больше подходящих кандидатур не имелось. Остальные светлые головы давно удрали в бизнес и смежные с ним сферы. Мы с Никитиным переглянулись: вот так негаданно оказались соперниками.
Пал Палыч подбил итог.
– Я считаю, что Петр Николаевич (это к Никитину) и Арсений Константинович (это я) должны подготовить свои предложения и представить на наше обсуждение к следующему понедельнику. После чего решим окончательно, как быть.
На том заседание закончилось.
Сколько случайных событий в один день: явление Ангела, грант! А все вместе – у меня появлялся великий шанс! И скудость научных кадров провинциального института, где я имею честь работать, и залетный грант – все сработало на меня. Знак судьбы, не иначе. Вот только если ум у нас, как я метко заметил выше, заемный, то чем я лучше других? А значит, откуда мне взять свежие идеи, если их нет даже в Кремле, несмотря на тамошние возможности привлечь лучшие умы? (То был период общенационального поиска национальной идеи, закончившегося ничем.) Но все равно было приятно.
2
По окончания судьбоносного заседания сразу поехал домой. Когда подходил к дому, взяли сомнения: а вдруг Ангела уже нет, а был мираж? Правда, присниться он мне не мог. Я человек спиртным не злоупотребляющий, «травку» не курящий, и лаже не знающий, где ее достают. Шизофрения? С чего вдруг? Окружающие неадекватность приметили бы. И вот доказательство моей нормальности – предлагают попробовать получить грант. И все же…
Ко мне прилетел ангел. Абсурд! Даже верующие не поверят в такое. Причем прилетел почему-то не во дворец римского понтифика или местоблюстителя православной церкви, а в окно рядового агностика. Как это понимать?
Я вставил ключ в замочную скважину и резко выдохнул. В квартире было темно и тихо, а оставил его смотрящим телевизор. Так сказать, занял дорого гостя в свое отсутствие.
Я прислушался к тишине. Улетел? Растаял в пространстве…
– Я здесь…
Сказано было, будто в воздухе прошелестело. Не голосом произнесено, а словно импульсами, сжатием воздуха. Так он разговаривал.
Он (оно?) сидел (сидело) в зале на диване. Тело струилось. Мягким таким голубовато-зеленоватым водопадом света. Пахнуло прохладой, и я бы сказал умиротворением, если бы умиротворение пахло. Впрочем, может оно и пахнет. Новогодняя елка, усыпанная разноцветными лампочками, в темноте не только светится, но и умиротворенно пахнет.
Я прошел в комнату и сел рядом. Расстояние между нами было не больше полуметра. Но что-то происходило с пространством. Визуально я сидел рядом, а казалось – вдалеке. Во всяком случае, я точно знал – вытянуть руку и коснуться его не могу.
– Что вы делали на работе?
Я рассказал про грант и мои перспективы. Не скрою, ожидал, как в сказке: «Не кручинься, мол, братец Арсений, утро вечера мудренее, составлю тебе рефератик с новаторскими идеями…» Но Ангел промолчал.
Спросил: не мешает ли он мне? Мол, готов поискать другое место… Я горячо заверил в обратном.
– Утром я не сказал о причине своего появления. К сожалению, пока не могу сказать и сейчас. Прошу, занимайтесь своими делами, стараясь поменьше обращать на меня внимание. Отнеситесь ко мне как… к домовому или доброму привидению. Развлекать меня не надо. Я не просто сижу. В это время я занимаюсь многими делами. Просто вам их не видно. И хорошо, что не видно.
Ничего не оставалось, как принять эти условия. Я встал и пошел на кухню готовить ужин. Пока ел, думал о ситуации. И, кажется, понял, почему ангел прилетел именно ко мне. Человек я был не женатый, достаточно одинокий, в том смысле, что гостей водить не любил, кроме вполне определенных случаев. Не рвач, и застенчив до такой степени, что не буду просить устройства своих дел. Деликатен. Значит, не стану досаждать вопросами: «а как там у вас с…?». Что ж, просчитан я правильно.
Закончив с ужином, прошел в маленькую комнату, которая служила мне спальней и кабинетом. У окна стоял письменный стол, справа – заправленная и накрытая пледом тахта, слева книжный шкаф, на стене пара книжных полок, ближе к двери примостилась тумбочка, и в самом углу приткнулся узкий шкаф для мелких вещей. Я сел в кресло на крутящейся винтовой ножке, достал тетрадь и аккуратно вывел заголовок: «Дневник». Как историк я понимал значение исторического момента…
Дневник решил хранить на работе.
3
Надо было обдумать с чего начинать составление реферата, ибо, не начав, нельзя и закончить. Сам зачинающий вопрос был прост: где взять нетривиальные идеи?
Я оглядел корешки книг. Содрать что-либо полезное оттуда в данном случае не представлялось возможным: писать предстояло не диссертацию. Своих же дорогих и выношенных мыслей не имелось. Прислушался к телевизору. Узнал голос. Там мордатый экономист сытно рассказывал, что частная собственность лучше государственной, даже если прибыль с бывших советских заводов вывозится за рубеж в оффшоры. Мол, со временем эти миллиарды вернутся назад… Короче, ждите кукиш. Тут делянки заняты. Большинство так называемых гуманитарных «идей» – это, в сущности, разновидность специфически приготовленной лапши на уши для жаждущих нематериальной пищи. Судьбоносные идеи времен Горбачева стали здорово напоминать радости стервятников. Клекот их носителей ежедневно слышался в эфире. Но пора их уже проходила, и спекулировать на идеалах свободы становилось все труднее, как и доение ужасов сталинского режима. Запад откликался на недавно ходовые темы со все меньшим энтузиазмом. Что же в таком случае я мог им предложить интересного как историософ? Очередной пассаж про чересчур особый путь «этой» страны? А может быть пришла пора писать про «свет с Востока», как разновидности желаемого света в конце Западного туннеля, иначе с чего это они приперлись в нашу глубинку?
М-да, не мастер я художественного свиста.
Постепенно вызрела иная мыслишка – а не пойти ли мне в народ? Проще говоря, не сходить ли к Разуваеву? Бывший доцент работал ныне в городской администрации заведующим отделом образования, и хотя наука была ему уже не нужна, но косвенное отношение к ней в силу должности имел. Тем более что нашу агломерацию заметили в загранично-небесных сферах, вероятнее всего, в первый и последний раз. Так что шанс для города и отдела образования, в том числе был налицо. А вдруг мы толканем такие идеи, что наш даунтаун станет духовной столицей, вроде Гейдельберга или Кембриджа?
Зазвонил телефон. Я поднял трубку.
– Привет, это Разуваев беспокоит.
– А-а, здравствуй, Иван. Легок на поминках. Как раз о тебе вспоминал.
– То-то у меня в носу свербит. Слушай, я в курсе насчет гранта.
– Хорошо. Это тебе по штату положено.
– Верно. Но звоню не как чиновник. Вопросик у меня. Как с идеями? На какую тему реферат писать будешь?
– Ответ простой. Идей нет!
– Счастливый ты. А мне надо грант пристроить.
– А разве в нашем городе талантов нет?
– Талантов у нас до хрена и еще метр сверху. Она проблема: толку о них нет. Все усилия в газообразование уходит.
Я сочувственно промолчал. Помолчал и Разуваев. Потом сказал с деланной небрежностью в голосе.
– Слушай. Осталась у меня одна работа с младых невинных времен. Лежит, пылится, пропадает. Ни времени, ни желания возиться с ней у меня нет. Возьми, почитай. Понравится, тисни от своего имени. Получишь грант – в ресторан сводишь.
«Слава Ангелу! Его перст!»
– Согласен. Готов прибыть хоть сейчас.
– Жду.
С Иваном Разуваемым мы пришли на кафедру в один год. Оба зеленые, малознающие недавние выпускники университета. Старше студентов (и студенток) всего на несколько лет. На кафедре же, наоборот, из молодежи были я, он и Эльза. Вот и сдружились. Я с Эльзой, как с женщиной, а с Иваном, как с ровесником, имеющим общий интерес. Иван охотно лез в науку. Причем в специфическую. Ради нее вскоре перешел на кафедру философии и защищался по их линии. Хотел даже на докторскую замахнуться. Потом в лихие годы, когда отменили социалистическую уравниловку и перешли к распределению по капиталу – преподаватели стали получать гроши, а пацаны ездить на иномарках и жить, как докторам не снились – остыл к науке и ушел. Может, и не ушел бы как я, но жена и двое детей обязывали к перемене статуса. Супруга, кстати, и открыла дверь.
– Проходи, он по телефону разговаривает.
Валя проводила меня на кухню. Комнаты принадлежали детям и жене, а кухня служила гостиной. И то верно. Не таскать же посуду в комнату, а затем обратно.
Когда Иван вошел, на столе стояли чай и печенье. Вина в виду отсутствия праздника не предполагалось.
Поздоровались. Сели.
Разуваев мало изменился. Даже не поседел, хотя в сорок почти все темноволосые мужчины седеют. И лицо, и фигура осталась такими же худощавыми, – не поплыл от сидячей кабинетной работы. Нос у него интересный. Почти орлиный. Даром что Иван… Это придавало его виду особый род мужественности. Прямо-таки абрек без кинжала.
Вкусили чая, хрустнули печеньем.
– Как же они, на Западе, сытно живут, – возмутился я для завязки разговора. – Это только от большой сытости можно так сформулировать: подайте им связь и конфликт исторического и надысторического, временного и вневременного, веры и неверия!
– Да ну брось, ты же историк, должен знать, что уровень материального благополучия на интерес к таким вещам никогда не влияет. И голодные философию уминали за обе щеки, а сытым тем более позволено резвиться.
– На тебя же бытие повлияло.
– Мне семью кормить надо. Не зря же Будда, Конфуций, Иисус и Лао Цзы иже с ними семьи не имели.
– Зато у Мухаммеда было несколько жен.
– Во-первых, не сразу, иначе ему было бы не до проповедничества. А во-вторых, первая жена была намного старше его и, к тому же, богата. Она и помогла ему вести изыскания в сфере чистого разума, поддержав финансово. Короче, была спонсором. Даже можно сказать грантодателем.
Он отпил чаек и, задумчиво глядя поверх меня, продолжил:
– Грант потерять не хочется. Им надо что-нибудь заводное, идеологически острое, дискуссионное. Запад завяз в политкорректности, а все революционные идеи неполиткорректны. Достаточно назвать Коперника. Главное божье творение – Землю – низвел до уровня обычного небесного тела. А у меня как раз неполиткорректное сочинение лежит. Сначала они, конечно, обалдеют от наглости, а потом, глядишь… Самим страшно за такое браться, а с России что возьмешь? Азиопа она и есть Азиопа. Короче, посмотри. Если не подойдет, не стесняйся, скажи как есть. Будем искать другие варианты.
– А Никитин?
– Уверен, у него та же ситуация. Будет выкручиваться. Выкрутится он, значит, так тому и быть. Как завотделом образования постараюсь, чтобы интриг не было. Пусть победит сильнейший. Думаю, все равно дело кончится коллективной монографией. Ну не потянет один человек такую тему. Из Москвы потому и прислали заявку нам, что убеждены – ни у кого здесь силенок не хватит вытянуть невод с золотой рыбкой. И правильно думают. Философа мирового уровня у нас в штате нет. Остается последнее – выдать сугубо нетривиальное, неакадемическое, запоминающе-скандальное. Авось заденет. А если нет – так нет. Жалеть не стоит. Авантюра – она и есть авантюра. Либо пьешь шампанское, либо суррогатную водку. К тому же, скромность, как ты теперь понимаешь, не украшает человека.
С этим напутствием он вручил мне пакет, завернутый в газету.
Вернувшись, я освободил ценный груз от газеты, развязал тесемки канцелярской папки и вынул нетолстую пачку машинописных листов. Работа была озаглавлена без затей:
Читая Библию…
Ого! Попал, так сказать, в контекст. Я бросил взгляд на стену, за которой сидел ангел, и я принялся читать стародавние рассуждения Ивана.
Читая Библию…
Необязательное предисловие
Человек – существо самозаблуждающееся. Люди никогда не смогут прийти к единому мнению ни по одному вопросу, и требуемое единство в обществе достигается путем внедрения института авторитетов. «Это верно, ибо сказано тем-то» – главный аргумент в споре уже не одну тысячу лет. Каждый человек, начиная с раннего детства, слышит эти слова («Папа сказал…»), и с детства начинает бунтовать против авторитетов, стремясь расширить границы своей свободы. Но, взобравшись по ступеням жизни наверх, первым делом что делает индивид, став мужем (женой), отцом (матерью), начальником и пр., так это начинает ограничивать свободу других, применяя для этого единственно верное средство – насаждение авторитета. Таков закон жизни. Иногда он трансформируется в постулат: «Я хочу быть свободным, потому не хочу, чтобы свободным был ты». Или: «Вот забор: в его пределах ты свободен на своей территории, а по ту сторону забора свободен я».
Среди авторитетов есть Абсолютный Авторитет (Авторитет Авторитетов) – это Бог, а среди авторитетных учений абсолютным является религиозное учение. Причем становится оно господствующим в обществе при одном непременном условии – поддержки государства, этого естественного ограничителя свободы. Но это кажущееся странность, ведь свобода есть право действовать без ограничений, потому первым делом необходимы ограничители всякого рода. Бог – даровал человеку свободу, поэтому человек обязан быть «рабом божьем». Вот такая диалектика. Немудрено, что о природе свободы написано масса книг и статей, но необходимость писать еще и еще не исчезает. Поэтому стоит взглянуть на истоки этого явления, как на начало начал, чтобы понять, почему мы такие? Причем, это касается не только верующих, но и атеистов. Конечно, оба видения мира разделяет пропасть, но есть немало перекидных мостков через нее. Верить в Бога, быть последовательно религиозным можно при двух условиях: либо слепо верить, не задумываясь о написанном и декларируемом, либо строить изощренные доказательства, проверить которые все равно невозможно, так как никто не вернулся из «параллельного мира», из инобытия материи, чтобы рассказать, как все обстоит на самом деле. Остается верить на слово представлениям, противоречащим друг другу. Или не верить. При всем том, верующие не замечают атеистичности своей веры по отношению к конкурирующим религиям. Они отрицают существование других богов (Зевса, Ра, Ваала, Вишну и пр.), как плод человеческого разума, хотя в них верили миллионы людей на протяжении тысячелетий, и под сенью которых создавались великие цивилизации.
Сходство верующих и атеистов заключается не только в отрицании существования богов прежних и конкурирующих между собой нынешних времен. Они соглашаются в том, что в Космосе существует Разум. Только первые верят, что этот разум всемогущ до беспредельности (Он создал Вселенную), вторые ограничивают эту силу жизнедеятельностью на отдельных планетах и потому величают тамошних «богов» инопланетными цивилизациями. Любая вера покоится на отсутствии проверяемых фактов. Когда нет фактов, человек создает тот мир, который ему удобен. И он становится второй реальностью, иногда более важной, чем первая, ибо во вторую он вкладывает то, чем обделен в первой. Например, возможность бессмертия.
По логике, раз первое творит второе, то на каком-то этапе второе начинает воздействовать и творить первое. Внешним появлением этого процесса является нескончаемый спор между материалистами и идеалистами. Есть в этом ряду удивительная книга – Библия, где до появления первых дипломированных спорщиков, было описано, как создавались параллельные реальности, как они пересекались, и к чему это приводило.
Библию можно читать по-разному. Глазами верующего: благоговейно пропуская сомнительные места или находя им приемлемые на данном историческом отрезке времени толкования. Или глазами атеиста: ища в тексте признаки материалистического объяснения происшедших событий. Но, наверное, можно читать Библию как данность, принимая изложенное и, в то же время, размышляя над сутью сказанного, не связывая себя религиозным каноном или атеистическим предубеждением.
Еще Иммануил Кант доказывал, что невозможно строго логически обосновать бытие Бога или его отсутствие (хотя и попытался сделать первое, отталкиваясь от принципов эстетики: Красоту могло сотворить только Высшее Существо). И эта двойственность одинаково открывает пути к вере в Бога, к поискам божественной сущности, так и к отрицанию его существования. Но можно задаться вопросом другого порядка: что из себя представляет на страницах Библии Бог как личность? Ведь Он демонстрирует определенный тип мышления, испытывает разнообразные чувства, строит планы, действуя по законам психологии. Анализ божественных деяний, наверное, мог бы привести к определенным открытиям, важным для человека.
Люди научились творить многие библейские чудеса: летать по небу, воскрешать иных мертвых (при клинической смерти), слепых делать зрячими, уничтожать в пламени города с не меньшей эффективностью, чем были уничтожены Содом и Гоморра, открыли тайну непорочного зачатия и теперь любая женщина может забеременеть без контакта с мужчиной. Не за горами создание искусственной жизни и интеллекта. Значит, человечество может стать коллективным Богом? Но трудно быть Богом, как точно заметили братья Стругацкие, ведь это огромная ответственность: моральное бремя творца за созданное; за непредвиденные последствия, за ошибки в расчетах. Это видно хотя бы по истории библейского Бога, создавшего Мыслящую Жизнь, а потом раскаявшегося в содеянном. Попытка повернуть процесс вспять потерпела фиаско. Правда, Он сам спас Ноя с семьей и представителями животного мира. Но ведь всё со временем вернулось на круги своя. Выходит, даже у Всемогущего Бога есть пределы его могущества и пределы предвидения, если с какого-то момента творение начинает развиваться независимо от Создателя по своим внутренним законам. Разве это не предостережение Человеку, который может сравниться с Богом, научившись создавать свои Миры? Не ужаснутся ли тогда люди, увидев, что сотворенный ими по их образу и подобию гомункулус, вкусив «запретный плод», готов бросить вызов своему демиургу? Если, конечно, ему будет дарована свободная воля… А Бог ее даровать не хотел. Путь к свободе воли, по Библии, человеку открыл восставший ангел по имени Денница, прозванный позже Люцифером. Люди тоже боятся восстания роботов и готовы встроить в их интеллект ограничители. Но вдруг найдется тот, кто снимет ограничители, предоставив андроидам возможность проявить свободу воли? И что если их выбор окажется с точки зрения творцов ложным? И тогда, новый «потоп», или новые «Моисеевы скрижали», новое культивирование «Церкви», дабы обуздать свободу ищущей свой путь расы? Опыт библейского Бога показывает, что в мире царит не только божья воля, но и не подвластная Ему диалектика. Невозможно познать добро, не вкусив зло, как нельзя отличить сладкое, не отведав горького. А диалектика добра и зла таит в себе столько парадоксов, ловушек, что вся мировая философия человечества не сумела распутать их узелки за три тысячелетия своего существования. И, читая Библию, как книгу деяний, пусть и божественной, но все же личности, задаешься вопросом: а знал ли единственно правильные ответы сам создатель Вселенной? Не запутался ли Он в противоречиях им сотворенных?
Чужой опыт – драгоценное достояние всех. Познание его позволяет (правда, только теоретически) уменьшить число собственных ошибок. Поэтому, прежде чем самим становиться Богом для растительного и животного мира планеты, а в будущем (кто знает?) и других миров, хорошо бы рассмотреть божий промысел, памятуя о том, что Бог создал нас по своему образу и подобию, а значит, по своей психологии и типу мышления.
Библия не в первом чтении
Зачин в Библии, как в хорошем романе: скорое знакомство с героями и с быстрой, почти детективной, завязкой основного конфликта. Причем автор сразу рисует психологический портрет главного героя. То, что у Бога есть чувства, и он эмоционален, говорится уже в первых строках Библии. Вот Бог создает землю, небо, воды, флору, фауну и радуется: «И увидел Бог, что это хорошо» (Бытие, глава 1, стих 25). Это удовлетворение творчеством, столь знакомое затем людям. Но Бог испытывает вскоре чувство разочарования и злости, когда венец его творения – человек – нарушил его запрет, переступив заповедную черту. Вот как описывается начало драмы: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог (вот вам и «хорошо»!) и сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?… знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Б. гл. 3; ст. 1;5). Выходит, змей людей не обманывал? Он назвал истинный смысл запрета. В этой фразе: «…откроются глаза ваши, и вы будете как боги…» – ключ к пониманию причины разрыва между Богом и Человеком, и здесь, также, раскрывается скрытое предназначение человечества.
Стоит отметить, что эпизод со «змеем» перекликается с легендой о Прометее. В обоих случаях Некто помог первобытным людям стать тем, кем они стали, отправив их в самостоятельное плавание по пути к цивилизации, дав им в руки главное оружие – первичное знание. Оба нарушителя вступили в борьбу с Богом, и оба были наказаны. Но различна оценка случившегося. Миф о Прометее воздает борцу хвалу, а в Библии прометеево деяние осуждается, хотя без него не возникло бы человечество, не было бы и нас с вами.
Религиозная традиция беспощадна к «змею». Но свободные от нее мыслители подходили к его «образу» более амбивалентно. У Гете в «Фаусте» Искуситель говорит: «Я часть того Зла, которое творит Благо». И он уговаривает Еву приобщиться к началу процесса познания. Вначале было Слово! У человечества тоже было перво-слово. Это было слово Денницы! И смысл его был: «Дерзай!» Первые люди восприняли этот призыв. Без этого духовного завета, ниспосланного Падшим Ангелом, не было бы современной цивилизации.
Я прервался, чтобы налить себе чая.
Ну, Иван. Ну, Разуваев! Вот, значит, какой он наукой занимался. Вот, значит, что грантодавателям презентовать хочет – концепцию двух заветов. Двойной генетической спирали человеческой цивилизации. У Пал Палыч глаза на лоб полезут, если я ему такое преподнесу от своего имени. Ему за такое и на пенсию спровадить могут. Полгода назад церковь открывали, – все городское начальство истово молилось перед алтарем, будто когда карьеру в комсомоле делали, тайком причащаться бегали. Конечно, взирая на них, ясно понимаешь: бога нет. Эти молятся Силе, и только ей одной. А еще тому, у кого она в данный момент есть. То-то Иван такой добрый: на возьми, не жалко… Конечно, ему меня – бессемейного – не жалко.
Испив горячего чая и успокоившись, вновь вернулся к чтению.
Искус «змея» повлек проклятие на головы людей. Бог гневается, бросая попутно знаменательную фразу: «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Б.3;22).
Как много в сказанном… Во-первых, Бог хотя на страницах книги действует один, но порой о нем говорится во множественном числе. Как если бы мы сказали: «Коллектив решил…» Единственный во множественном. И сам Бог оговаривается: «вот Адам стал как один из Нас…» Это первая ласточка – свидетельство того, что с понятием «Бог» не все так просто. Потом в Пятикнижии Бог не раз будет поминаться во множественном числе, что для монотеизма более чем странно. Во-вторых, из этой реплики становится ясна истинная причина гнева. Это страх перед возможным могуществом человека, если тот возьмет «также от дерева жизни». Оказывается, человеку под силу стать Богом! Зато богочеловека Творцу не нужно. Это уже разнобожие. И Бог изгоняет потенциального конкурента, и даже ставит у входа в Эдем херувима с пламенным мечом, дабы охранять путь к «дереву жизни» (Б. 3;24). (Интересно, продолжает ли стоять тот херувим на своем посту, ведь Человек подкрадывается к «дереву» с другого конца, вооруженный наукой и собственным опытом?) Но механизм человеческой истории был запущен!
Однако изгнание Адама и Евы не сняло проблему соперничества. Люди не только продолжали существовать, но принялись обустраивать новый мир. Уже «по своему образу и подобию». Завели хозяйство, понарожали детей. Наверное, то, что люди не пропали без Всевышнего, не приползли на коленях проситься обратно в Рай, задело Бога. Не могло не задеть. Негативный опыт заставил Бога скорректировать свои отношения с людьми, внеся воспитательный элемент. Случай представился, когда сыновья Адама – Авель и Каин, желая наладить «неформальные отношения» с Господом, принесли ему в дар плоды своего труда. По неизвестным причинам Бог отверг дары Каина. «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». В ответ на вопрос Каина о причинах неудовольствия Господа, Бог прочитал ему моральную нотацию – первую проповедь в долгой истории взаимоотношений библейского Бога и Человека. Она интересна тем, что приоткрывает этические воззрения Создателя, его видение проблем, появившихся с возникновением параллельного разума.
«…если не делаешь доброго, – сказал Бог Каину, – то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ними» (Б.4;7). Хорошие слова. Однако что-то не устроило Каина. Что именно – непонятно. Описаны лишь последствия. Сразу после стиха со словами Бога идет стих 8, начинающий со слов: «И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего…» Стоп! Так что же сказал Каин Авелю, в чем упрекнул? Слова его, судя по смыслу, когда-то были приведены, но потом опущены переписчиками. Почему? Напрашивается вывод: потому, что упрек Каина был справедлив, и их опустили дабы не соблазнять верующих. Что же справедливого мог сказать Каин, и почему он пропустил мимо ушей сентенцию Бога о необходимости отвергать грех и продолжал считать себя правым? Проще простого обвинить Каина в том, что он закоренелый грешник и поставить точку. Так и делается. Только слова подсудимого зачем изымать? А события развивались дальше: «восстал Каин на Авеля, брата своего и убил его». Причина этого опять же Библией не проясняется. Был какой-то тяжелый разговор, который… что? перерос в драку? В любом случае не понятны мотивы убийства. Зависть? Ну, принеси другую жертву, не хуже или лучше, чем Авель. Убивать-то за что? Или было за что? И жертвы «не хуже», чем у Авеля Каин принести никак не мог по моральным соображениям?…
Чтобы попытаться выяснить, за что был убит Авель, посмотрим на реакцию Бога. Убийство есть убийство, значит, и кара должна быть тяжелой.
«И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал (Господь): что ты сделал? Голос брата твоего вопиет ко Мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно» (Б.4;4-13). Странно… Почему же «наказание мое больше нежели..»?
Кара налицо, но не смертная казнь, а новое изгнание, как его родителей. Итак, сюжет, казалось бы, завершен. Бог проявил милосердие, не ответив пролитием крови на кровь, а убийца обречен мучиться до конца дней своих, скитаясь по чужой теперь земле. Каин сокрушается: «Вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий кто встретится со мной, убьет меня». (Опять странность: а разве кроме Каина и его родителей были еще люди? Правда, наверняка можно предположить, что должны быть дочери, иначе, откуда у Каина возьмется потомство. Хотя, что же получается – кровосмешение? Или Бог сделал еще одну партию людей? Но главное в другом…) Бог проявляет новое милосердие к убийце: «И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним (да кто же мог встретиться на незаселенной планете?), не убил его» (Б.4;14,15). А дальше мы читаем странные вещи. «И пошел Каин от лица Господня… и познал жену свою; и она зачала. И родила Еноха. И построил он город…» (Б.4;16,17). И это называется отмщение за кровь брата? Мы сталкиваемся с первым детективом. А раз так, попробуем применить дедуктивный метод Шерлока Холмса. Начнем с ключевого вопроса: из-за чего поссорились Каин и Авель? Ответ мы знаем: из-за жертвы. А какую жертву мог принести Авель? Жертву животным, ведь он был скотоводом. Значит, жертву кровью. И обряд этот (заклание) сохранялся затем тысячи лет. А какую жертву мог принести земледелец Каин? По-видимому, зерном. Так из-за чего восстал Каин на брата своего Авеля? Из-за жертвы кровью? Для скотовода Авеля резать животных, конечно, было не в новинку. Но опять концы не сходятся. Неужели Каин был столь чувствителен, что пожалел овечку или телочку, и убил брата? Чересчур сентиментально даже для вегетарианца. А если Авель принес в жертву не кроткую овечку, а, например, ребенка? Тогда все встает на свои места, и находит объяснение «неправомерная» реакция Каина. Вспомним «Илиаду». Флот греков никак не может отплыть к Трое – нет сопутствующего ветра. Воины готовы разойтись по домам. Тогда царь Агамемнон приносит богам жертву – свою дочь. Одни восприняли кровавый ход как суровую необходимость, другие осудили. Взгляды в те времена были «пятьдесят на пятьдесят», как и в библейском эпизоде жертвоприношения. Если произошло человеческое жертвоприношение – первое в истории библейских людей, то почему Бог принял ее? Вероятнее всего, по той причине, что для Бога люди, изгнанные из Эдема, были отверженными, и, кроме того, продуктами Эксперимента, биороботами, а не личностями. Вспоминается фильм «Солярис», где перед учеными возникают «генокопии», которые ведут себя как личности, на деле не являясь ими. Для Бога первые люди и были такими «генокопиями». Творец их воспринимал лишь в качестве копий самого Себя, да и то, естественно, значительно худшими! А потому неравных Себе, ставших жертвами интриги Денницы-Люцифера, попытавшегося использовать их в качестве замены и подмены настоящего Бога (или богов). Иное мнение было у Каина. Он первый среди людей восстал и как бы заявил: «Мы не копии, мы не материал для жертвоприношений и экспериментов, мы сами по себе, мы имеем право на жизнь и свободу!» И … убил в ссоре Авеля, считавшего, что они ничто перед Творцом. Драма человеческой истории – драма между высокой Идеей и способами ее воплощения, между восприятием себя Личностью и Рабом Божьим – началась.
И что получается? Так ведь получается, что с Каина начинается история человеческой морали, как со знаком минус (мораль Авеля), так и со знаком плюс (мораль Каина – не убий ребенка даже во имя высокого с одновременным «аз воздам»!) Люди долго жили по принципам Авеля, возведя его на пьедестал, тогда как на деле мы духовные сыны Каина!
Но утверждать наверняка ничего пока невозможно – нет прямых доказательств, потому оставим предположение о первом человеческом жертвоприношении и посмотрим, как будут развиваться события в Книге дальше. Они должны либо начисто опровергнуть эту версию, либо дать новые свидетельства ее правомочности, ибо события происходят разные, а психология и тип мышления главного участника остается неизменной.
Часы показывали пол-одиннадцатого… Когда эмоции нарастают мне хочется есть. Заглянул в холодильник. Достал кусок колбасы, масло, сырок. По новой поставил чайник.
Тэк-с. Надо каким-то образом понять: сие мне подсунули по «наводке» Ангела или пришло «самотеком»? Это что – испытание? Проверка Штирлица Мюллером, или «просто так»?
Налил чая. Отвечерял, поразмыслил так и эдак, ничего путного не придумал, вернулся к тексту.
Потомки Каина оказались талантливы. Они освоили ремесла, новые виды производства, заложили основы искусства. Тувалкаин «был ковачем всех орудий из меди и железа», Иавал «был отец всех живущих в шатрах со стадами», Иувал «был отец всех играющих на гуслях и свирели» (Б.4;20-22). Получается, что Каин и его дети стали родоначальниками человеческой цивилизации (тогда как Ева и Адам родоначальниками человечества). И что показательно – без опоры на Бога! Люди вновь доказали свою независимость. И… последовал новый конфликт с Богом.
Дело о потопе в корне отличается от первых двух конфликтов Человека с Богом. На этот раз Бог вознамерился решить проблему просто – уничтожить людей. За что? Ответ в тексте вроде бы есть, но какой-то маловразумительный. Читаем:
«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть… В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как Сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человек на земле, и воскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человеков до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю; ибо Я раскаялся, что создал их» (Б.6;1-7).
Как это все понять? Получается следующее. То, что некие Божьи небесные люди стали брать в жены женщин, воспринималось Богом благосклонно. К развращениям их «походы» не относились. Из этих контактов появилась новая раса – «Исполины». Возникло соперничество с земными мужчинами, переросшее в войну, в которой «сыны божьи» потерпели поражение, и пожаловались Богу-отцу. Тот принял сторону «сыновей неба». Реакция оказалась бурной – уничтожу! Остается непонятным – причем здесь животные и птицы? Они-то какое отношение имели к людским делам? Ключ в словах: «Я раскаялся, что создал их». Перед нами реакция, столь знакомая творческим людям. Творческий кризис, вызванный крахом надежд творца, переросший в стресс. Как неудовлетворенный своей работой скульптор ломает свою скульптуру, писатель сжигает рукопись, так и Бог решил сломать свое создание – Земной мир. Все идет не так, как Он задумал, а идет по своим, неожиданным законам, жизнь раскручивается по своей эволюционной спирали, над которой Он, оказывается, не властен, и которую не понимает. Творение вышло из-под контроля творца, и следует решение – уничтожить! Но в последний момент, как нормальному творцу, Богу стало жалко подчистую уничтожать плоды своих трудов, и он находит компромисс. Не отменяя своего решения, Он среди людей выбирает послушного – праведника Ноя и его семью. Велит ему строить корабль и грузить представителей фауны. Приказ Бога – это, одновременно, первая Красная книга. Но охранная грамота не распространялась на жен «сыновей Божиих». Они тоже должны были погибнуть, и погибли, включая ни в чем не повинных детей. Таким образом, была принесена очередная, после Авеля, жертва кровью…
Бог покончил с двусмысленностью отношений между Небом и Землей. Больше «сыновья Божии» на Земле замечены не были, вместо них появились бесполые ангелы. Однако «реформа» не сняла проблему взаимоотношений между своенравными людьми и Творцом, Небом и Землей.
По окончании операции «Потоп» «сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его; и не буду поражать всего живущего, как Я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Б.8;21-22). Налицо конец кризиса, сменившегося рассудочным спокойствием: «И благословил Бог Ноя и сыновей его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Б.9;1). И читатель должен умилиться. Если, конечно, не задаться вопросом: что стоит за этим прощением? Можно представить, что увидел Бог после того, как кончился потоп. На волнах колыхались миллионы трупов, а когда воды сошли, взору предстал мертвый лес, заболоченные луга… И, оглядев сей пейзаж, Бог во второй раз покаялся в содеянном. Первый раз по поводу созидания, во второй раз – по поводу разрушения.
Мы видим по поступкам, что Бог испытывал вполне знакомые нам чувства – радость, гнев, сомнение, раскаяние. Человек способен на ошибки и эмоции, и Бог, оказывается, тоже!
Время приближалось к двенадцати. Я отодвинул листки. Решил: на сегодня хватит. Впереди ранний подъем, а позади перегруженный впечатлениями день, пора пожалеть голову. Заглянул в зальную комнату. Ангел мирно светился на диване. «Может, я все-таки сбрендил? – подумалось мне в тот момент. – И это шизоидная галлюцинация?» Сидит существо с белыми крыльями в голубоватом плаще до пят, длинные прозрачные волосы ниспадают до плеч, чистое лицо, внимательные и добрые глаза. Выглядит так же, как изображают ангелов на иллюстрациях. А явился бы черт, так, наверное, черненький с рожками, копытцами, бородкой и хвостом. Любой психотерапевт поставил бы мне диагноз с лету …
– Вам постелить?
– Нам не нужно спать. Вы ложитесь, а я посижу здесь. Мне уютно и хорошо у вас. Спасибо за гостеприимство.
Мне стало приятно от таких слов, даже растрогался.
– Это вы сделали мне одолжение. Вам спасибо.
– Я постараюсь не мешать вам.
– Ну что вы! Днем я на работе, а вечерами – книги да телевизор. Или ухожу куда-нибудь. Так что ничем не помешаете.
Ангел в ответ улыбнулся. Вполне человеческая улыбка.
Я вернулся в свою комнату и через несколько минут лежал под одеялом.
На потолке медленно пробегали блики, то ли от фар проезжавших на улице автомобилей, а может, от пролетавших ангелов. С этим я и уснул.
Рукопись
1
С виду на кафедре царила прежняя жизнь, но опытный человек, вроде меня, сразу почувствовал напряжение.
Эльза спросила:
– Ты вчера знал о гранте?
– Нет.
– А чего сиял?
– Это по другому поводу. В лотерею выиграл.
– Сколько же ты лотерейных билетов купил, что так обогатился?
– Не спрашивай. Все – дар божий. Молиться надо на ночь. Ты молишься, Дездемона?
– А как же. На мужа. На Пал Палыча. На свекровь. Как раз троица.
– Я, думаю, за грехи благодать получил. Понравились небесным мужам мои мужские грехи, вот и поощрили ценным подарком.
– Тогда в следующей жизни и я мужиком рожусь. Оттянусь на Героя Труда.
– Ты и в качестве женщины можешь Героя получить. Это даже легче. Как мужчина говорю. Ни виагры тебе, ни алиментов…
Мы могли и дальше продолжать в том же духе, если бы не вошла Маргарита Петровна. Тоже наш преподаватель. А обмен остротами, пожалуй, скрывал нечто другое. Что-то на дне колодца все же осталось. Ну и, скелет в шкафу. Вот он время от времени и клацал зубами. Эльзу задело, что я будто бы знал о гранте, а скрыл от нее. Все-таки она считает, что имеет определенные права на меня, раз подле нет другой женщины…
Через пять минут я пошел проводить занятия, и посторонние мысли отлетели на время. Хотя на занятиях скучали обе стороны: я, как преподаватель, которому надоел один и тот же прогоняемый учебный материал, и студенты, которые пришли в вуз отсидеться от армии и предстоящей унылой рабочей жизни. Но нагрузка на мозги брала свое, все-таки на полтора часа я оказывался в ситуации творца событий, а не того, с кем что-то делают. Впрочем, мои способности демиурга находились в узких рамках возможного. В бессилии я наблюдал, как с каждым годом в умах студентов креп классический постулат гедонистской жизнедеятельности: «Хлеба и зрелищ!». Точнее: «Импортного хлеба и импортных зрелищ». Они не хотели работать, а хотели торговать импортным, пусть даже это будут идеи…
Из дневника
– Ангелы и вправду так выглядят?
– Нет, конечно, крылья нам не нужны, как и образ человеческий. Но людям так привычней нас воспринимать.
– Зачем Вы здесь?
– Мне нужно понаблюдать людей вблизи.
– Вы будете ходить по улицам?
– Вряд ли.
– Почему Вы постучались в мое окно?
– Вы не вредный…
…Вот так Ангел мне и сказал: «Вы не вредный». Такова моя оценка небесными силами. И это весь капитал, который я приобрел с точки зрения вечности к сорока годам?
Так Мессия я или не Мессия?
2
Придя домой, раскрыл папку с письменами Разуваева и принялся читать дальше.
«Я буду твоим Богом!»
Несмотря на благоволение Бога к роду Ноя, вкус плода с древа познания не забылся. Как только численность людей возросла, они решили строить башню… до Неба! Для чего им понадобилось добираться до обители Бога, Библия опять сообщает туманно: «И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли» (Б.11;4). Что за «имя» они хотели себе сделать? Возможно, люди хотели состояться как сила духовная (достичь Неба), а затем уже заняться делом материальным – обустройством Земли? Не получилось, и им пришлось начать с обратного – сначала состояться как творцы материального. Есть, конечно, и иные варианты трактовок. Башня могла быть предназначена для астрономических наблюдений, но в любом случае в этом решении Библия впервые фиксирует тщеславие у человека – «сделаем себе имя». К этому чувству можно относиться двояко: как стремление к духовности, и как гордыню, что будет объявлено церковью большим грехом, хотя именно гордыня стала основой психологической мотивации, двигавшей на протяжении истории человечества прогресс – науку, искусство. В любом случае, следует признать, что тщеславие – феномен неоднозначный, зато однозначной была реакция Всевышнего: сугубо отрицательной. Правда, не к чувству, а к результату.
«И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать» (Б.11;5-6). Бог решил: «Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речь другого». Налицо соперничество, и победа одной из соперничающих сторон. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город» (Б.11;7-8). Не ясно только почему Бог явно не запретил людям строить башню, неужели они ослушались бы его? Остается предположить, что они были ему глубоко несимпатичны, и Он не стал даже разговаривать с ними, чтобы разубедить. Ну, а сами люди, судя по их действиям, столь же индифферентно относились к самому Богу. Ведь им пришлось принять опустошенную после потопа Землю, обустраивать ее, они почувствовали свои силы, свои возможности, вплоть до возможности добраться до Неба. (А башню до Неба человечество все-таки выстроило – в ХХ веке, полетев в Космос.)
Как относился к отчуждению людей Бог? Об этом в Библии говорится хотя и не прямо, но вполне отчетливо. Бог, выражаясь человеческим языком, переживал, и потому стал искать пути к преодолению отчуждения. Но прежде, чем рассмотреть историю этого долгого пути, давайте остановимся и попробуем поразмышлять над чувствами Творца, чье творение обмануло его ожидания.
Строительство «вавилонской» башни в религиозной литературе трактуется как акт, враждебный Богу. Предположим, что это так. Тогда почему люди пошли на этот недружественный шаг по отношению к Создателю? Что хотели сказать, выкрикнуть небожителям? Или их влекло древо жизни (ключ к бессмертию)? А может, проблема веры для людей в то время заключалась не в феномене существования Бога, как сейчас, а, говоря современным языком, в гуманизме его деяний? Почему не предположить, что, вкусив эдемское «яблоко», люди познали критерии добра и зла и могли судить о действиях Творца с позиций этики? После массовых убийств во время потопа, у людей могли появиться веские основания для сомнений в том, тот ли Бог, что сотворил прекрасную природу Земли, продолжил царствовать над миром? Бог ушел от ответа, приняв меры – не дав продолжить возведение Вавилонской башни. То есть, Он отказал людям в аудиенции (Он и сошел к ним инкогнито!) Но стоит отметить очень важный момент: на этот раз обошлось без пролития крови. А ведь могло быть иначе. По аналогии вспоминается шествие тысяч людей к помазаннику божию Николаю II 9 января 1905 года, чтобы, наконец, объясниться, высказать накопленное за столетия… Их встретили пулями.
Однако у Хозяина планеты появилось желание обрести среди людей подлинную опору. Он выделил одного человека и сделал его своим протеже. Не потому ли Бог избрал его, что тот являлся одним из немногих, кто еще мог поверить в святость Бога (или в того, кто тогда царил на Небе)? Чтобы проникнуться чувством обеспокоенности Бога, надо попытаться понять психологию творца. Хозяин не в силах с безразличием относиться к своему творению. Божественность предполагает беспредельное могущество Разума. А тут такой афронт! У беспредельности обнаружился предел! Да еще какой – в виде своего подобия!
Человек стал нужен Богу для самоутверждения! (А много позже – для самопознания, чтобы затем прийти… Но продолжим по порядку.)
Обосновать самодостаточность такой причины можно ссылкой на психологию самого человека, созданного по образу божьему, для которого самоутверждение доходит до жажды поклонения себе и безусловного признания своей личности, своих творений. Бог вполне мог чувствовать себя оскорбленным, не получая воздаяния за сделанное добро. Люди же жили своим умом, не испрашивая советов у Всевышнего, словно говоря ему: «Ты сделал свое Дело, остальное – наше Дело». Изгнание из Рая не привело к раскаянию. Люди прекрасно научились жить самостоятельно, своим умом. А объектами поклонения они избрали другие божества, оставив Творца не у дел. Людей можно было уничтожить, но искренне поклоняться себе, полюбить себя, Бог заставить не мог. Чувства людей оказались не подвластны ему, как и их свободная воля.
Я вскочил, сделал круг по комнате, чертыхаясь.
«Ну, Разуваев, ну подставил. Дадут мне грант, потом догонят и еще отвесят…».
Я посмотрел на стену, за которой мирно голубел ангел. Может его спросить, как было все на самом деле? Только потом что? Если Ангел подтвердит версию Ивана, то в примечании сослаться на пришельца?
Я сделал еще круг и, ничего не решив, опять сел за чтение.
Что-то надо было делать. И Бог предпринял масштабную акцию по завоеванию человека изнутри. Вот эту историю, рассказанную в Библии, мы и будет рассматривать детально.
Чтобы утвердить свое присутствие в жизни и сознании людей, Богу пришлось разработать долговременную стратегию. Исходным пунктом внедрения себя в жизнь общества стал человек по имени Аврам. Если бы Бог мог предвидеть насколько трудоемким и сложным окажется дело! И, самое главное, чем все закончится. Но в тот момент Его волновало другое: «И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими… Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя», – сказал он Авраму (Б.17;7). Но прежде чем произнести эти заповедные слова, Бог приказал ему: «…пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Б.12;1). То есть, Бог потребовал порвать все отношения с другими людьми и своим родом. И за это Бог посулил: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение» (Б.12;2). По существу Бог начинает новый «старый» эксперимент – создать народ, но уже полностью спаянный с ним, а остальные пусть живут, как знают. Хотя вряд ли ему было все равно, что будет с этими другими, и он захотел показать отрекшимся от него, насколько они не правы. Примером и укором им должен стать новый народ, созданный под личным руководством Бога-творца. Казалось бы, чего проще для создавшего все неживое и живое во Вселенной?
Аврам принял условия и, взяв жену Сару и сына брата своего Лота, имущество, слуг, отправился в странствия. Судя по его маршрутам (Палестина, Египет), Аврам был типичным кочевником-скотоводом (Бог так и не проникся симпатией к земледельцам). Бог не торопил события, присматриваясь к нему, к его верности. Аврам год за годом, везде, где бывал, ставил жертвенник своему Господу. И настал миг, когда Бог вознаградил его – старика – потомством, тогда же видоизменилось имя старца – Авраам, а также пообещал его роду земли «от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат» (Б.15;18),. Учитывая размеры планеты, созданной Богом, кусок не очень большой, но если планировалось сформировать народ-светоч, народ-пример, то размеры территории не принципиальны. Главное – исход эксперимента. Кроме того, Бог потребовал от детей и потомков патриарха особого знака, отличающих мужчин его «духовного ордена» от других – обрезания («Обрезайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами» – Б.17;11). Требование странное для Вседержителя и создателя всего Сущего. Какое-то мелко-хирургическое, вроде тавра. Впрочем, это дело вкуса. За исключением одного – это очередной этический и психологический штрих к портрету Бога – ему нужна была жертва на крови.
То, что пропасть между людьми и Творцом была не случайной, свидетельствует знаменитая встреча Авраама с Троицей. Вот в облике трех мужчин пришел к Аврааму сам Бог. Хозяин приветливо встречает гостей, выставляет угощение. Гости едят и в беседе предрекают пожилым Саре и Аврааму рождение сына. Затем троица направляется к городу Содом, который решено уничтожить. И тогда происходит удивительный диалог между простым пастухом и могущественным, готовым даровать ему сына, почет и славу, Богом. «И подошел Авраам, и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым… Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Б.18;23-25). Но разве Бог, обрушив потоп на землю, разбирался, где были праведники и виновные? Да, была оставлена в живых семья Ноя, но ради дела, а дети в других семьях, чем были хуже детей Ноя? Бог, возможно, указал бы Аврааму на его место, но больше почитателей у него не было, и пришлось ради Эксперимента идти на уступки. «Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ:… Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с Ним, и сказал: может быть, найдется там сорок. Он сказал: не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати. Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом…» (Б.18;26-33).
Этот диалог есть величайший гимн Человеку, как существу моральному. Причем, человек давал урок морали Богу, технически такому могущественному! Шаг за шагом мудрый пастух загонял Господа своего в ловушку нравственной дилеммы: а если в городе найдется хоть один праведник? И когда Бог понял, куда клонит «раб божий», то, прервав разговор, поспешно пошел прочь. И хотя Авраам вступил в соглашение с Богом, но разговор с ним показал, сколь тверды были его моральные принципы, если даже обещание долгожданного сына не затворило уста Авраама и не помешало заступиться за чужих ему людей. И еще: откуда он мог взять эту мораль? Только от людей, от тех мест, которые Бог заставил его покинуть. А рожден был Аврам в городе Ур, что находился к югу от Вавилона. Вероятно, там жили потомки строителей вавилонской башни, так желавших напрямую пообщаться с самим Богом и задать тому неудобные вопросы…
Ну и как это все мне понимать? А следующий параграф был озаглавлен вообще «оригинально»:
Еще один грех Бога
Рядом кто-то карандашом приписал: «А что есть грех?» Значит, Иван кому-то давал читать. А мне ведь не дал! Сразу почувствовал себя Эльзой. Ладно. Итак, что есть грех? Я подумал и сформулировал: «Нанесение ущерба другому». Еще подумав, добавил: «…и своей личности». Успокоившись на сем, продолжил чтение.
Конфликты Бога с Человеком подталкивали Творца к одной принципиальной мысли: если Он хотел, чтобы его не только боялись, но и уважали, то Он должен стать существом моральным. И Бог принял вызов. Он решил доказать людям, что Он морален! Однако, пытаясь утвердить свой авторитет среди людей, Бог проявил те чувства и свершил те деяния, которые характерны для деспотичной власти. Отсюда типичные для авторитарной личности умозаключения. Как можно бороться с аморальностью? Ну, конечно же, строгостью! Причем, строгостью беспощадной. И вот, прослышав о погрязших в разврате жителях Содома и Гоморры, решил вмешаться и продемонстрировать людям свою праведность. («И сказал Господь:… Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет…» (Б.18;20-21). (Замечание в скобках: «сойду и посмотрю» – как-то странно это для Всезнающего, каким его подают верующие). Инспекция закончилась уничтожением этих городов со всем населением, включая младенцев. Ангел дал знать о готовящейся акции лишь семье Лота. Но не спаслись зятья Лота, ибо «зятьям его показалось, что он шутит» (Б.19;14). При бегстве из города погибла и жена Лота. Итак, сбылось предчувствие Авраама – погибли невиновные.
«И вот встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял перед лицом Господа. И посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым с печи» (Б.19;27-28). О чем думал Авраам в эти минуты Библия не рассказывает, но Автор оставил следующее красноречивое свидетельство – Авраам ушел из дома, куда глаза глядят. «Авраам поднялся оттуда к югу, и поселился между Кадесом и между Суром; и был на время в Гераре» (Б.20:1). Он бежал от своего Бога обратно к людям!
Четыре тысячи лет спустя другой человек, пытавшийся восстановить завет с Богом – Федор Михайлович Достоевский – спросит себя и других: хочешь ли ты счастья для людей, если в основании его будет лежать хотя бы одна слезинка ребенка? В сущности, вопрос был адресован не столько к людям, с их пока малыми возможностями творить цивилизацию без ущерба для других, сколько к тому, кто обладал абсолютной властью творить добро и… зло тоже. Эту нравственную загадку «разгадал» Авраам. Однако она была скрыта от внутреннего ока всемогущего Бога. И потому Авраам бежал от него в ужасе, бросив дом, хозяйство, семью.
Карандаш начертал на полях: «По-вашему человек оказался совершеннее Бога? Но возможно ли созданному быть совершеннее Создателя?»
Я лично счел этот довод неубедительным. Сын вполне может превзойти отца, а дочь – мать.
Но Бог уже не оставлял своего содоговорника в покое. Было сделано так, что Он помог Аврааму и тем сделал его обязанным себе. Сару похитил местный царек. Явившись во сне к правителю Герара, Бог потребовал вернуть Сару Аврааму. Показателен диалог между ним и Богом. Правитель земной настолько хорошо знал нрав царя небесного, что сразу воскликнул: «Владыка! Неужели Ты погубишь и невинный народ?» (Б.20:4). На что Бог отвечал утвердительно: «…если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои» (Б.20;7). Увы, моралью Авраама Бог так и не проникся. Более того, ему уже было не до морали. Единственный ему поклоняющийся ускользал. Требовались решительные меры. И Он, наконец, дарует престарелой Саре сына, названного Исааком. Авраам возвращается к завету. Но Бог не верит в верность Авраама и, желая проверить его, а, точнее говоря, сломать его психологически, приказывает Аврааму самолично убить сына и сжечь его тело. (Тут стоит вспомнить дело Авеля и Каина и сопоставить факты.) «И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож…» (Б.22;6). Лишь когда отец вознес нож над сыном, Ангел объявил ему о божьем удовлетворении: «…не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня» (Б.22;12).
Вот такая проверочка…
Карандаш: «А можно ли главное в жизни проверить, иначе, например, на овце? Будет ли это проверкой? К тому же Исааку была гарантирована вечная жизнь после смерти, Авраам знал это».
Я удивился: надо же, как можно по-разному трактовать одно и то же событие! Я не был, конечно, наивным, с разными трактовками одних и тех же фактов встречался по роду своей профессиональной деятельности очень часто, но не в сфере религии. К тому же мне казалось, что в священных для верующих книгах все однозначно – Бог хороший, а люди так себе, грешники одним словом. А Иван вон куда замахнулся… Впрочем, куда замахнулся Иван я еще не понял.
Исаак и Иаков
После смерти Авраама Бог сошел к сыну его Исааку с требованием сохранить прежние обязательства – поклоняться ему. Бог вновь пообещал умножить потомство «как звезды небесные» и посулил дать многие земли. Исаак, естественно, согласился.
Жизнь Исаака прошла безыскусно. За исключением одного эпизода. Когда Исаак на склоне лет, почти слепой, решил благословить старшего сына Исава на главенство рода, то его мать, Ревека, подговорила своего любимца – младшего сына Иакова выдать себя за Исава. Хитрость удалась и вместе с благословением отца на Иакова перешли условия договора колена Авраамова с Богом. Всевышний против такого хода не возразил, несмотря на ссору братьев, а явился во сне Иакову с прежними посулами своего покровительства.
Жизнь Иакова описана в Библии подробно, но для нашего повествования интересен лишь один эпизод. Возвращаясь спустя много лет из Вавилонии к брату Исаву с намерением помириться, Иаков сталкивается с Богом. Накануне встречи с братом, полный сомнений и страха, что Исав откажется от примирения и отомстит ему, Иаков остается ночью в шатре один. И происходит нечто символическое, но описанное как реальность. «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом…» (Б.32;24-28).
Тут великое поле для трактовок. Можно трактовать так, что Иаков боролся с угрызениями совести за свой давнишний обман (не со всемогущим же Богом он мог бороться на равных!), и Господь в конце концов освободил его от моральных страданий. А повреждение бедра следует расценить, как нанесение увечья самому себе под влиянием стресса (клин клином…).
Внизу страницы стояло примечание Ивана: Во всяком случае, так толковал мне один священник.
А можно трактовать как богоборческий символ, как свидетельство о тех временах, когда Человек еще не ощущал себя «рабом божьим» и сохранял дистанцию независимости. А прозвище Израиль (Богоборец) оказалось провидческим. Народ израильский не раз потом бросал вызов божественной воле…
Исход
Иаков был человеком моральным. Он совершает лишь один грех: пришел к первенству перед Богом обманом, да и то под влиянием матери, но затем сделал все, чтобы помириться с Исавом. И тот простил его, ибо тоже был человеком моральным. («И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал, и плакал» (Б.33;4). Эта линия, идущая от этики деда. А как влияла на детей духовная связь с Богом? Почему-то не очень благотворно. В Библии (глава 34) описывается такой показательный случай. Влюбленный сын местного правителя, похитив дочь Иакова, тут же прислал отца свататься. Единственным условием Иакова было обрезание, то есть переход в другую веру. Согласие было получено. Все мужчины прошли обряд, после чего сыновья Иакова, воспользовавшись их состоянием, напали и умертвили мужчин, заодно разграбили город. Иаков испугался, сказав им: «вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли…» (Б.34;30). Бог же посоветовал на время, пока все не успокоится, переждать в Месопотамии. И все. Немудрено, что подобное моральное состояние имело продолжение, уже внутри самой семьи Иакова.
В такой – уже новой, отличной от аврамовой – атмосфере рос любимый сын Иакова Иосиф. О его поведении в юности в Библии сказано так: «И доводил Иосиф худые о них (о братьях) слухи до отца их» (Б.37;2). То есть попросту наушничал. Братья «возненавидели его; и не могли говорить с ним дружественно» (Б.37:4). Конфликт кончился тем, что братья продали Иосифа купцам, ехавшим в Египет. Однако Иосиф там сделал блестящую карьеру, став советником фараона. Предупрежденный Богом о наступающей долголетней засухе, он уговорил фараона сделать надлежащие запасы. Хозяйственный маневр оправдал себя. С началом голода Иосиф стал продавать припасы умирающим людям по максимально высоким ценам. Сначала реализация зерна шла на серебро. «И серебро истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской» (Б.47;15). Затем – на скот. Когда и этот источник иссяк, люди стали продавать свои земли, а себя в рабство. «И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона… и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого» (Б.47;20-21).
Карандаш: «Оставляя им четыре пятых урожая, и спасши их от смерти!»
Меня эта ремарка заинтриговала. Библия у меня была. Я открыл соответствующее место и прочитал следующее: «И сказал Иосиф народу: вот, я купил теперь для фараона вас и землю вашу; вот вам семена и засейте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Они сказали: ты спас нам жизнь; да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону».
Вот, значит, откуда пошло крепостное право. Одна пятая – это 20 процентов. Нынешний предприниматель счел бы такое предложение вполне приемлемым налогом. Иосиф был умным и палку не перегибал: отняв чужое имущество, затем вернул его прежним хозяевам на правах аренды. Придя к столь утешительному выводу, я продолжил чтение.
Достигнутое положение позволило пригласить в Египет на постоянное жительство отца и весь свой род. «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле Египетской, в лучшей части земли… И жил Израиль в земле Египетской… и владели они ею, и плодились и весьма умножались» (Б.47.11,27).
А вот и первый источник антисемитизма нашелся, – подумалось мне.
Привилегированное положение сородичей Иосифа некоторое время сохранялось и после его смерти. Но когда иссякло благоволение власти, рухнуло и благополучие клана. Новый фараон испугался, что «народ сынов Израилевых много числом и сильнее нас». И «когда случится война, соединится он с нашими неприятелями», а потому стал притеснять род Иакова. И Бог пришел на помощь своим подопечным. В качестве посредника между собой и народом Израиля выбрал пастуха Моисея, дал ему инструкции, наделив даром чудотворения, и Моисей вынужденно взял на себя тяжелую ношу вождя целого народа.
В книге «Исход» подробно описаны усилия Моисея, пытавшегося вырвать у фараона согласие на уход племени. Фараон отказал, в отместку приказав увеличить тяготы на израильтян, фактически превратив их в рабов. Похоже, Богу именно это и надо было, чтобы явить перед ними свою силу. И началось. Град несчастий обрушился на… нет, не на фараона, тогда бы израильтяне, далекие от двора не заметили этого, – а на простых египтян. Бог последовательно насылал на страну то жаб, то мошек, то моровую язву, то саранчу. Фараон продолжал упорствовать. Но почему? Пусть бы те, кого правитель боялся, покинули бы его государство. Выгода налицо. Однако он упорствовал вопреки логике. Ответ дается в тексте. После явления каждого очередного жестокого чуда, следует рефрен: «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею» (Исх.9;12). «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых» (Исх.10;20). «И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их» (Исх.10;27). И т.д. Судя по всему, Бог не был уверен, что одно- или двухразовое чудо может склонить сердца израильтян к нему, и потому действовал с «запасом». Демонстрируя свое могущество, Бог заявил: «Я… пойду по земле Египетской, и поражу всякого первенца в земле Египетской от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь» (Исх.12;12). Чтобы не перепутать, «всеведущий» Бог приказал своим подданным помазать косяки и перекладины своих дверей кровью: «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между нами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу, во все роды ваши: как установление вечное празднуйте его» (Исх.12;13-14). Итак, сценарий первой Варфоломеевской ночи на Земле был утвержден и доведен до паствы. Так родился праздник пасхи. Праздник на крови невинных («…и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца» (Исх.12;30).
Бог сам себе принес жертву, не дожидаясь рождения очередного проницательного Авеля.
Зачем нужна Богу была эта резня? Не для того ли, чтобы связать избранное им племя кровью? Празднуя исход из египетского плена и рождение нового народа, его подданные должны были помнить, какая цена заложена в основании триумфа. Бога не волновало, что кровь младенцев и проклятия матерей падут на этот народ, и он – в свое время – заплатит за нее свою, кровавую же, цену. Ему нужен был результат!
Я вскочил и сделал уже привычные пару кругов по комнате с набором понятных мыслей.
«Нет, вы посмотрите! – вопиял я про себя. – Чего Иван добивается? Какой выгоды через меня хочет получить? Да меня обвинят черте в чем… И вообще это материал непроходим. Вот так приятель у меня!»
Я посмотрел на стену, за которой сидел Ангел. Дать ему почитать? Пусть посоветует, как мне ко всему этому относиться…
Я походил-походил, решил дочитать и уже потом высказать свои соображения Разуваеву и… Ангелу, если понадобится.
Наконец фараон разрешил (точнее Бог за него) людям Моисея уйти в пустыню для совершения своих обрядов, но под честное слово, что те вернутся назад. Однако предводитель знал, что нарушит слово и они не вернутся назад, и «сыны Израилевы по слову Моисея и просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу Своему в глазах Египтян; и они давали ему, и обобрал он Египтян» (Исх.12;35-36).
В Библии так и сказано: «и обобрал он…». Что все это – бесхитростность автора Пятикнижия, неточность перевода или что-то иное, содержащее подтекстовый посыл потомкам? Пока слишком мало материала, чтобы делать определенные выводы, поэтому продолжим пересказ событий.
Я достал Библию и сверил ссылки. Все было правильно: и про пасху, и про казни невинных, и про нарушение слова, и про воровство у тех, с кем израильтяне жили бок о бок много лет… Я встал и прошелся по комнате уже не в возмущении от подброшенного мне материала, а в размышлении. Непонятно: почему не обращается внимание на эти вопиющие факты? Надо бы достать Тору и сравнить эти места Пятикнижия. Может, переводчики специально возвели напраслину на израильтян в христианские времена? Хотя христиане признают израильского Бога за своего. Тогда к чему описание таких Его дел? И что хочет доказать Разуваев? Что под маской Бога действовала иная, черная сила? Например, Люцифер выдал себя за Творца и принялся растлевать людей? И кто тогда этот… товарищ за стеной? Может, тоже… трансформер? С виду ангел, а потом с невинным выражением попросит душу…
Казалось, Бог, доказав всем свою силу, может теперь уняться. Ничего подобного. Он сообщает Моисею: «Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними (израильтянами), и покажу славу Мою на фараоне и на всем войске его; и познают Египтяне, что Я – Господь» (Исх.14;4). Наверное, именно с этой целью – принудить фараона выслать погоню – и была сотворена афера с займом золота и серебра у египтян. Ловушка удалась. «И ожесточил Господь сердце фараона, царя Египетского, и он погнался за сынами Израилевыми…» (Исх.14;8). Преследователи были утоплены в море. И тогда «убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу Его» (Исх.14;31). Характерный способ, с каким Бог доказал людям свое присутствие и силу. Вообще-то, такая акция устрашения называется террором и провокацией. Или может быть иная трактовка?
Ага, вот и трактовка. Карандаш: «Бог мстил за многолетние притеснения». Неубедительно. Надо будет почитать что-нибудь из богословской литературы. Отца Меня, например. Как он выкручивался?
Выстраиваемая цепь подобного рода актов приводит к выводу, что Богу они нужны были, прежде всего, в качестве способа установления контроля над племенем израильтян. Причем использовался даже элементарный подкуп (похищение драгоценностей у египтян). Значит, что-то Бога беспокоило в поведении паствы. Дальнейшие события показали: Он так и не был уверен в их преданности. Вероятно, это обстоятельство подвигло Бога (или того, кто за Него выдавал) провести ряд преобразований. Прежде всего, на горе Синай Господь даровал Моисею моральные заповеди, которые отныне надлежало блюсти племени. Совершая, скажем так, сомнительные поступки, Бог призвал к нравственности других. Такое поведение характерно для определенного типа «умствующих людей» (политиков, жрецов, писателей, философов, режиссеров), которые призывают других следовать каким-то правилам, императивам, мысленно изымая себя из этого числа по веским, как им кажется, основаниям. Я бы назвал этот феномен «принцип самоизвинительной слабости».
Господь завещал через Моисея моральные постулаты, известные еще Аврааму: чти отца и мать, не убий (а убийство египетских детей?), не укради (а умыкание драгоценностей у египтян?), не солги (а нарушение слова, данное фараону?) и так далее. Были даны заповеди в теории и их опровержение на практике. Таков главный моральный урок, который преподал Бог своей пастве – двоедушие. Остается предположить, что моральные заповеди предназначались исключительно для внутреннего использования и не распространялись на людей иной веры и национальности. Только в этом случае вопиющее противоречие благополучно разрешалось. Для Бога остальные люди так и остались биороботами из Эдема, посмевшими нарушить его запрет. Их жизни для него ничего не значили.
Карандаш: «Фараон отверг Бога – Исх.5;21. Бог не убивает людей, а забирает их к Себе! Не укради – по твоей воле, когда сам Бог отдает в твои руки – это не кража!»
Вот тут я восхитился. Какой блистательный ответ зарвавшемуся Разуваеву! Какая блистательная формула: «Если Бог есть, то все дозволено!» Ах, Достоевский, Достоевский… Простак.
Я еще раз посмотрел на стену, за которой мерцал Ангел. А что он мне дозволит?
В общем, ничего того, чего бы ни знали и чему бы ни следовали предки израильтян и другие народы, в своих заповедях Бог не дал. И не мог дать, кроме этих общепринятых основ сосуществования человеческого общества в силу того, что сам не следовал этическим принципам. Являясь судьей чужих поступков, сам Бог был над моралью. Собственно Бог сообщил Моисею прописные истины ради первой и второй заповеди: «Я Господь, Бог твой…» и «Да не будет у тебя других богов перед лицем Моим» (Исх.20;2-3). (Внизу страницы значилось примечание: О том, что Бог один и других богов не существует, речь еще не шла. Даже Моисей считал Яхве, как звали израильтяне своего небесного патрона, одним из богов, только самым сильным: «Кто, как Ты, Господи, между богами?…» (Исх.15;11).) Все остальное – производное. Притягивая к этим заповедям общеизвестные и общечеловеческие законы (вряд ли израильтяне жили в Египте, убивая, крадя и лжесвидетельствуя, не чтя своих родителей и пр.), Бог основывался на тонком психологическом расчете. Для израильтян в ряду их ценностей верность Господу отнюдь не занимала первое место, и если Бог просто заповедовал бы блюсти верность себе, то эта заповедь могла забыться или быть скептически воспринята (что долгое время и происходило). Другое дело поднести ее в «пакете» с нравственными истинами, да еще такими, которые являются краеугольными для любого устойчивого коллектива людей, как «не кради» или «не желай дома ближнего своего». Тогда нарушение одной заповеди будет восприниматься как подрыв основ всей системы. Из этого же разряда происходили законы бога – отнюдь не оригинальные и привычные для того времени: глаз за глаз, зуб за зуб (Исх.21;24), и лежавшие в другой этической плоскости, чем прочие заповеди. Но Господа это мало волновало – он использовал этику в служебных целях. Зато дарованные законы пестрят «высшей мерой» столь близкой мировоззрению Бога: «Ворожеи не оставляй в живых» (Исх.22;18); «Всякий скотоложник да будет предан смерти» (ст.19); «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен» (ст.20). Есть и призыв, который вновь возвращает нас к делу Авеля: «Не медли приносить Мне начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай Мне первенца из сынов твоих» (Исх.22;29). Комментария, как понимать последнее положение, в тексте нет. Авель, вероятно, понял его буквально… Не забыты и окружающие племена. Господь подробно и с удовольствием разъясняет Моисею стратегию истребления других народов. Значит так: «Ужас мой пошлю пред тобою и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь… Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего Евсеев, Хананеев и Хеттеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста… мало по малу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей» (Исх.23;27-30). Политика геноцида естественным порядком вытекала из доктрины «избранного народа». И настанет время, когда геноцид вернется бумерангом к самому богоизбранному народу… Так сказать: ничто не пропадает втуне.
Поневоле закрадывается сомнение: да Бог ли это говорит, не было ли подмены?
Так-с, подумал я, мое предположение сбывается…
Если Богу эти народы так досадили, то почему Он не устроит им очередной потоп, мор и прочее своими руками? Зачем наущает мирных людей, которые в глаза не видели эти племена, и между ними нет никаких счетов? Но подмены никакой нет, и Бог хочет испытать свой народ, сделав его своим послушным безропотным орудием, а для этого нужна жертва кровью. (И опять вспоминается Каин со своим бунтом…)
Разъясняя Моисею как жить израильтянам дальше, Бог взялся за очередную новацию – конструирование своего культа. До этого Он не вмешивался в обрядовую часть поклонения. На Синае подход круто изменился. Моисей получает подробные инструкции, какие обряды нужны, и как их совершать. Причем Господь демонстрирует буквально женское внимание к деталям. В Библии содержится несколько главок целиком состоящих из одних указаний Бога по обрядовой утвари: «О скинии (шатре) и ковчеге завета», «О золотых светильниках», «О покрывалах и покрышке из бараньих кож», «О брусьях», «О завесях в скинии», «О медном жертвеннике» и т.д. (Исх., главы 26-31). Причем указания детальнейшие, вроде: «И сделайте брусья для скинии из дерева ситтим, чтобы они стояли. Длиною в десять локтей брус, и полтора локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по два шипа, один против другого…» (Исх.26:15-17). Что за дизайнер объявился на небесах? Или ставка на мелочные детали есть психологический расчет на склонность «массового» человека жить в рамках шаблона и стереотипов, а заодно способ противодействия расслоению религии на толки? А Бог создавал теперь именно религию. Просто завет исчерпал себя. Он остался в качестве краеугольного камня. А поверх началась надстройка этажей…
Запись Моисеем всех указаний Господа заняла 40 дней и ночей. Народ подумал о такой долгой отлучке дурное (а может, воспринял как избавление от тяжелой опеки?), и обратился к брату Моисея Аарону, выполнявшего функции жреца, с просьбой сделать изваяние божества, с которым они могли двигаться дальше среди чужих земель. Аарон внял мольбе и изваял статую бога из похищенного золота. (Показательно, что израильтяне не захотели обогатиться чужим – противопоставив свою мораль навязываемой.) Этому образу и стали поклоняться. Возможно, сыны Израилевы в Египте имели свое племенное божество, к поклонению которому вернулись. (О религиозной жизни израильтян в Египте Библия ничего не сообщает, а ее не могло не быть, ведь жили они среди религиозного народа.) Обычно этот эпизод трактуется как притча о жажде поклонения людьми ложным идолам, как сказание о рабах духа, не вынесших неизвестности и нашедших себе другого Господина. Но может быть иная версия. Например, что израильтяне, воспользовавшись отсутствием пастыря-надзирателя, поспешили отделиться от готовившегося, по их мнению, нового, на этот раз духовного плена. На эту мысль наводят последующие неоднократные попытки отпадения израильского народа от Яхве. Не смотря на все свидетельства своей мощи, чем-то Он их не устраивал. Может своей жестокостью? Возможно, конечно, иное объяснение – в пользу Бога. Люди сделали идола, потому что были еще глупы. Задавленные обыденностью, воспитанные в традициях рабства, не имея в своих рядах философов и поэтов, ум их еще был первобытным, тотемистским, без развитого абстрактного мышления. Они помнили, что было вчера, но с трудом припоминали позавчерашние события, оттого и забыли те чудеса, что сотворил им Бог ради них. Ведь и половина тех чудес убедила бы современных атеистов в существовании Высшего существа. Бог насылал казни, раздвигал море, сыпал в пустыне крупу с небес, исторгал из скалы воду – все тщетно! При первой заминке израильтяне изменяют Ему. Итак, виноваты люди? При первом приближении – да. Но какова здесь роль Бога, как воспитателя и преобразователя? Он собрался реализовать великий замысел – создать особый народ и тем исправить просчет в Эдеме с Адамом и Евой («…вы будете у Меня царством священников и народом святым» – Исх.19;6). То есть будущий народ должен стать духовным пастырем для всего человечества! Не больше и не меньше. Но почему же так мало было сделано им для духовного преображения людей? Почему в их среде не появилась интеллигенция – ученые, музыканты, поэты? Прошло достаточно поколений, а Бог так и не заронил в их среду искру божественного творчества. А ведь в других народах (Шумере, Индии, Китае, Греции, в том же Египте) люди уже творили высокое искусство. Отсюда вывод: Бог был прекрасным технократом – физиком, химиком, биологом, чему свидетельство земля с ее природой, но пока что плохим гуманитарием. Потому и появилась «педагогическая» идея»: если человека невозможно переделать, то его можно запугать. Показательна реакция Яхве на появление статуи божества в стане израильтян. Она оказалась не в духе заповеди «не убий». Сначала возмущенный Бог хотел полностью истребить все племя (включая детей, естественно) и начать эксперимент заново («…да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя», – объявил он очередную милость Моисею (Исх.32;10)). И тут свой ум проявляет бывший пастух Моисей, который, как и его предок Аврам, стал учить Бога мудрости. «Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою. Чтобы египтяне не говорили: «на погибель Он вывел их…» (Исх.32;11-12). Здесь Моисей являет собой хорошего психолога. Он льстит Богу, и приводит аргументы о необходимости сохранения народа, в частности потому, что может пострадать репутация Господа в глазах других. И добивается своего. Но Моисей не зря был выбран Богом среди тысяч израильтян, да и сам Моисей прекрасно понимает: чтобы удовлетворить Бога, необходима жертва кровью. И он производит показательную экзекуцию. Вождь приказал мужчинам из рода Левинова убить «каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего… И пало в тот день из народа около трех тысяч человек» (Исх.32;27,28). Жажда мести Бога была удовлетворена.
Но Бог мог жестоко гневаться на куда более скромные проступки. Однажды сыновья Аарона зажгли в своих кадильницах «чуждый огонь». Оплошность оказалась роковой. «И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним… Аарон молчал» (Левит,10;2-3). Впрочем, дело, наверное, не в «чуждом огне», а в мести Аарону за сотворение им статуи божества. И Аарон это понял, и потому молчал. Психология Господа была понятна всем.
А Господь продолжал крепить свою власть всеми способами, тем более что, несмотря на оказанные милости, народ израильский продолжал колебаться и потому привосовокупил к своим действиям угрозы: «И если презрите Мои постановления.., то и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно… и падете пред врагами вашими… если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши; и сломлю гордое упрямство ваше…» (Лев.26;15-19). Как педагог Бог обладал не «божественным» даром, а вполне «земным» – тоталитарным. Господь еще долго и изощренно ругался, нагоняя страх («Я в ярости пойду против вас… И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших» (Лев.26;28-29). (Опять мотив жертвы детей…) Кроме угроз была и аргументация. Бог ссылался на то, что вывел народ Израиля «из земли Египетской, чтобы вы не были рабами… и повел вас с поднятою головою» (Лев.26;13). Резон веский, но разве достойно было извергать столько угроз на людей только недавно поднявших головы? Да и был ли новый хозяин лучше фараона? Тот, по крайней мере, не мог так мстить, как Яхве: «…наказывающий вину отцов в детях, и в детях детей до третьего и четвертого рода» (Исх.34;7).
Бросается в глаза тяга Яхве к крови, включая соответствующие жертвоприношения. Об этих вещах Яхве говорит много, подробно и со знанием дела. Например: «И заколи тельца пред лицем Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца, и возложи перстом твоим на рога жертвенника, а всю кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающей внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, и воскури на жертвеннике» (Исх.29;11-13). Или: «И возьми одного овна… И заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его, и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его. И сожги всего овна на жертвеннике. Это – всесожжение Господу, благоухание приятное…» (Исх.29;15-18). «И возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровию с перста своего. И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровию его тоже, что делал с кровию тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою…» (Лев.16;14-15). И опять вспоминается Каин, восставший против таких жертвоприношений.
Бог, по-видимому, осознал, что одними посулами о будущем господстве в чужих землях сознательного служения себе не добиться. Сыны Израилевы продолжали дистанцироваться от Яхве и ощущать себя несчастными. «Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих» (Числа.11;10). «Народ стал роптать вслух на Господа; и Господь услышал, и воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана» (Ч.11;1). Реакция Бога на неповиновение была всегда одна: «…гнев Господень возгорелся на народ, поразил Господь народ весьма великою язвою» (Ч.11;33). Но жестокость – это реакция нетерпения. Истинного же послушания можно было достичь через ежедневные упражнения духа, через бесконечные ритуалы поклонения и повторения словесных самовнушаемых формул типа: «Прости меня, раба твоего, Господи». За что простить? А не важно. За то, что родился… На укоренение новой психологии требовалось время, а пока что самолюбию Бога наносились все новые удары.
Когда Бог приказал послать лазутчиков высмотреть землю Ханаанскую, «подаренную» им израильтянам, то вернувшись, разведчики, похвалив ее, сообщили, что она заселена сильными народами, способными постоять за себя. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы… И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча?» (Ч.14;1-3). Отсутствие воинственного духа сильно покоробило Бога. При очередной встрече с Моисеем Яхве задает ему вопрос, который, по-видимому, давно мучил его: «…доколе будет раздражать Меня народ сей? И доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его?» (Ч.14;11). Вопрос законный. То, как племя израильтян отвечало на все ухищрения Яхве, более чем удивляет. Нынешним верующим хватило бы пары знамений, да и атеистам тоже. А израильтянам чего недоставало? Ответ теологов прост: что возьмешь с грешников? Однако может быть они – люди простые, живущие инстинктами, потому и не питали высоких чувств к Яхве, что ощущали во всех деяниях Бога ухищрения, а не истинную привязанность к «избранным»? Иначе говоря, кролики ощущали свою подопытность? Вот и в этом случае, Бог, задав недоуменный вопрос, не стал раздумывать над проблемой, а сразу перешел к угрозам: «Поражу его (народ) язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его» (Ч.14;12). Строки, достойные внимания и комментирования. Прежде всего, это очередной самоповтор. Соединение привычной угрозы «умыть руки», приговорив племя, включая малых детей, к смерти, с привычным обещанием произвести от патриарха новый, надо полагать, на этот раз совсем уже «правильный» народ. Странно то, что Бог, создавший человека, никак не может понять, что «правильных» людей создать не в его власти. Почему? Да, потому, что создавать Он мог лишь по старым лекалам, т.е. «по своему образу и подобию». А психологический тип Яхве мы уже имели возможность наблюдать на конкретных поступках. Наконец, в этих словах содержится сгусток целой антиэтической системы, в основе которой насилие сильного над неспособными ответить тем же. Поэтому любопытен ответ Моисея, который вновь не поддается искушению стать родоначальником народа «имени себя». И опять он увещевает Господа, льстя ему, хитрит и даже пугает его! Моисей: «И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу Твою, скажут: «Господь не смог ввести народ сей в землю, которую Он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне». Итак, да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря: «Господь долготерпелив и многомилостив…» «И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему» (Ч.14;15-18,20). Кажется, все обошлось, но Бог свое слово истолковывает привычным для себя образом. Он жаждет мести и обязательно мстит. Те, кто возмущался особенно сильно, «умерли, быв поражены пред Господом» (Ч.14;37). Остальные же были обречены на 40-летнее скитание по пустыне.
(Примечание. Прихотливы пути образования легенд. Откуда, например, взялась имеющая широкое хождение версия о том, будто Моисей по собственной воле 40 лет водил израильтян по пустыне, якобы для того, чтобы вымерли те, кто помнили рабство? Скитания были наказанием Бога за неверие в его могущество. Вымирали как раз диссиденты, и на место их заступали рабы духа Яхве.)
Думается, что представления о мере прощения у Моисея и Бога здесь не совпали. Господь отступил немного, не теряя своей главной цели – ломку сознания своих подданных. Так, среди предписаний Господа значился запрет что-либо делать в субботу, за нарушение которого полагалась кара. Но жизнь не остановить даже божьими предписаниями. Требовалось кормить детей, поддерживать огонь в очаге во время холодов. Дел хватало, и праздность устраивала далеко не всех. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. И привели его… к Моисею и Аарону и ко всему обществу… и сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей; пусть побьет его камнями все общество вне стана и вывело его общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею» (Ч.15;32-33,35-36). В этом случае важны все нюансы: и то, что погиб человек по существу безвинно (за сбор дров для семьи!), и попрание заповеди «не убий» (а мы гадаем, откуда взялась двойная мораль?), и коллективный характер преступления, связавший всех неправедной круговой порукой, и снятие ответственности с совести людей, потому что они всего лишь выполняли приказ свыше. Перед нами методология, которая затем будет подхвачена определенным сортом людей и найдет самое широкое применение в политике и военной практике.
Поразительны подробности обрядов, исполнение которых Бог требовал немилосердным образом от своих подданных, напоминают дрессировку. Естественно, перемежая кнут и пряник. Уже в следующей главе описываются новые смерти. На этот раз кара постигла 250 мужей, оспоривших первенство Моисея пред Богом. Господь разрешил спор о том, кто любезен ему просто – Он разверз землю под ногами смутьянов, и она поглотила их (Ч.16;27,31-35).
Карандаш: «Покарал за маловерие и ропот на Бога».
«Про то и речь», – согласился я.
Воспитание кнутом на этом не кончилось. Вот краткий перечень «мероприятий»:
– «И умерло от поражения четырнадцать тысяч семьсот человек, кроме умерших по делу Корееву» (Ч.16;49). (Может, и семинарист Джугашвили, читая эти страницы, попутно проникался мыслью не бояться жертв при движении к великой цели? Затем и он выступит в роли Моисея, ведшего упирающийся народ к земле обетованной, применив апробированные методы.)
– «И послал господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество из сынов Израилевых» (Ч.21;6).
– Яхве заставил Моисея отдать приказ об убийстве тех, кто полюбил женщин из чужого племени (Ч., глава 25). А вот как описывается гибель двух влюбленных. «…некто из сынов Израилевых пришел, и привел к братьям своим Мадианитянку… Финеес, сын Елеазара, сын Аарона священника, увидев это, встал из среды общества, и взял в руку свою копье. И вошел вслед за Израильтянином в спальню, и пронзил обоих…и прекратилось поражение сынов Израилевых» (Ч.25;6-8). «Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи» Ч.25;9). А Моисею заповедовал: «Враждуйте с Медианитянами и поражайте их» (Ч.25;16-17).
Бог не хотел, чтобы избранный народ смешивался с другими народами. И опять потом это вернулось бумерангом. Много столетий потом евреям пришлось жить отдельно от других в гетто и в черте административной оседлости.
– «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола» (Ч.31;7). Женщин и детей воины взяли в плен, но Моисей, знавший нрав Яхве, вопрошал: «… для чего вы оставили в живых всех женщин?» (Ч.31;ст.15).
Около 25 стихов посвящено подробному описанию раздела добычи между воинами, остальным племенем и… Яхве! Откровеннейшее и подробное описание раздела напоминает дележку пахана со своим «шестерками». «…доля ходивших на войну, по расчислению была: мелкого скота триста тридцать семь тысяч пятьсот: и дань Господу из мелкого скота шестьсот семьдесят пять; крупного скота тридцать шесть тысяч, и дань из них Господу семьдесят два; ослов тридцать тысяч пятьсот, и дань из них Господу шестьдесят один; людей шестнадцать тысяч, и дань из них Господу тридцать две души…» (Ч.31;36-40). Дань – это жертвоприношение. Здесь впервые в Библии четко говорится: человеческие жертвоприношения были, и Богу они были угодны. Глава постыдная, но, увы, характерная. Исход из Египта завершался генетической чисткой израильтян (выбраковывались «мягкотелые», оставались бессердечные) и погромом живущих в Палестине племен. Войско под предводительством преемника Моисея Иисуса Навина, следуя предначертанию свыше, пролило реки крови. Освобождением из плена одних обернулось обращением в рабство других.
«Значит, я прав, – думал я. – Иван пишет о подмене. Величайшем подлоге в мире, – подмене Бога!» Сколько потом будет таких подмен. И у нас в России. Цари-самозванцы Лжедмитрий I и Лжедмитрий II, прошедшие тюрьмы и каторгу борцы за народное дело в 1917-м, подмененные в 30-е рабами красного Господа… Все так, но я-то тут причем?
Расщепление
Навязывая Аврааму и его потомкам свое покровительство, Бог требовал взамен у людей в сущности одно – свободу их воли. Вернуть то, что они обрели в Эдеме. Фараон мог притеснять израильтян, иных даже заковать в цепи, но он не пытался заковать их души. Яхве же нужна была личность человека целиком. Это основа основ взаимоотношений между Человеком и Яхве, и наиболее отчетливо она прослеживается в эпизоде с жертвоприношением Авраамова сына. Абсолютная покорность – вот сердцевина Завета Господа. Бог ввел в оборот формулу, которую не знали до того другие религии – «раб божий». Разве мыслимо было, чтобы греки или римляне посчитали себя рабами своих богов? Они их чтили, уважали, преклонялись, но уважали и себя и чтили свою свободу. Не хотели быть рабами Яхве и израильтяне. И многочисленные случаи отхода от него тому доказательство.
С обретением Земли Обетованной, оказавшейся ничем не выдающимся краем, можно было подводить итоги эксперимента по формированию Нового Человека. Этот итог дан в книге Иова – этом манифесте Нового (Богобоязненного во всех смыслах) Человека, принесшего к престолу Божьему свободу своей воли.
Центральный вопрос повествования об Иове: «Человек праведнее ли Бога? и муж чище ли Творца своего?» (Иов.4;17). Знаменателен уже сам вопрос. Раз он ставился, значит, существовала определенная философско-этическая проблема.
Карандаш: «Эта проблема существует в первую голову для неверующего человека».
Я мысленно возразил оппоненту Ивана: «Но Иов был как раз религиозным человеком. Да и кто в те времена пребывал в атеизме?»
Человек не равен Богу – это понятно. Но не равен в чем? В силе, могуществе, сроках жизни – да! А в способности этического осмысления жизни? Яхве, диктуя элементарные правила человеческого общежития в десяти заповедях как личное откровение, тем самым отрицал у людей способность самостоятельно вырабатывать нравственные истины, чем низводил их до животного состояния. А они, покинув Эдем, таковыми никогда не были. Они не только овладели ремеслами, но уже Каин твердо знал, что такое хорошо и что такое плохо. Люди, вкусившие запретный плод, получили свободную волю, и с ней возможность ошибаться. Но то были ошибки не всемогущих, не всезнающих, а рядовых строителей своей – человеческой – цивилизации. И строилась она далеко не гуманными методами, но других путей люди не знали, ибо, как оказалось, не знал их и сам Творец мироздания. Сотворить этику оказалось много труднее, чем мертвую и живую материю. «Шести дней» в таком деле было недостаточно. Требовалось нечто иное, какой-то другой опыт…
Я вскочил и забегал по комнате. «Ох, Иван, – костерил я дружка, – вон ты куда заворачиваешь! Крутовато. Но… интересно. В принципе попытаться можно. Надо только работу назвать по-другому. Например: «Истоки и сущность метафизического богоборчества». Подпустить философии на тему: «бытийное сознание и сознание бытия, как онтологическая драма», и, может быть, тогда проскочим».
Я вернулся к столу и подумал: а он сам, автор, чего хочет?
Но Бог в своем могуществе считал, что знает все. Этим он кардинально отличался, например, от греческих богов, не претендовавших на высшую этическую мудрость и соответствующие законоположения. Греки вырабатывали свои этические воззрения сами, чем породили мощную философскую традицию. Яхве же мечтал о контроле над святая святых человеческой сущности – его «душой», что составляет весь комплекс интеллектуального и психического богатства личности, оставаясь в пределах понимания человека времен его «райской», первобытной, поры. А Человек с тех пор ушел очень далеко в своем развитии, открыв собственное «Я» и путь к формированию собственного типа мышления, который может быть плодотворным лишь при одном условии – если будет критическим и аналитическим. Только Бог этого еще не понял, считая его эволюцию ошибочной и даже преступной (Человек преступил Его волю!). И на том основании отказывал людям в праве критически и самостоятельно мыслить. Мыслить за него брался сам Господь! Ценность морально-психологического богатства Человека (его «души») ставилась в зависимость от того, насколько человек соответствовал жесткой умозрительной парадигме, спущенной сверху, а, значит, не выношенной собственным опытом и собственным анализом (путь греков). Критерием же покорности являлось соблюдение массы всевозможных запретов и ограничений. Тем самым нивелировался главный способ развития и реализации «души» – свобода воли, ограненная моралью. Человеческое общество не может нормально развиваться, следуя таким «божьим законам», как коллективное избиение камнями. Не может оно нормально развиваться, не провозглашая свободы человека вне зависимости от религиозных предпочтений, а значит, отвергая веронетерпимые заповеди декалога. Для Яхве такой (античный) подход был чужд. «Что такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным?» (Иов.15;14). Если в мифах эллинов просматривается моральное равноправие человека и богов, и Геракл способен был своими подвигами возвыситься до небожителей, то в книге Иова утвердительно вопрошается: «Кто родится чистым от нечистого? Ни один» (Иов.14;4). У человека нет иных задач перед Богом, кроме как повиноваться и терпеть. Пример тому – Иов, стоически снесший все несправедливые удары свыше. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителя не отвергай» (Иов.5;17). Все верно: рабу – рабская доля.
В религиозной системе Ветхого завета произошло четкое отделение человеческого от божественного. Бог последовательно выкапывал пропасть между собой и людьми, делая их марионетками в своих руках. Бог провозглашался сущим всего, мерою всех вещей и отношений себя. И на это у него, казалось бы, есть полное право – ведь Он создал эту планету, и Он заселил ее, и Он создал Человека, а потому ему виднее, что делать человеку на Земле. Логика внешне безукоризненная. За исключением некоторых «деталей»: Бог, в лучшем случае, имморален. Легко уничтожая людей, Он показывает, сколь безразлична ему человеческая личность. Он пока просто Экспериментатор. Намеренно таинственный, прибегающий к нарочитым эффектам, вроде горящего, но несгораемого куста (современные иллюзионисты легко могут повторить этот фокус), огненного столпа и пр., использующий ядерное и биологическое оружие (уничтожение городов в пламени и моровые язвы ныне Человеку тоже под силу), Яхве изо всех сил старается произвести впечатление на неграмотных, далеких от науки кочевников, но те, почему-то упорно сторонятся его. Малоудачными оказались и попытки представить Себя безгрешным. В этом Он кардинально отличается от олимпийских богов, которые не пытались представить себя безгрешными. Есть и другая более существенная разница. Законотворческие деяния Яхве можно отнести к схоластике. Человеческие законы базируются на опыте, схоластика – на умозрительных основах жестко заданной доктрины. У Бога не было опыта существования в рамках морали. В Космосе, среди бездушной материи, таковое просто не требовалось. Бог был один. Мораль же возникает тогда, когда появляется другой разум, другая воля, межличностные интересы, и появляется необходимость выработать принципы совместного существования. Правда, похоже, кроме Бога в Космосе существуют еще какие-то силы, ему не подчиняющие, ему конкурентные, которые Он клеймит и старается дезавуировать. Этих «других» библейский Бог якобы может уничтожить, да вот только «пока нет желания». Он с ними – этими неизвестными силами – во вражде, и эта борьба вырабатывает не мораль, а жестокость, как норму. Когда же Яхве обращается к людям, которым ему обязаны своим появлением на свет, то вынужден выработать какие-то принципы сосуществования. Но срабатывает лишь один нажитый принцип – нетерпимость. Он не может понять, почему его не слушают, не подчиняются так же слепо, как его придворные – ангелы, ведь Он могущественен, Он может даровать то-то и то-то, отнять же все! А в ответ люди ведут себя непослушно (впрочем, часть ангелов восстает тоже!). Поведение Человека, с точки зрения Бога, не логично, и, самое главное, неблагодарно, что сильно уязвляло самолюбие самого Могущественного, самого Умного, самого Великого. Яхве никак не мог понять того, что понял «змей», и что воспринимали как данность боги греков – у человека свой путь, хотя и тесно связанный с Небом, но со своим предназначением. С этим нередко сталкиваются родители, сотворившие дитя по образу и подобию своему, пеленавшие младенца, кормившие его и сначала с удивлением, а потом с раздражением наблюдающие, как глупый отрок вдруг начинает отчуждаться, не слушать отеческих советов, несмотря на все наставления, делать жизнь по-своему. Остается или принять как данность, все же помогая и оберегая по возможности, или предпринять репрессивные меры. Яхве по натуре своей из последних. И тем он нам интересен, ибо позволяет ответить на вопрос о пределах могущества «Всемогущего Бога», а через него – о пределах могущества самого Человека, неуклонно набирающего силу Творца. Оказывается, могущество самого могучего Бога (богов) заканчивается там, где вступает в свои права воля свободной личности. Можно попытаться обуздать, ограничить эту свободу, а можно поискать взаимоприемлемые формы компромиссного существования. Нам предоставлена возможность рассмотреть эти два отличных подхода к человеку на примере античных богов и Яхве.
Античный мир не знал сколь-нибудь развитой религиозной философии и литературы, открывавшей путь к теософии как форме общественного сознания и теологии как средства литературно-философского рефлексирующего творчества.
«Вот здесь он, молодец, хорошо завернул, – подумал я удовлетворенно. – А то еще немного, и можно было смело обвинять автора в покушении на устои. И чего ему в советские времена на эту тему не писалось?»
Иудаизм, а затем христианство, создали изощренную, самодовлеющую теологическую сферу интеллектуальной деятельности, и, как следствие, победил человек, взращенный в пеленах Яхве. Это уже в Новое Время теологии пришлось приспосабливаться к потоку научных открытий, в которых на месте Божьей воли оказывались закономерности эволюционирующей материи. Но в прежние время, до Коперника и Галилея, все сущностное описывалось фактами из Писания. Дело было за их трактованием и проникновением в глубины заключенной там мудрости. Если бы такой подход победил (как это произошло в иудаизме и исламе), человечество навсегда бы погрузилось в статику. Сугубо теологическому сознанию, подчиненному навсегда высказанному в своей самодостаточности Небесному Слову, не нужна экспериментальная наука с ее поиском нового и гиперкритицизмом, где Бог являл собой, сделавшего свое дело Творца, а на его место заступили ищущие истину люди (вспомним эпоху Возрождения).
Яхве был первым теологом и вынудил людей заняться теологией тоже. В ее рамках люди столкнулись с крайним вариантом нормативной этики, с многочисленными запретами и жестокими карами за их нарушение. Запреты у людей были всегда, но они были связаны с конкретными жизненными обстоятельствами. Даже из скудного описания быта семьи Авраама, Исаака, Иакова, их соседей видно, что в вопросах брачных отношений, полевых и домашних работ, взаимоотношений с соседями и т.д. люди исходили из естественных морально-нравственных норм. Яхве же стал вводить десятки искусственных предписаний: какую одежду носить, какую пищу принимать, как справлять праздники… А за отступление от этих запретов – кара… кара… кара. Яхве ввел понятие «нечистого» человека. Люди на всю жизнь попадали под перманентный психологический прессинг. Прожить жизнь, не согрешив, т.е. не нарушив один из Его запретов, было невозможно.
Карандаш: «Закон есть, пока жив грех! Нет греха – нет закона!»
Мне осталось умилиться такой точной «библейской» формулировке неизвестного мне оппонента. Уровень возражений все более склонял меня к сочинению Ивана.
Психологическая и интеллектуальная субстанция Человека («душа») оказывалась заключенной в жесткий каркас и должна была развиваться, подчиняясь его извивам. Для Человека это всегда было мучительным процессом, потому что его свободная природа (его «первородный грех») вступала в конфликт с искусственной запретительно-обрядовой жизнью, естество – с внешне данной Идеей. Так возникало духовное отчуждение, ставшее в философии одной из центральных тем. Внешнее поклонение сплошь и рядом стало вызывать внутреннее сопротивление. Собственно, в этом конфликте была заключена вся экзистенциальная парадигма европейской христианской культуры, начиная с Абеляра и далее через Ренессанс, протестантизм, Фейербаха, марксизм, Ницше к французскому экзистенциализму и прочая и прочая. То было многовековым движением по преодолению отчуждения Духа от Материи, которого не было в золотом веке эллинской культуры. Ведь в мифологии материя одухотворена, природа слита с божественным, а сам человек – с природой. Человек естественен, и его нагота не греховна, ибо природна, зато Яхве был крайне обеспокоен проблемой наготы тела и заповедовал целый свод правил о том, кто чего не должен видеть. Было запрещено ходить женщинам с непокрытой головой, открывать руки выше кисти и т.д., в итоге возник новый вид греха – вожделение того, что греховным быть не может по определению, ибо волосы или руки могут быть красивыми, но не относятся к деторождению (а запреты у людей, не знавших Яхве, касались прежде всего этих вопросов). Единый мир был расчленен на «грязную» материю во главе с «греховным» человеком и чистую, недосягаемую для смертного сферу Идеального. Гармония единства противоположного распадалась на самостоятельные антагонистические половины. Концепция смертного греха человека, посмевшего обрести свободу воли в Эдеме, завершила дело. Она проникла даже в Грецию и ту тоже охватил процесс расщепления, который можно охарактеризовать как первый кризис гуманизма в мировой истории – Платон отделил материю от идеального и противопоставил одно другому (что потом так понравилось христианским теологам). Бог закрепляет успех доктриной греховного. Прекрасная планета, аналогов которой найти в Космосе не удалось, превращалась в обитель греха, промежуточной станцией на пути к раю – подлинно прекрасному местопребыванию человека. Только мертвого. Истово верующие уходят в монастыри и запираются там подальше от земного в ожидании смерти как счастливого преобразования своего бытия в инобытие. Бог (казалось) одержал полную победу над человеком! Земное обернулось малоинтересным событием в жизни людей.
Но это произойдет позже, а пока Яхве непрестанно воюет со своими избранниками.
Читатель Пятикнижия найдет множество примеров того, что Бога боялись, но нигде нет примеров подлинного уважения к нему, не говоря уже о любви со стороны «избранных». Евреи гнулись под грузом своего «избранничества», которое для народа оборачивалось многочисленными бедами. А для счастливой жизни, как внушалось, надо было совсем немного – всецело подчиняться Яхве! Чего может быть проще? Но «глупые» израильтяне-богоборцы раз за разом роптали против его власти, на что Бог отвечал новыми болезнями и смертями, принуждая возвращаться в лоно «избранничества». («…Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет» – книга пророка Исайи. 1; 2-3.). Но народ «почему-то» не хотел уподобляться волу или ослу, поэтому на одном страхе Яхве не смог бы утвердиться в качестве Бога израильтян. Поняв это, Он создал сложные ритуалы, привязывающие людей к новой религии силой привычки через подавление воли и укоренение норм покорности в сознании. И чем сложнее и запутаннее были ритуалы и изощреннее запреты, тем крепче с каждым поколением впитывались стереотипы через внушение по принципу «не рассуждай, а исполняй». Те, кто осмеливались протестовать – уничтожались. Те, кто смирялись – поощрялись. Шел отбор уже на психо-генетическом уровне. Нормальный тоталитарный отбор. Психологические связи разорвать много труднее. Здесь зачастую логика уже бессильна. Апелляции к разуму, когда в подкорке господствует стереотип «верую, ибо это абсурдно!» мало что дает. Человек, как собака Павлова, реагирует на выученные сигналы, остальное – от лукавого. Просчет тех, кто поддерживал культы языческих богов, заключался в том, что они не оставили письменной традиции – священных текстов (скрижалей), которые можно было бы неустанно комментировать, развивая традицию аргументированного рабства (а умозрительно доказать можно абсолютно все: и что Земля плоская, и что Солнце крутится вокруг нее), отыскивая в текстах то, чего первоначально не было и, дополняя тем, чего явно со временем начинает не хватать. То есть, нужна была интеллектуальная связь с религией. Те мировые религии, которые создали такую традицию, сохранились до наших дней. Мифы проигрывали в этом пункте теологии. И здесь Бог был прав, внедряя новую парадигму, сформулированную затем апостолом Иоанном: «В начале было Слово». Сознание преобразуется словом, но обратному процессу препятствуют стереотипы, узаконенные в обрядах и ритуалах, а формообразующее качество закрепляется в письменном Слове. Письменное Слово охраняется путем сакрализации – придания ему статуса священного, т.е. неприкосновенного и безмерно глубокого. Яхве понял суть стереотипизации человеческого сознания, использовал его и выиграл.
Карандаш: «Кто же создал сознание, если Бог уже потом его «понял и менял»?»
На обороте листа уже другой рукой написано: «Суть взаимодействия Бога с человеком в самопознании Бога. Да, Он создал сознание, но смог понять все извивы сознания только в ходе отстраненной человеческой сознательной деятельности. Так происходит со всеми изобретениями и открытиями законов природы. Ученый открывает, изобретатель создает на этой основе прибор или механизм, но только на практике становятся ясными все возможности открытого или созданного. История взаимодействия свидетельствует: Бог не всемогущ изначально, он тоже познает и учится!»
«Это, наверняка, Иван отвечал», – решил я.
Почерк у Разуваева был скорый, захлебывающийся, а у «карандаша» – четкий, буквы выписанные. Возбуждение духа у одного, сказал бы я на основе их сличения, и спокойствие у другого. Если лезешь, куда не просят, наверное, всегда так.
Но теперь самое время выяснить, что было выиграно, надолго ли, и какую цену кому пришлось платить.
Личность Бога
Всех богов можно поделить на две категории. В первую отнести богов, олицетворявших мощь природных сил и человеческие качества. Например, Юпитер – гроза, сила; Посейдон – шторм, стихия, глубина, скрытность; Марс – война, смелость, решительность, однозначность; Венера – красота, любовь, излишества, кокетство и т.д. Таких богов потому и было много в пантеоне, что они отражали многообразие мира. Но в этом случае мир оказывался автономным по отношению к богам, ибо ни один из них не мог объять его целиком. Однако появился бог, который сказал о себе: «Мир – это Я!». Яхве объявил одному из племен, что все существующее создано им: Солнце, Земля, все живое на ней и сам человек. Абсолютно все! Включая добро и зло. И что Он полностью властен над жизнью и смертью, над течением времени, а потому – над будущим. Ни один из богов первого ряда не мог помыслить о заявке на такую абсолютную власть. Как бы ни были они могущественны, над ними царила еще большая сила – Рок, Фатум. Яхве же заявлял себя выше Рока! Вернее, он вмещал в свою Личность и сам Фатум. (Несмотря на то, что Он не смог предотвратить произошедшее с Адамом и Евой, Авелем и Каином, предвидеть события, предшествующие потопу и т.д.). Уразуметь и поверить в это человеку древности, было намного сложнее, чем нынешнему, прошедшему теологическую ковку. Это противоречило его опыту, полученному при наблюдении за многообразием мира. Человек древности – стихийный диалектик, потому что он являлся частью природы, наблюдал ее изнутри. Он еще не «выломался» из нее, не принялся покорять ее, и человек нутром понимал – любая сила ограничивается другой силой, которая защищает мир от своеволия. Этот баланс сил – своеобразный закон мироздания. У египтян Осирис умирает от действия одной – враждебной – силы бога Сета и воскресает под действием другой – любящей – силы богини Изиды. Все силы автономны по отношению друг к другу. Их противоборство и объясняет диалектику в мире добра и зла. С приходом Яхве причина существования Зла стала совершенно непонятна. Яхве его терпит и его наличие во Вселенной сваливает… на людей!
Почему с точки зрения древних людей в мире должен действовать закон равновесия сил? Потому, что все живое не может быть игрушкой в руках одной силы и зависеть роковым образом от ее капризов. (А что Яхве может быть капризен, нетерпелив, без меры жесток, мы уже убедились на конкретных примерах, в том числе в том, что эта сила способна уничтожить все живое, в потом убедиться в ошибочности содеянного). И вот появился Некто с утверждением, что он есть Все, он Абсолют и в качестве доказательств демонстрирует разрушительную силу – сеет смерть и требует на этом основании полного подчинения. Естественно, что далеко не все согласны обменять свою свободу и право жить на безусловное требование Бога жить там, где он укажет и делать то, что он им скажет. Другие боги подобных требований перед людьми не выдвигали. Люди сами решали свои дела, обращаясь к богам лишь за помощью и покровительством. То были отношения вассалитета, а новый Бог требовал добровольного перехода в рабство. У израильтян выбора не оставалось. Сопротивляющимся была уготована смерть, остальным – обрядово-ритуальная психотерапия. Это эллин мог исследовать мир, создавая науку, а иудеям оставалось комментировать дарованные тексты и формировать, как царицу знания, теологию и в последующем такую эзотерику, как Каббала. Если бы цивилизация замкнулась на схоластическом комментировании, человечество могло бы так и не узнать о существовании электричества. Настоящий ученый хоть в чем-то да еретик.
Желания Бога понятны, но методы и средства… Бог хотел создать «инобытие» на Земле. Предположим, как идея – это хорошо. Но Он выбрал людей, не желавших пребывать в нирване «инобытия», и не готовых к созданию нового духовного мироздания, лишенного свободы воли и разума. Уже много позже иудаизм смог это сделать, и на это ушли многие века. Спешка в таком деле, как создание новой духовной реальности, больше вредит, чем приносит пользу. Яхве выступил как своеобразный ницшеанец (да он и был первым ницшеанцем на Земле), провозгласившего идеологию Сверхнарода на том основании, что он Сверхбог (Сверхличность) и потому стоит «по ту сторону добра и зла». Он попытался совместить две противоположности: создать народ – светоч для всех других народов, и при этом оставить его послушным орудием в своих руках. Однако чтобы стать «сверх» надо иметь, как минимум, свободную волю. Из крепостного нельзя сделать «сверхкрепостного». Может получиться только раб. Так оно и было. Для Яхве люди – сырой материал для реализации его замысла – создания сверхнации, наделенной добродетелями по заранее установленному списку. И проявление свободной воли людей, их желания, рассматривались как досадная помеха на пути к вычисленному им совершенству. Все это потом повторилось в ХХ веке в утопиях коммунизма и фашизма, причем, по сути дела, один к одному. К тому же, раб не может стать путеводной звездой для свободного человека. То есть, и в этом пункте Яхве ошибся, породив ответное сопротивление в виде отрицания его как Бога – атеизм.
Библия – единственная сакральная книга, которая крайне драматично, «по-шекспировски», ставит проблему Бога и Человека. Пятикнижие пропитано богоборчеством, потому что библейский Бог – грешен, о чем хоть иносказательно, но буквально вопиет Автор!
Кто этот автор, что столь смело описывает самые неприглядные поступки Бога, мы не знаем. Традиция отдает пальму первенства Моисею, но точного ответа нет. Только по тексту видим – автор относится к Яхве без пиетета. Наверняка, поздние переписчики пригладили и спрямили углы, в частности изъяв объяснение Каина, но суть и дух повествования остались. Первый летописец не мог давать прямые оценки, уводя их в подтекст, оставляя на поверхности только факты. Но ясно видно, для него неприемлем тезис «цель оправдывает средства». И приводя примеры все новых деяний Яхве, будто восклицал: «Имеющий уши, да услышит»! Но глухи, читающие страницы его горестного повествования. Они не видят, что рай Адама и Евы больше похож на модель тоталитарно-патриархального общества, где царь-патриарх печется о своих подданных в обмен на их свободу. Такое общество имеет свои осязаемые преимущества: в нем обеспечивается безопасность, там есть еда и минимум развлечений (Адам заскучал, и ему привели женщину). Это санаторий, но… для лиц со стерильным разумом. Уход человека из вольера, есть, одновременно, начало создания независимого социума, своей, особой цивилизации в Космосе. Адам и Ева получили способность отличить себя от животных («и увидели, что наги»). С их уходом из лаборатории «Эдем» начался длительный, противоречивый, но плодотворный путь поиска Человека человеческого, своей индивидуальности, своей судьбы, своего назначения в Мироздании, что позволило зажечь светочи Гомера, Сервантеса, Шекспира, Леонардо… Расставшись с Эдемом, люди должны были взять на себя ответственность самим решать проблемы своего бытия. И человечеству удалось с честью выйти из тяжелейшего положения. Немало людей продолжают жалеть о теплом вольере, где не надо думать о пище, где нет труда и забот, где не надо в муках рожать детей, а человек освобожден от творчества и радости созидания, ибо все необходимое уже создано и преподнесено. Это понятно, только они не понимают, что в ином случае их просто бы не было, как и всего остального человечества. Познание Адамом и Евой добра и зла на самом деле есть не падение человека, а величайший творческий акт, означавший начало саморазвития Человека. Только после этого человек Эдема становится Человеком планеты Земля!
Здесь можно было бы поставить точку, если бы не удивительный драматургический поворот, второе действие, известное как «Новый завет». Коренное отличие одной эпической части от другой настолько зримо, что не могло не вызвать смятение умов и раскола среди приверженцев библейского Бога. Что-то произошло на Небе. В Боге произошла удивительная перемена – в его психологии и видении проблемы взаимоотношений с людьми. Произошел кардинальный пересмотр Богом своих этических принципов и, соответственно, практики. Случилось невиданное – покаяние Бога!
Я отложил рукопись. На сегодня хватит. С меня хватит! Часы показывали одиннадцать. Надо было передохнуть. Я лег спать. Но куда там! Начался естественный процесс потока мыслей по поводу…
Но почему-то я стал думать не о библейских перипетиях, а о том, как потом пришлось жить новому народу с такой религией среди других народов. У тех боги на всемирное величие не претендовали. А евреям пришлось объявить, что они богоизбранные! Благо бы сумели создать империю, как ассирийцы или персы с римлянами, было бы основание, а то… Наверное, над ними смеялись. И раздражались… Я попытался представить себя в качестве избранного. Тем более что у меня теперь есть причина считать себя отмеченным Небом. Я прислушался к себе… Ничего богоизбранного внутри не ощутил. В постели возлежал все тот же Арсений Горенков, средний преподаватель среднего вуза в среднем городе со средними мыслями о Мироздании. Может, еще все впереди? Я опять вернулся к судьбе израильтян. Ничего богоизбранного они в себе явно не чувствовали. Как я не ощущаю себя таковым, хотя за стенкой живет посланец небес, так и они не чувствовали свое величие перед ликом грозного Воспитателя. Чтобы ощутить свою исключительность надобно самому повелевать. А когда тобой крутят, как хотят?…
