Кампанелла
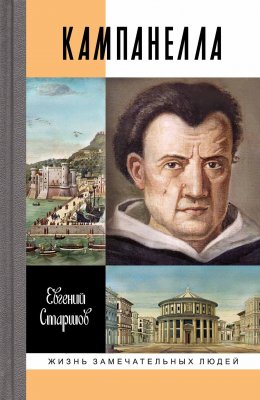
© Старшов Е. В., 2025
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2025
Предисловие
…[Аристоник] собрал толпы бедняков и рабов, привлеченных обещанием свободы, назвав их «гражданами Солнечного града».
Страбон о восстании пергамцев против римлян в 133–129 гг. до н. э.
Томмазо Кампанелла… Человек эпохи Возрождения. Его образ выделяется в череде титанов того времени своей трагичностью и стойкостью: три десятка лет с лишним в тюрьмах испанских оккупантов и римской инквизиции, страшнейшие пытки, которым его подвергали, не сломили его дух и не угасили пылающий Разум, который, по учению Отцов Церкви, вместе со способностью к творчеству и делают человека подобным Богу. И Кампанелла творил в этих невозможных условиях, терзаемый пытками и голодом, порой не видя солнечного света. Его мысль и слово устремлялись к этому небесному светилу, уделяющему свои животворные блага всему сущему, без различия достоинств и чинов; недаром именно в сырых и мрачных казематах Италии родилась, вызрела и окрепла у гениального узника великая социалистическая Утопия – «Город Солнца», в котором все живущие трудятся добровольно по своим склонностям, на радость и благо себе и своим согражданам, не зная всех тех социальных зол неравенства и угнетения, от которых стонала родина автора, истерзанная чужеземными оккупантами – испанцами, своими принцами, ставящими личные интересы превыше всего, а также хищными церковниками всех рангов, забывшими заветы Христа и апостолов ради обогащения, похоти и власти. Такова была Италия времен Кампанеллы, и мало было – и есть – мест и времен, когда что-то было бы радикально иначе…
Но личность Кампанеллы, его воззрения и огромное философское наследие, составляющее примерно 30 тысяч печатных страниц, ставят много острых и, возможно, так и не подлежащих разрешению вопросов. Начать хотя бы с того, что в зависимости от времени, общественного строя и еще превеликого множества факторов наследие великого итальянца используется, причем с успехом, в диаметрально противоположных целях. Как и Библия. В советское время было принято видеть в нем исключительно автора «Города Солнца», в то время как прочая основная часть его наследия оставалась в небрежении и лишь некоторые фрагменты его трактатов были переведены. Это неудивительно: их религиозно-философская тематика мало подходила к образу социалиста-утописта. А политический трактат об Испанской монархии в советском «кампанелловедении» вообще постигла весьма причудливая судьба: изложенные в нем мысли и советы заключенного (осужденного именно за антииспанское восстание) испанскому же королю настолько противоречили образу борца и патриота, что историк А. Штекли, например, в середине прошлого века выдвинул причудливую теорию о том, что Кампанелла, желая избежать казни, сочинил этот трактат в тюрьме, пометил задним числом и переправил на волю, чтоб испанцы, «случайно» найдя его при обыске, поверили бы в верноподданность автора. Ко всему этому мы еще вернемся, пока же только намечаем вехи.
Работа Штекли, трижды переизданная в середине XX века, неплоха, читается, согласно одному из отзывов, словно приключенческий роман, но у нее – своя большая беда, впрочем вполне объяснимая. Образ Кампанеллы в ней предельно модернизирован; отдавая дань социалисту-утописту, философу-ученому, призывающему отказаться от схоластических авторитетов и заниматься изучением природы и ее законов, автор игнорирует тот факт, что Кампанелла был глубоко верующим христианином и – одно другому тогда совершенно не мешало – сильно и искренне увлеченным магией и астрологией человеком. Причем последнее трактуется как очередная уловка, чтобы держать в руках суеверного папу римского, и т. п. Кампанелла, монах-доминиканец, представлен Штекли как типичный советский комиссар, пламенный революционер и атеист. Понятно, что «советский Кампанелла» и не мог быть иным, но автору пришлось сделать множество натяжек, в итоге только бросавших тень на великий образ. Так, якобы будучи атеистом, Кампанелла, зная отсталость и суеверие своих сподвижников, сознательно морочил их религиозными баснями. То есть, по Штекли, фактически лгал им. Грубым подлогом ради собственного спасения, согласно тому же автору, было создание трактата об Испанской монархии. И таких примеров много, но здесь критика чужого труда – не основная цель. Справедливо подметил советский автор А. Х. Горфункель в своем прекрасном труде 1969 года (аргументированном, сдержанном в оценках, с использованием многих интереснейших материалов в собственном переводе), что, будь религиозные взгляды Кампанеллы фальшивкой – как скажем мы – для приманки людей невежественных или для спасения собственной шкуры, он непременно опроверг бы их, выйдя на свободу и, более того, оказавшись за пределами Италии, вне досягаемости инквизиции, однако не сделал этого! Следовательно, действительно верил в Бога, святых и прочее, отстаивая примат римского папы над светскими властителями и католической веры – над прочими исповеданиями и религиями. С этой точки зрения стоит рассматривать и сложный вопрос о том, объявлял ли себя Кампанелла Мессией, то есть Сыном Божьим, во время Калабрийского восстания 1599 года (его подготовка, разгром и следствие прекрасно представлены в еще дореволюционной работе А. К. Шеллера-Михайлова, к сожалению этим вопросом лишь и ограничившегося).
Нельзя не отметить тот факт, что католическая церковь, столь долго терзавшая и преследовавшая философа при жизни, в итоге признала, что только теперь доросла до его религиозных взглядов и, не найдя в них ничего еретического (что тоже архиважно при постановке и рассмотрении данного вопроса), приняла и оценила его христоцентричное учение о государстве, равно как и тридцатитомную энциклопедию богословия. При всем старании, ознакомившись со всеми возможными списками святых и статьями католических энциклопедий, мы не нашли подтверждения информации из аннотации к современному переизданию книги Штекли о том, что Кампанелла – «еретик в прошлом, в 2006 году канонизированный Католической церковью как святой». Основываться на столь эфемерном утверждении, разумеется, невозможно. Но, вполне, впрочем, допуская это (если вспомнить подобную посмертную реабилитацию, например, Жанны д’Арк), отметим, что данным актом католическая церковь только увенчала бы долгий процесс и труды тех, кто, игнорируя Кампанеллу как социалиста-утописта (мол, «Город Солнца» – так, малозначимая «шутка гения»), представлял его как мрачного философа контрреформации[1], злобного «цепного пса» папского Рима, который тем ревностней служил хозяину, чем сильнее тот его бил. Именно такова «вторая ипостась» Кампанеллы, и, хоть можно не соглашаться с этой характеристикой, или, скорее, с ее исключительностью, сбрасывать ее со счетов тоже нельзя.
Новое время и коренной слом прежней идеологии в России неизбежно привели к попытке пересмотреть образ Кампанеллы как исключительно революционера. Примером может служить перевод (и публикация) фрагментов интереснейшего трактата «О чувстве, заключенном в вещах, и о магии», выполненный М. Фиалко. В нем, что называется, из первых уст мы получаем свидетельство о Кампанелле как знатоке магии.
Прежде чем сказать несколько слов о том, чем же нов и интересен представляемый читателю труд, завершим начатую мысль о многогранности облика и воззрений Кампанеллы. Несомненно то, что он высказывал диаметрально противоположные мысли по одному и тому же поводу. Поднимает антииспанское восстание – и пишет в тюрьме книгу поистине дьявольских советов испанскому королю, как стать властелином мира. Ругая Макиавелли за его беспринципные советы государям и являя в сонетах образец мудрого и справедливого правителя – он уподобляется тому же автору «Государя», давая испанскому королю советы, преисполненные коварства и жестокости: недаром англичане, переводя его трактат, что называется, «для внутреннего употребления» (дословно в заглавии – «Переведено на английский язык… и опубликовано для пробуждения англичан дабы предотвратить приближающееся уничтожение нации»[2]), назвали его автора «Вторым Макиавелли». Втягивает турок в антииспанский союз с калабрийскими повстанцами – и предлагает несколько способов разгромить османов и стереть с лица земли их государство. Причитает в сонете о том, что итальянцы носят черные одеяния своих завоевателей – и дает в трактате советы испанскому королю «испанизировать» подвластные ему земли. Ублажая духовенство льстивым словом, в сонете пишет, что сами служители Христовы заготовили для Иисуса немало крестов, если Сын Божий вдруг надумает вновь снизойти на Землю, и советует ему вернуться вооруженным… И так далее. Что на это можно сказать? Что Кампанелла был неискренним и беспринципным лицемером, каким он порой, вольно или невольно, проявляется в биографии работы Штекли? Нет, изучение его трудов показывает, что он был искренен. Просто надо искать корни этих противоречий в перемене его взглядов, в обстоятельствах и во времени. Очевидны же его юношеские метания от натурфилософии Телезио к магии делла Порты и обратно? Так и испанский король – мог быть врагом, против которого по пламенному призыву Кампанеллы восстает Калабрия, но в глобальном смысле именно он, похоже, может объединить мир под властью папы и покончить с еретиками… Турок сгодится, чтобы свергнуть чужеземное иго, но в целом он – злейший враг христианской Европы… Идеализировать Кампанеллу нет ни задачи, ни смысла. Если судить по делам его, он не был, что называется, твердолобым мучеником: ему велели отречься в Риме от своих как бы еретических взглядов – на знаменитой подобными актами паперти церкви Санта-Мария-сопра-Минерва у резиденции доминиканских инквизиторов (там же отрекались, например, Галилей и Калиостро) – он сделал это. И вопрос о том, «заложил» ли Кампанелла на пытках своих соратников (как это допускают или утверждают Шеллер-Михайлов и Штекли), на самом деле вовсю дававших против него самого нелепейшие показания, – тоже существует и нуждается в изучении, причем не факт, что на него, как и на многие иные, в предлагаемой вниманию читателя книге будет дан точный и исчерпывающий ответ. Опять же: правомочно ли осуждать человека и ждать от него полной безупречности, если ему довелось пережить, например, «велью» – это когда пытаемого поднимают на веревках над железной пирамидой или, как в случае с Кампанеллой, деревянным колом и насаживают на него, регулируя натяжение (об этом еще будет рассказано подробно) – и длится это до 40 часов (Кампанеллу пытали 36 часов)? Это только один пример, и вполне понятно, что в своих тюремных стихах несчастный даже на Бога, в которого непоколебимо верит, ропщет. Богооставленность… мы даже и близко понять не можем, каково это для человека его времени, воспитания и склада ума.
Разумеется, всегда были попытки объяснить это раздвоение сумасшествием, причем существуют две версии. Первая – что он не симулировал душевную болезнь, затягивая судебный процесс и избегая казни, но действительно сошел с ума. Эта версия не только обесценивает силу его духа, проявленную во время «вельи» (именно то, что он не сознался на этой пытке в симуляции, и спасло его, что сторонники данной версии расценивают как доказательство его реального сумасшествия), но и неоднократно опровергается самим Кампанеллой как в его философских, так и в поэтических трудах. Да, формально его сочли сумасшедшим и временно оставили в покое, хотя и в заключении. Но стал бы реально сумасшедший славен по всей Европе своими трудами, пересылаемыми «на волю», назначил бы его своим астрологом папа римский, а советником (по итальянским делам) – сам великий Ришелье, по уму своему вряд ли нуждавшийся в особых советниках, тем паче умалишенных? Нет, конечно. Кроме того, все это является ответом и на вторую версию – будто Кампанелла сошел с ума позже, в результате пыток и многолетнего заключения. «Доказательством» ставят не только его диаметрально противоположные взгляды на одни и те же вещи, явления и процессы, что уже было отмечено, но и работы по магии, астрологии, суеверие, а то и саму веру. Такие обвинения подойдут, скажем так, в наше время, но нельзя их предъявлять человеку XVI–XVII веков. И если он толкует об ангелах, управляющих государствами, и развивает на этом основании целую философию истории, то это вовсе не сумасшествие, а вполне приемлемое для монаха-доминиканца приложение на практике Слова Божия из первых глав Апокалипсиса.
Александр Горфункель верно пишет, критикуя теории Штекли и Амабиле: «Кампанелла не был лицемером. Он не продавал свое перо и свою мысль – ни за деньги, ни за свободу. “Ты знаешь, что я не продажен”, – писал он, обращаясь к Венеции в 1606 г. …Парадокс Кампанеллы не в раздвоении личности, а в сложности и противоречивости его мировоззрения… Все свои книги Кампанелла рассматривал как части одного огромного свода “наук, восстановленных фра Томмазо Кампанеллой в соответствии с собственными принципами, на основе двух божественных книг – Природы и Писания”. В основе многообразного литературного наследия калабрийского философа лежит общая система взглядов, именуемая философией Томмазо Кампанеллы. Системе этой свойственны глубокие противоречия, но это именно внутренние противоречия системы, а не внешние несовпадения отдельных книг».
Да, эта многогранность и неоднозначность автора вполне объяснимо распространяется и на его детища. Тот же «Город Солнца» вполне может стать ребусом для пытливого ума. Произведение небольшое и явно уходящее своими корнями в произведения Платона и Мора, хотя и не копирующее их, самобытное. Если смотреть с одной, некогда единственной идеологически верной стороны, – это идеальное и светлое будущее человечества. А с другой – не вода ли это на мельницу папы римского, гимн мудрому первосвященнику, главе вовсе не коммунистического, но теократического государства? Наконец, память человечества хоть и коротка, но пока еще достаточно крепка для того, чтобы прозреть в некоторых чертах «Города Солнца» прообраз государственного тоталитаризма, кроваво явившего себя в сталинском барачном коммунизме и гитлеровском фашизме, – впрочем, в последнем историки философии не боялись упрекать и самого велемудрого Платона…
Чем же может быть нова и интересна для читателя данная книга помимо изложения биографии великого калабрийца? Имея уникальную возможность изучить трактат «Об Испанской монархии» в английском переводе 1660 года, мы покажем Кампанеллу не только как революционера и философа (что уже сделали с разной степенью успеха и объективности А. К. Шеллер-Михайлов, А. Г. Генкель, А. Э. Штекли, А. Х. Горфункель, В. П. Волгин, Ф. А. Петровский, С. Л. Львов, Д. В. Панченко, М. Фиалко и ряд иных отечественных и зарубежных – от Л. Амабиле до Ж. Делюмо и Д. Эрнст – авторов), но и как талантливейшего политика. Несколько глав трактата переведены нами полностью – это касается прежде всего Италии, Сицилии и Сардинии, а также Англии (в свое время именно эта глава особенно всполошила англичан и подвигла их перевести трактат) и Московии, что, разумеется, будет небезынтересно для отечественного читателя, особенно если процитировать восторженный отзыв дореволюционного исследователя М. Ковалевского о том, что, как оказалось, «не в уме великого реформатора нашей отчизны (Петра I. – Е. С.), а в голове доминиканского монаха зародилась впервые мысль о соединении Византии с Москвой». Куда там нашему известному старцу Филофею с его «Третьим Римом», когда сам великий фра Томмазо возвестил, обращаясь к Михаилу Романову: «И новые небесные знамения, и старые пророчества свидетельствуют, что Москве предназначена Богом большая задача»! И совсем практически неизвестный факт: Кампанелла сам в случае освобождения был готов приехать на Русь в качестве проповедника католицизма.
Учитывая, что, кроме «Города Солнца», из всех произведений Кампанеллы переведены лишь небольшие, а то и просто крохотные фрагменты, а трактат «Об Испанской монархии» вообще пал жертвой своеобразного «заговора молчания» из-за специфики своего содержания и целенаправленности (что уже было отмечено ранее), автор испытывает скромную радость оттого, что еще одна часть наследия великого итальянца станет достоянием широкой русскоязычной общественности. Автор полностью разбил общепринятые обвинения, предъявленные Кампанелле римской инквизицией в 1594 году, – знаменитые три пункта, перепечатываемые из биографии в биографию, не имеют ничего общего с действительностью. Также, возможно впервые за все время, будет представлена авторская версия того, кто именно скрывается за участниками знаменитого диалога в «Городе Солнца», в первом из которых западная наука ошибочно видит Великого магистра Ордена иоаннитов (госпитальеров), а наша – столь же ошибочно и неправомерно разжаловала его в некие «гостинники»; второй же собеседник, столь же необоснованно «разжалованный» в простые моряки переводчиком Петровским, является генуэзским адмиралом. В Приложении помещен прозаический перевод с английского всего корпуса философско-религиозных и политических сонетов Кампанеллы, опубликованных при его жизни (доныне из 60 переведены лишь 11 – и это за период с 1954 по 2020 год), и избранные станцы, являющиеся не только неотъемлемой частью идейно-философского наследия Кампанеллы, но и блестящим свидетельством стойкости его духа под тяготами пыток и тюрем, поскольку сложены они были именно в заключении. Жаль, что уцелела лишь небольшая часть, хотя время от времени появляются новые ценные находки. Доводы в пользу подобного рода перевода и его необходимости приведены перед текстом сонетов, также сопровождающихся комментариями выполнившего перевод автора данной книги.
Отдельно стоит отметить публикацию фрагментов подлинного допроса Кампанеллы на 36-часовой пытке «велья». Впервые опубликованные на русском языке в 1940 году на страницах журнала «Антирелигиозник», в нашей стране они более не переиздавались, хотя были известны авторам работ о Кампанелле. Теперь, спустя 85 лет, они вновь доступны читателю. При этом автор выражает глубочайшую признательность Юлии Алексеевне Токаревой из отдела обслуживания пользователей ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», любезно предоставившей возможность поработать с этим уникальным материалом.
Как уже было сказано, книга скорее может поставить многие вопросы, нежели дать на них прямые ответы. Причин – множество. Недостаток или противоречивость материалов, позднейшие напластования, например связанные с именами Бруно и Галилея. Малоответственные авторы, стремясь, видимо, придать Кампанелле больше блеска за счет «знакомства со знаменитостями», доходят в своих утверждениях до того, что рисуют их закадычными друзьями Кампанеллы, что, мягко говоря, неверно: с Бруно он вряд ли общался, хотя не исключено, что оба узника могли увидеть друг друга во время заключения в замке святого Ангела в Риме – речь не о прогулках, где они могли б общаться (а то С. Львов вообще дописался до того, что Бруно в застенке чуть не школу свою организовал, в которой Кампанелла был пылким слушателем), а о случайной встрече в тюремном коридоре под конвоем, например. То же с Галилеем: хотя они могли видеться, великий астроном держал себя на расстоянии от подозрительного с точки зрения церковных властей монаха и на письма его не отвечал; можно вспомнить, что Кампанелла выступил с трактатом в защиту Галилея, однако лично вовсе не был уверен в истинности гелиоцентрической системы мира, что отражено в его сочинениях, в том числе в «Городе Солнца». В общем, в данном аспекте всё получается по Сократу, смиренно утверждавшему, что он знает только то, что ничего не знает. Он не подает готовую истину на блюде, словно кушанье. Он пытается найти ее вместе, словно повивальная бабка, помогает собеседнику родить истину в беседе, ставя новые вопросы и анализируя ответы: «Спрашивая тебя, я только исследую предмет сообща, потому что сам не знаю его». Итак, даже не факт, что истина в итоге «родится». Но и попутное истребление заблуждений – тоже неплохой результат.
Автор надеется, что по мере сил дал многокрасочный портрет Кампанеллы, а не черно-белый. При этом фра Томмазо навсегда останется человеком-загадкой, неразрешимой не только для потомков (недаром один из лучших современных трудов о великом калабрийце авторства Жана Делюмо называется «Загадочный Кампанелла»), но и для своих современников. Мы представим много свидетельств pro et contra, касающихся его жизни и учения; выслушаем самого философа, его друзей и врагов. Насколько картина будет соответствовать истине – судить сложно. Казалось бы, не совсем уместно завершать предисловие к столь серьезному труду словами сатирика-современника, но М. М. Жванецкий, конечно, исключение, это не эстрадный шут, а смеющийся философ: «Как узнать правду о себе? У кого? Спросить у тех, кто тебя любит? Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. Да что же их искать? Их полно. И что они тебе скажут? Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правды о тебе и те, кто не любит, не скажут правды о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать? Они же тебя не знают. Как же узнать правду о себе?..» Этот же риторический вопрос можно с полным основанием отнести и к Кампанелле.
Глава 1
Начало пути
Кампанелла очень гордился прозвищем своего деда, которое тот передал сыновьям и внукам, можно сказать, уже в качестве фамилии. Campana по-итальянски означает «колокол». Суффикс – ella – уменьшительный, но он не предполагает фамильярно-ласкательного «колокольчик». Вовсе нет, и смысл этого прозвания открыл сам Кампанелла в двух из своих тюремных сонетов. Кампанелла – отнюдь не колокольчик и не бубенец (у нас переводили и так!), но малый – набатный! – колокол. Тот, который будит людей, сообщая о тревожных вестях и призывая на борьбу. «Мой набатный колокол провозглашает ее (Истину. – Е. С.) королевой у ворот храма широкой Вселенной»[3]. «Но мой колокол нарушил его (духа народа. – Е. С.) тишину! Ты поддаешься, хоть и глухой, слепой, испорченный зверь, пылкому мудрому жару невинного разума!»[4] Изображение колокола присутствует на многих книгах, изданных при жизни Кампанеллы за рубежом, на гравюрах с его изображением, им заверяются его письма. Колокол становится своего рода гербом философа, и весьма символично, что даже на советском издании его беллетризированной биографии пера С. Львова (да еще в серии «Пламенные революционеры») на обложке помещен колокол посреди тернового венца Спасителя, знаменуя миссию и муки великого калабрийца… Как в знаменитом стихотворении Беранже «Идея»: «Штыки преградой мне не будут, // Проникну я во вражий стан. // Сердца людей мой голос будит, // Гремя сильней, чем барабан»[5]. Нередко на гравюрах с Кампанеллой рядом с колоколом помещали слова из библейской книги пророка Исайи: «Не умолкну ради Сиона» (62:1), что можно считать девизом великого калабрийца.
Родился будущий философ-революционер около шести с половиной часов утра 5 сентября 1568 г. в Стило (в Античности – Канзулинуме) неподалеку от Стиньяно, в Калабрии. В те времена слава этих земель давно померкла, поскольку малая родина Кампанеллы вместе с такими историческими областями, как Кампания, Апулия, Базиликата, Молизе и Абруцци, входила в состав Неаполитанского королевства[6], которое с самого своего основания в конце XIII века находилось под властью чужеземных захватчиков: сначала французов, а с середины XV века – изгнавших их оттуда испанцев. Испанцы использовали эти земли как «дойную корову», нещадно выкачивая из Неаполитанского королевства золото, сырье, продукты; очередной вице-король, как правило, задерживался там всего на несколько лет, высасывая все соки и уступая место другому пауку в человеческом обличье; исключением был разве что дон Педро Альварец де Толедо, правивший 21 год, но зато казнивший за время своего правления 18 тысяч человек, столько же отправивший на галеры и «выкачавший» из королевства 20 миллионов золотых… А прежде ведь вся южная часть итальянского «сапога» (Калабрия – его «мысок») была частью Византии – вкрапленные туда мелкие государства лангобардских варварских князей можно в расчет не принимать, поскольку они хотя периодически и воевали с Византией, все равно находились в орбите ее политического и культурного влияния. По ее полям проходили войска сурового Константа II, фактически учредившего в сицилийских Сиракузах свою столицу, где он и нашел свою смерть от руки заговорщиков, ее землю орошали своей кровью сошедшиеся в кровавых схватках воины Карла Великого и императрицы Ирины, ради захвата власти ослепившей собственного сына…
Но войны начинаются и заканчиваются, а жизнь идет своим чередом. Византийское влияние в Калабрии сохранялось очень долго, даже когда юг Италии отсоединился от Византии, погрязшей в иконоборческих распрях. Спасаясь от преследований еретичествующих василевсов Константинополя, в эти места со всей империи бежали иконописцы и художники, священнослужители и богословы[7], философы и музыканты – это была одна из первых волн византийской эмиграции в Италию, подготовивших феномен Возрождения. Достаточно взглянуть на южноитальянские произведения средневекового искусства, памятники архитектуры, чтобы удостовериться в их византийских корнях. Тамошние церковные песнопения, как зафиксированные позднее нотной грамотой, так и передававшиеся изустно из поколения в поколение, – византийские. Уже на излете Средневековья, в XIV веке, известнейший местный уроженец монах Варлаам, философ и богослов, поклонник античной культуры, выступил в Константинополе с рациональной критикой мистического движения византийских монахов-исихастов, погружавшихся в своего рода медитацию, дабы узреть Фаворский свет божественной сущности, вместо практической христианской деятельности, да еще и объявлявших науку «вредной». Разумеется, противники обвинили Варлаама в склонении пред «эллинской премудростью» и, соответственно, в «прелести», то есть уловлении дьяволом. Пожалуй, во многом Варлаама можно было бы назвать предтечей Кампанеллы, хотя последний вряд ли одобрил бы схоластическое преклонение предшественника перед Аристотелем. Между прочим, в Стило, на родине Кампанеллы, до сих пор живут говорящие по-гречески потомки византийцев. Вряд ли мы ошибемся, отказав великому мыслителю в греческих корнях.
Такова была Калабрия, взрастившая своего великого сына – Кампанеллу – и вполне сохранившая до его времени мощный культурный запал Византии (это мы еще не говорим подробно о том, что в куда более древние времена эти земли со знаменитейшими городами Кротоном и Сибарисом назывались Великой Грецией и по своему культурному развитию весьма опережали Грецию Балканскую). Века постоянной борьбы с захватчиками сделали из калабрийцев – потомков луканцев, греков, а также римских, германских, норманнских, арабских[8] и прочих завоевателей – людей мужественных, стойких, отважных и жестоких. Александр Дюма писал своих знаменитых «Калабрийских бандитов» не на пустом месте (во второй половине XVI века были известны, к примеру, Марко Берарди по прозвищу Король Лесов, он же Марконе – впоследствии именно под его фамилией престарелый Кампанелла бежит во Францию, Марко Скьярра, имевший в своем распоряжении четыре тысячи головорезов и огромную сеть доносителей, а также Нино Мартино, чей сын примет участие в восстании Кампанеллы). И даже лишенные физической свободы, они сохраняли свободу воли, духа и мысли, что прекрасно доказал наш герой.
Родителями его были простые люди – сапожник Джеронимо Кампанелла и его супруга Катарина Мартелло[9] (или Базиле). Крещен он был через неделю после своего рождения, 12 сентября 1568 года, в приходском храме Сан-Бьяджо. Что Стило, что соседнее Стиньяно (их разделяют примерно восемь километров) – крохотные городки, нередко именуемые деревнями (Стило даже сами итальянцы называют одной из «самых прекрасных деревень в Италии»). Порой, введенные в заблуждение понятием «деревня», некоторые авторы представляют детство Кампанеллы проводимым в жалкой деревянной лачуге, открытой всем ветрам. О, надо знать итальянскую деревню! Как правило, это ряд добротных, хотя и неказистых каменных домов, да не об одном этаже, окружающих архитектурную и вместе с тем духовную доминанту – местный храм, не всегда роскошный, но, как правило, солидный, каменный, нередко – византийских времен. Порой рядом возводился небольшой замок окружного феодала, имевшего подобные резиденции во многих подвластных ему населенных пунктах (и вовсе не обязательно в городах!), или хотя бы сторожевая башня. Путешествуя по глубинкам Италии, тут и там встречаешь подобные деревни с крепостями, служившими видимым знаком власти сеньора над своими подданными, но в то же время обещавшими им защиту при нападении очередного врага, будь то мусульмане или ополчение ретивого соседа. Замок в Стило, кстати, тоже есть.
Родной дом Кампанеллы в Стило сохранился, по крайней мере, об этом свидетельствует указатель, с небольшой оговоркой утверждающий, что согласно письменным свидетельствам, возможно (!), это и есть тот самый дом, под чьим кровом рос будущий философ. Строение, надо сказать, весьма интересное – крепко сбитое из больших камней, напоминающее скорее крепостную башню, а кладка стен его типично византийская, безошибочно позволяющая опознавать наследие византийских архитекторов по всему миру: ряды камней перемежаются кирпичной плинфой, которая, придавая кладке определенную гибкость и способность к амортизации, позволяет постройкам устоять при землетрясениях.
Однако добротный древний дом еще не показатель благосостояния. Дело отца не процветало, поскольку заказчиков по округе было немного, да и заказы были явно не дорогостоящие. Позже стесненные обстоятельства заставили семью перебраться в соседний Стиньяно; когда именно и по какой причине – сказать сложно; если верны предположения А. Шеллера-Михайлова и А. Штекли, что причиной была эпидемия чумы, занесенной из Алжира в Мессину и распространившейся далее, то этот переезд можно датировать 1575–1576 годом. Сам философ вспоминал в одном из писем своему почитателю, что родился в нищете. Джованни Доменико – именно таково было мирское имя Кампанеллы – был первенцем; позже родились его брат Пьетро (или Джампьетро) и сестры, но уже в пятилетнем возрасте дети наполовину осиротели – скончалась их мать.
Сведений о детстве и отрочестве Кампанеллы крайне мало, и, кроме того, достоверность некоторых довольно сомнительна, хотя они и канонизированы во многих биографиях, причем довольно ранних, на которые ориентировались и более поздние. Но объединяет их один факт – несомненная тяга к познанию и самообразованию, свойственная великому калабрийцу, иначе он просто не мог бы стать тем, кем в итоге стал. Так же несомненно то, что отец напрямую не мог помочь образованию сына, ибо был неграмотным, но делал все возможное, чтобы посодействовать ему в этом. Это выгодно отличает его от многих легендарных фигур типичных отцов гениев, препятствовавших возвышенным устремлениям своих сыновей, желая, чтобы те наследовали семейное ремесленное дело. Напротив, Джеронимо Кампанелла отлично понимал, что только грамотность и образованность смогут помочь его сыну, в котором он, несомненно, разглядел незаурядные задатки, избежать его собственной участи. Тем более что относительно наглядный пример был перед его глазами: в Неаполе жил некий родственник, именно благодаря грамотности и уму «вышедший в люди» по окончании университета. Точное его родство с сапожником из Стило неизвестно, в семье Джеронимо было принято уважительно называть его дядей. Так вот, «неаполитанский дядя», носивший звучное имя Джулио Чезаре Кампанелла, был процветающим стряпчим, и отец Кампанеллы явно ощущал ту разницу в оплате труда при несоизмеримой трудоемкости последнего. Вполне возможно, что Джеронимо не видел в сыне будущего философа или, скажем, кардинала[10], но точно знал, что умственная деятельность избавит его от нужды. Правда, это требовало денег, каковых родитель Кампанеллы явно не имел, по крайней мере лишних, и здесь можно было бы рассчитывать на помощь и покровительство неаполитанского родственника. Однако мы не знаем, каковы у них были отношения: судя по биографии Кампанеллы, в каковой «дядя», очевидно, не принял никакого участия, – не очень хорошие, мягко говоря. Следовательно, о найме учителя или отправке мальчика в школу без посторонних финансовых вливаний речь тоже идти не могла. Кроме «светского» варианта образования оставался еще и церковный, который мог бы предоставить отпрыску сапожника возможность пойти по духовной линии. Именно он и был реализован.
Кампанелла так впоследствии вспоминал о своей жизни, включая момент «старта» учения, отвечая на послание, в котором его сравнили с многогранным ученым и философом Пико делла Мирандола: «Но у меня-то, синьор мой, никогда не было исключительных условий и преимуществ Пико: он был богат и знатен, у него было множество книг и достаточно учителей, и досуг для размышлений, и спокойная жизнь… А я родился в нищете… и всегда подвергался преследованиям и клевете, с тех пор как в восемнадцать лет выступил против Аристотеля… И столько раз перебывал в тюрьмах, что не припомню и месяца подлинной свободы, разве что ссылку; пять раз я в страхе и мучении претерпел неслыханные и ужаснейшие пытки… В юности у меня не было учителей, кроме как по грамматике, да два года я слушал логику и физику Аристотеля, которую сразу отверг как софистику. Я самоучкой изучил все науки»[11].
Учиться Кампанелла вполне самостоятельно начал в пять лет, что вполне можно связать со смертью его матери, причем довольно необычным образом. Земляки философа позже вспоминали такой случай: отец посылал его разносить заказы, в том числе – настоятелю храма в Стило, известного как Каттолика. Этот роскошный пятикупольный византийский храм примерно 1000 года постройки стоит и поныне. Несомненно, своей красотой и совершенством форм он должен был пленить мальчика. На круглых барабанах, выложенных ромбовидной плиткой, покоятся крытые черепицей купола; средний – главный – купол покоится на четырех тонких колоннах, взятых из античного сооружения, для прочности соединенных переходом из непропорционально больших капителей в виде трапеций… Неподалеку от храма располагалась школа. В ожидании заказчика мальчик стоял у открытого окна и так набирался знаний, не имея возможности оплатить «очное» обучение. Это повторялось раз за разом, пока наконец учитель, местный церковный причетник Агацио Солеа, не задал ученикам вопрос, на который никто из них не смог ответить. И тогда с улицы раздался голос маленького Кампанеллы: «Можно я скажу?»
Можно по-разному оценивать достоверность этого рассказа, включая и эпизод, что Кампанелла яростно отбился от напавших на него школяров, но вполне возможно допустить, что, узнав о происшедшем, настоятель Каттолики порекомендовал мальчика пребывавшему тогда в Стило странствующему монаху-доминиканцу в качестве ученика. По другой версии, юный Кампанелла, услышав пламенные проповеди монаха, сам обратился к нему за наставничеством. Соответственно, нельзя с точностью указать, когда именно началось и сколько лет длилось это обучение у странствующего монаха, известен только итог: под его воздействием 14 лет от роду Кампанелла принял обет послушничества в Доминиканском ордене, а годом позже стал монахом. Он сам свидетельствует в предисловии к трактату «Философия, доказанная ощущениями»: «Надо заметить, что я еще в 14 лет принял обет повиновения Доминиканского ордена»[12]. Сложно сказать, был ли до этого реализован план отправить подростка к неаполитанскому родственнику для изучения права (Ж. Делюмо датирует эту идею 1582 годом), но то ли попытки не было, то ли она оказалась неудачной, но, так или иначе, жизненный путь привел Кампанеллу в Церковь.
Монах, ставший наставником Кампанеллы, принадлежал к духовному ордену, основанному в начале XIII века для борьбы с еретиками знаменитым монахом-августинцем Домиником де Гусманом Гарсесом, испанцем родом (покоится в Болонье). Орден доминиканцев также известен как орден братьев-проповедников, что довольно четко определяет одну из его граней. Именно поэтому безвестный странствующий монах-проповедник и оказался в Стило. Монахи были нищенствующими и придавали огромное значение интеллекту и знанию, при помощи которых можно было бороться с лжеучениями. Неслучайно, что довольно быстро после основания своего ордена доминиканцы при попустительстве заинтересованного в их деятельности римского понтифика фактически подчинили себе французские и итальянские университеты. Босоногие монахи бродили по Европе со связками книг, готовые вовлечь любых еретиков в богословский спор и посрамить их. В 1237 году они основали свой монастырь под Киевом, в середине XIII века проникли к татарам (1247), затем к персам (1249), а позже – к китайцам и японцам (1279). Белые рясы доминиканских проповедников видели уже и в Африке, а с открытием Колумбом Нового Света они массово ринулись и туда. Впрочем, в Европе проповеднический дух у пригретых папским престолом доминиканцев улетучился довольно быстро, так же как и у францисканцев. Терзать и сжигать молоденьких ведьм многим оказалось сподручнее[13], ибо была у ордена еще одна, и довольно мрачная, ипостась. Доминиканцы не зря называли себя «Псы Господни», казалось бы забавно рассекая надвое свое наименование – Domini Canes. Их символом стала собака с факелом в пасти (якобы виденная во сне матерью Доминика перед родами) – ее задачей было разыскать и истребить ересь[14]. То есть воздействие на ересь и еретиков предполагалось не только идейное, но и физическое – как говаривал основатель ордена: «Сила дубинки восторжествует там, где ничего не смогли поделать ласковые слова», а французский инквизитор XIV века Бернар Ги лапидарно писал, обрисовывая простые задачи, стоявшие перед отцами-инквизиторами: «Задача инквизиции – истребление ереси; ересь не может быть уничтожена, если не будут уничтожены еретики; еретики не могут быть уничтожены, если не будут истреблены вместе с ними их укрыватели, сочувствующие и защитники». Так орден довольно быстро (в 1233 году, когда на папский престол воссел друг Доминика – Уголино деи Конти ди Сеньи, принявший имя Григория IX[15]; год спустя умерший в 1221 году Доминик был спешно канонизирован) стал главным орудием созданной в том же 1233 году монашеской инквизиции со всеми вытекающими отсюда последствиями (до того существовала инквизиция епископская, чьи полномочия Григорий и передал доминиканцам). Гениальным в своем роде прорывом стала борьба с ересью не просто Церкви самой по себе, а всего общества, «мобилизованного» Римом, и организована она была посредством деятельности нищенствующих орденов, бывших в теснейшем контакте с буйными демократическими слоями, всегда готовых поддержать братьев-инквизиторов против засилья светских и духовных владык (а также к взаимному фанатичному истреблению: трактат «Молот ведьм», позорнейший документ инквизиции, принадлежит перу доминиканцев – профессоров Генриха Крамера (Инститориса) и Якоба Шпренгера). Это очень важный момент в укреплении папской власти: орден «псов Господних» обрел от римского первосвященника власть даже над епископами[16], распространявшуюся и на прочих духовных лиц: «Вам… дается власть… навсегда лишать духовных лиц их бенефиций и преследовать их и всех других судом, безапелляционно, призывая на помощь светскую власть, если в том встретится надобность». Горький парадокс! Позже мы еще расскажем о том, сколько претерпел Кампанелла от инквизиции, нелишне будет вспомнить, что и знаменитый Джордано Бруно – тоже монах-доминиканец.
Однако, как оказалось, безвестный наставник Кампанеллы потчевал молодую душу не только сладостным нектаром науки и рассказами о почитаемой доминиканцами учености, о великих церковно-схоластических светочах, таких как Альберт Великий и Фома Аквинский[17] – трепетное уважение к последнему Кампанелла сохранит на всю жизнь, да ведь и имя при постриге он выберет именно его, так как Томмазо – это итальянская форма имени «Фома». Аквинат четко писал: «Извращать религию, от которой зависит жизнь вечная, гораздо более тяжкое преступление, чем подделывать монету, которая служит для удовлетворения потребностей временной жизни. Следовательно, если фальшивых монетчиков, как и других злодеев, светские государи справедливо наказывают смертью, еще справедливее казнить еретиков, коль скоро они уличены в ереси». Так что доминиканский наставник сеял в душе Кампанеллы и нетерпимость, и ненависть к инакомыслящим. В этом и суть предвозвещенного нами несколькими строками выше парадокса. Эту темную сторону личности Кампанеллы никто особо освещать не старался как несвойственную идеальному герою. Так, упоминали мельком, что не любил он Лютера и лютеран и по этой причине даже рассорился со своим немецким другом и издателем его произведений Тобиасом Адами. Не более того.
А вот что обнаружил автор данной книги, изучая трактат «Об Испанской монархии», созданный Кампанеллой еще в начале XVII века, к которому мы еще не раз будем возвращаться. Без комментариев, просто предложим читателю собственные мысли Кампанеллы: «Если они (проповедники ересей. – Е. С.) скажут, что посланы Богом, пусть они покажут перед тобой (королем Испании. – Е. С.) те или иные чудеса, которыми Бог снабжал своих посланников, а именно Моисея, Илию или апостолов. И если они не смогут сотворить ничего подобного – привяжи их к столбу и сожги, если можешь, и опозорь так сильно, как возможно» (из главы ХVIII «О проповедниках и пророчествах»)[18]. «Первой ошибкой, допущенной испанцами в этом отношении (распространении «ереси» Реформации в Европе. – Е. С.), стало то, что они позволили Лютеру уйти с сеймов в Вормсе и Аугсбурге живым» (из главы ХХVII «О Фландрии и Нижней Германии»)[19]. «В Нидерландах после победы испанцев вновь, при помощи епископов, нужно ввести инквизицию, только под другим названием». Правда, позже Кампанелла все же указывает: «Я бы убрал наименование инквизиции, но она сама находилась бы в руках епископов[20], но под другим названием, и ей не следует быть такой суровой, как в Испании или в Риме, но [внушаемый] страх должен состоять лишь в словах и угрозах, нежели в более суровом использовании»[21] (из той же ХХVII главы).
В первых двух цитатах перед нами предстает явный «пес Господень» – и это несмотря на все то, что он уже претерпел от инквизиции и еще претерпит. Поистине, видимо, прав был франко-немецкий просветитель XVIII века барон Гольбах, когда писал в своей «Галерее святых» (ч. 2, гл. 3): «Дайте мученику власть, он станет палачом. У кого хватает слепого рвения, чтобы жертвовать собой, когда он слаб, тот не задумается принести в жертву других, когда сила будет на его стороне». К иным дьявольским, кровопролитным и лукавым советам знаменитого заключенного испанскому королю мы вернемся позднее.
Впрочем, в отношении «инославных» Кампанелла, испытав страшные муки и долгие годы заточения, смягчился, доказательством чего служит его сонет, в котором он переложил на современный ему лад притчу Христа о милосердном самарянине (см.: Лк. 10:25–37): «Из Рима в Остию шел бедняк, по пути на него напали разбойники, ограбили и изранили. Несколько монахов – великих святых! – посмотрели, как он лежит, да так и оставили, сосредоточившись на чтении своих требников. Проходил там Епископ и, беззаботно склонясь, перекрестил [его] и прочел коротенькую молитву. А великий Кардинал – лживый доброжелатель – последовал за ворами, чтоб схватить клешней свою часть добычи. Наконец, там проходил Немецкий Лютеранин, из тех, которые строят на [основании] веры, не чая платы за труды. Он подобрал, одел и вылечил умиравшего человека. Так кто ж из них достойнейший и гуманнейший? Сердце лучше головы, а добрые руки – [лучше] служения холодных губ; вера без дел тщетна. Кто постигает, какое вероучение хорошо и истинно для себя и других? Но никто не сомневается в том добре, которое он делает для своих братьев»[22].
Интересно, что, обращаясь из застенков к испанскому королю, Кампанелла не прочь «тряхнуть стариной» и вспомнить прямое предназначение доминиканцев: «Этих людей (нидерландцев. – Е. С.) захватывают чудеса, они очень высоко почитают любые выдающиеся качества и возвышенные доблести, так что святые и мудрые люди могут своим искусством привлечь их к чему угодно. Поэтому необходимы такие усердные работники, которые своим учением и незапятнанной святостью жизни могут привлечь домой и наставить на путь Истины этих заблудших овец. Если Богу будет угодно возложить на меня это служение, я соглашусь» (из главы ХХVII «О Фландрии и Нижней Германии»)[23]. Еще примерно через 15 лет, в 1618 году, пытаясь по указанию папы письменно обратить в католичество русского царя и его подданных, Кампанелла вновь выражает готовность пойти на проповедь даже в «варварскую Московию», как ее любили называть на Западе.
Но это все – несколько позже, пока же Кампанелла только начинает свой тернистый жизненный путь, став в 1582 году послушником небольшого доминиканского монастыря в Плаканике, неподалеку от Стиньяно. Что это значило в тогдашних условиях? М. Бейджент и Р. Ли пишут об этом так: «Доминиканцы устраивали свою деятельность с таким упором на дисциплину и послушание, который сегодня может ассоциироваться с некоторыми сектами и культами. Вступив в орден, человек “умирал” для родственников и мира. В одном случае, согласно агиографическим описаниям, знатная римская семья попыталась вызволить своего сына из когтей ордена. Юношу отправили в другой монастырь доминиканцев, подальше от Рима. Его семья последовала за ним. Когда он переправился через реку, на другом берегу появились его родственники. В этот момент река чудесным образом разлила свои воды, вздыбилась и стала непереходимой. Юноша остался доминиканцем».
Послушничество – обязательный период «искуса» перед принятием пострига. Не случайно монаха издавна сравнивали с «живым мертвецом». Три основных монашеских обета – послушание, пост и целомудрие. Во все века в понятие монашества входило, что называется, ломание души человека, его стремлений. Отнюдь не всегда оно было добровольным – в монастырь попадали разными путями. И плоть, и дух жестоко усмирялись, не говоря уже о каких-то попытках самовольства или протеста: монастырское бытие можно вполне сравнить с тюремным или армейским – как говорится, «кто в армии служил, тот в цирке не смеется», с той лишь громадной разницей, что в монастыре не видать ни «дембеля», ни «воли»; «живой мертвец» – это пожизненно, как ни парадоксально это звучит. Впрочем, нельзя сказать, что дисциплинарные взыскания налагались всегда беспричинно. Служители Вакха и Венеры, похотливые и алчные лодыри обоего пола – непременные персонажи итальянского народного фольклора, и читатель в избытке найдет подобные сюжеты в новеллах эпохи Возрождения. Нам нужны свидетельства посерьезнее, конечно. Вот хотя бы от Джордано Бруно: «Кто упоминает о монахе, тот обозначает этим словом суеверие, олицетворение скупости, жадности, воплощение лицемерия и как бы сочетание всех пороков. Если хочешь выразить все это одним словом, скажи: “монах”» («Искусство убеждения»). Поджо Браччолини – а кому же доверять, как не ему, опытному и многолетнему служителю римской курии, – писал в своем произведении «Против лицемеров», приводя многочисленные примеры: «Эти люди (монахи. – Е. С.) с затаенным вожделением смотрят на чужие деньги, они не останавливаются перед скрытыми преступлениями и тайным сожительством с женщинами. Они уничтожают доверие к самому доверию»[24]. Нередки были случаи, когда почтенные отцы брались за ножи – как по пьяной ссоре, так и по высшему приказу. Так, в 1589 году монах-доминиканец Жак Клеман заколол французского короля Генриха III, проявившего, с точки зрения ордена, недостаточно ретивости в деле истребления гугенотов. Так что послушание нижестоящих – великая и полезная вещь для высокопоставленных негодяев в рясах.
Способы его внушения братии, а также смирения и исправления известны – пудовые железные вериги, власяницы, самобичевание… Малоизвестно, но все это «процветало» не только в католической Европе, корни этого явления уходят в само зарождение монашества, в византийские земли Египта, Сирии и Палестины. Вот, к примеру, что описывал знаменитый святой конца VI – начала VII века Иоанн Лествичник, игумен монастыря святой Екатерины на Синае («Лествица», слово 5):
«Слышал я, немощный, о чудном некотором и необычайном состоянии и смирении осужденников, заключенных в особенной обители (в египетской Фиваиде. – Е. С.), называемой Темницею… Пришедши в сию обитель кающихся… видел я, что одни из сих неповинных осужденников всю ночь, до самого утра, стояли на открытом воздухе, не передвигая ног, и жалким образом колебались, одолеваемые сном по нужде естества; но они не давали себе ни мало покоя, а укоряли сами себя и бесчестиями и поношениями возбуждали себя. Другие умиленно взирали на небо и с рыданием и воплем призывали оттуда помощь. Иные стояли на молитве, связавши себе руки назади, как преступники; печальные лица их были преклонены к земле… Другие сидели на земле во вретище и пепле, лицо скрывали между коленями и челом ударяли о землю. Иные непрестанно били себя в грудь, воззывая прежнее состояние души своей и невинность своей жизни. Иные из них омочали землю слезами; а другие, не имея слез, били сами себя… У иных видны были языки воспаленные и выпущенные из уст, как у псов. Иные томили себя зноем; иные мучили себя холодом. Некоторые, вкусивши немного воды, переставали пить, только чтобы не умереть от жажды. Другие, вкусив немного хлеба, далеко отвергали его от себя рукою, говоря, что они недостойны человеческой пищи, потому что делали свойственное скотам… У них видимы были колена, оцепеневшие от множества поклонов; глаза, померкшие и глубоко впадшие; вежды, лишенные ресниц; ланиты, уязвленные и опаленные горячестию многих слез; лица, увядшие и бледные, ничем не отличавшиеся от мертвых; перси, болящие от ударов, и кровавые мокроты, извергаемые от ударений в грудь… Часто они умоляли этого великого судию, т. е. пастыря своего, сего ангела между человеками, и убеждали его наложить железа и оковы на руки и на шеи их; а ноги их, как ноги преступников, заключить в колоды и не освобождать от них, пока не приимет их гроб. Но иногда они сами себя лишали и гроба… Тогда, видевший себя при конце жизни, посредством своего предстоятеля, умолял и заклинал великого авву, чтобы он не сподоблял его человеческого погребения, но, как скота, повелел бы предать тело его речным струям, или выбросить в поле на съедение зверям: что нередко и исполнял сей светильник рассуждения, повелевая, чтобы их выносили без чести и лишали всякого псалмопения… И каково еще было устройство того места и жилища их! Все темно, все зловонно, все нечисто и смрадно. Оно справедливо называлось Темницею и затвором осужденных; самое видение сего места располагает к плачу и наставляет на всякий подвиг покаяния».
Вот так веками в монастырях Востока и Запада воспитывали в монахах смирение и послушание. Примеров можно было бы привести превеликое множество, включая «пасущихся» монахов, передвигавшихся на четвереньках и питавшихся травой; тех, что пили воду, переполненную заразой и червями, так как до того ею омывались ноги странствующих и больных; о принудительной посадке рассады корнями вверх – ибо так повелел игумен; о том, как знаменитого философа, богослова и поэта Иоанна Дамаскина, в прошлом визиря эмира Дамаска, игумен монастыря, к которому он попал под начало, заставил чистить отхожие места братии[25]. Полагаем, читатель уже постиг ту цену, которую юному Кампанелле придется заплатить за возможность учения и познания. Юный калабриец очень любил природу, что видно по его произведениям, особенно поэтическим, и это не объясняется лишь последующим долгим заточением, которому он повергался, десятилетиями не видя солнца, травы, моря, живых существ… Но он сознательно отдал свободу (тогда еще просто передвижения и воли) в обмен на доступ к знаниям – и принял постриг. Так Джованни Доменико «умер» для мира, коему явился теперь как фра (то есть брат) Томмазо Кампанелла.
Глава 2
Выбор философии
Кампанелле потребовалось четыре года, чтобы определиться в выборе философии, и этому выбору он останется верен практически всю жизнь – не считая легкого юношеского увлечения магией; сам Кампанелла датирует его 1586 годом, повествуя о «выступлении против Аристотеля» в 18 лет. Юноша с острым и пытливым умом довольно быстро распознал, что Христова заповедь о том, что не вливают новое вино в старые мехи, вполне пригодна и для философии.
Тогдашним непререкаемым авторитетом европейской церковной науки (ведь светской, по сути, еще не было, все университеты контролировались Церковью) был Аристотель, воистину простерший над ней свои «совиные крыла». Несколько парадоксально, что идолом для христианского образования и, следовательно, богословия стал язычник, умерший за три века до Христа, но дело в том, что Аристотель средневековой схоластики не очень напоминал Аристотеля реального, или, по крайней мере, того, который нам известен по истории философии[26].
Начнем с того, что подлинного Аристотеля читать, мягко скажем, сложно. Скорее даже, по сравнению с восторженным идеалистом Платоном, его ославленным учителем («Платон мне друг, но истина дороже»), скучно. Оставив в стороне, в виде хорошего исключения, природоведческие труды или ценные сведения по истории и политике древних государств (Спарты, Крита, Карфагена, Афин), мы получаем длиннейшие сухие логические классификации, безжизненные и для ума беспощадные. Пусть читатель, обманутый таинственным названием «Метафизика», возьмет соответствующий трактат, посмотрим, насколько хватит его интереса и терпения. Но даже и не в этом суть, а в том, что корпус сочинений Аристотеля был полностью в средневековой Европе неизвестен – например, его фундаментальные работы «Метафизика», «Физика», «Политика», «Аналитики» до середины XII века вообще не были известны по первоисточникам, но лишь по трактовке таких видных неоплатоников конца Античности и начала Средневековья, как язычник Порфирий Газский, казненный остготским королем Теодорихом Великим Боэций[27] и получивший византийское образование армянин Давид Анахт[28] (отметим сразу, насколько «подлинный» Аристотель мог быть заретуширован неоплатониками, сочетавшими в своем учении воззрения идейного противника Аристотеля и позднеантичный религиозный мистицизм); имевшие же «научное хождение» немногочисленные труды были искажены многочисленными утратами и ошибками списков; кроме того, хватало и просто разного бреда, случайно приписанного Аристотелю в предшествовавшие «темные века» и впоследствии «канонизированного» под его именем.
Появление «благодаря» Крестовым походам с Востока подлинных сочинений Аристотеля первоначально вызвало в церковной среде настороженность, о чем свидетельствуют, например, следующая запись современника: «В те дни (около 1209 года[29]. – Е. С.) читали в Париже некие книжки, оставленные, как говорили, Аристотелем, излагавшие метафизику, недавно занесенные из Константинополя и переведенные с греческого на латинский язык. Поелику они не только подали хитроумными идеями повод упомянутой ереси (амальрикан), но и могли побудить новые, еще не появившиеся, все они были присуждены к сожжению, и на том же (Парижском) соборе было постановлено, чтобы впредь никто не осмеливался, под страхом отлучения, их переписывать, читать или каким-либо образом хранить» (Кампанелла прекрасно знал об этом соборе и осуждении на нем аристотелизма, упоминая его в своей «Апологии Галилея»). Против «Физики» Аристотеля была направлена булла папы Григория IХ 1231 года, а против «Метафизики» – указ кардинала-легата Симона 1265 года, однако через несколько десятилетий после Парижского собора Аристотель все же был признан Церковью.
Будем объективны: для того интеллектуального мрака, что царил в зародившихся варварских государствах Европы на обломках Римской империи, даже искаженный Аристотель был лучом света в темном царстве. Но не была принята к сведению простая истина о том, что молочная пища и пеленки пригодны для младенца, но что делать, когда «ребенок» растет?.. «Схоластический Аристотель» препятствовал дальнейшему развитию науки. Объявленный «христианином до Христа» и даже записанный в богословы, Аристотель был приспособлен к решению довольно узких религиозных задач, в первую очередь – Альбертом Великим и Фомой Аквинским, о чем уже было упомянуто ранее; Фома в разработанной им теории познания использовал учение древнего философа о видах, или «специях». Попробуйте понять такой аристотелевский перл Аквината: «Благодаря интеллигибельному виду интеллект становится актуально понимающим, подобно тому, как благодаря чувственному виду чувство становится активно чувствующим». «История философии» 1941 года ставит следующий диагноз: «Громоздкая схоластическая система Фомы лишь формально воспроизводит учение Аристотеля, она примыкает к букве, а не духу философии Стагирита (прозвище Аристотеля по месту его рождения, полису Стагиры. – Е. С.). По существу своему она коренным образом отлична от философии Аристотеля. «Схоластика и поповщина взяли мертвое у Аристотеля, а не живое: запросы, искания…» (В. И. Ленин «Философские тетради». С. 332). Мышление Фомы зажато в рамки христианской догматики, оно сдавлено бесчисленными формально-логическими терминологическими определениями, казуистическими спорами, оно сковано цепями силлогизмов. Однако он крепко владел западнохристианскими умами, зачастую весьма открытыми. Даже Лоренцо Валла, известный критик Церкви, доказавший подложность так называемого Константинова дара, на котором папство основывало свои претензии на светское владычество, осмелившийся в XV веке применить филологическую критику к самому Писанию, восторженно писал в «Похвальном слове святому Фоме Аквинскому: «“Фома”, в соответствии со значением этого еврейского имени, переводится либо как “бездна”, либо как “близнец”, таков был Фома Аквинский – либо бездна некой науки, либо близнец науки и добродетели, и в том и в другом случае единственный и неправдоподобный; он – словно некое солнце, сияющее в высшей степени блеска учености и в не меньшей степени пылающее жаром добродетелей; вследствие же блеска учености должен быть помещен среди херувимов, а вследствие жара добродетелей – среди серафимов (те и другие – высшие ангельские чины. – Е. С.)… Доминик основал дом проповедников (то есть орден доминиканцев. – Е. С.), Фома покрыл его полы мрамором, Доминик построил стены, Фома украсил их превосходными картинами, Доминик сделался опорой братьев, Фома образцом, Доминик насадил, Фома оросил, тот воспротивился и отверг высокое положение и епископский сан, которые были предложены, этот прогнал, как сирен, знатность, богатство, родственников и родителей; тот был наделен чистотой и воздержанностью, этот – девственностью [подобно] Иоанну-евангелисту… Должно быть признано, что равна слава Доминика и Фомы, основанная на чудесах и добродетелях»[30].
Достаточно бегло просмотреть труды Аквината, чтобы заметить постоянно встречающиеся ссылки на Философа – это и есть Аристотель. Представьте, на чем учился юный Кампанелла! «Философ доказывает в восьмой книге “Физики”, что перводвижущее обладает бесконечной способностью, поскольку движет в течение бесконечного времени… Когда “разрушимое” и “неразрушимое” говорится о чем-либо, то осуществляется сущностная предикация, как говорит Философ в десятой книге “Метафизики”. Следовательно, если душа неразрушима, то надлежит, чтобы она была неразрушимой по своей сущности… Никакое действие не может принадлежать душе без тела, и даже познание, о котором это очевидно более всего, поскольку нет познания без фантасмов, как говорит Философ, фантасмов же нет без тела… Философ говорит, что интеллект, будучи вечным, отделяется от того, что разрушимо; интеллект же есть часть души, как говорит он же. Следовательно, человеческая душа неразрушима» («Дискуссионный вопрос о душе», статья 14)[31]. То же – у Альберта, именующего Аристотеля «нашим главой», причем весьма примечательно, как схоласт откровенно признается, что оригиналов сочинений своего кумира по изучаемому им вопросу – об интеллекте и ителлегибельном – он вовсе не читал: «Но то, что, как представляется, здесь надлежит исследовать в той мере, в какой это возможно совершить посредством доказательства и рассуждения, мы изложим, следуя неуклонно нашему главе, книг которого, посвященных этой науке, хотя мы и не видели, но изучили книги и письма многих его учеников, трактовавших об этой материи много и хорошо»[32] («О природе интеллекта», гл. 1). Ну и ряд обычных ссылок на «Никомахову этику», некое письмо Аристотеля и восторженные словоизлияния типа «…и поэтому Философ замечательно говорит, что первая причина превышает имена всех ее действий и она изобильна в себе, когда ничего не дает и не дарует никакому из причиненных, и изобильна в других причиненных, которым она сообщает [благородства] пропорциональным образом»[33] (там же, гл. 3) – причем этот тезис взят из подложной арабской «Книги причин», не имевшей к истинному Аристотелю никакого отношения.
Разумеется, все практические научные данные, нарушавшие «аристотелизированные» воззрения, отметались и объявлялись ересью. Если научный или природный факт противоречит писанию, освященному авторитетом Аристотеля, – тем хуже для факта. По этому поводу существует такой исторический анекдот – может, и не совсем достоверный, но прекрасно характеризующий тогдашнее положение дел в науке, когда эмпиризм был, что называется, в полном «загоне». Как-то к Блаженному Августину (также видному неоплатонику рубежа IV–V веков) пришел друг, и у них зашел спор о том, есть ли глаза у крота. Спор длился много часов, почтенные отцы вдохновенно оперировали Аристотелем, Теофрастом и иными учеными прошлого, и никак не могли прийти к согласию. Садовник, занимавшийся своим делом, слышал все это; то ли ему надоело, то ли просто он решил помочь ученым мужам разрешить проблему – короче говоря, он разрыл кротовину, вытащил крота за шкирку и принес им со словами: «Что спорить? Вот, посмотрите сами!» Достославные мужи в один голос воскликнули: «Убери эту гадость!» – и продолжили дискуссию… Это рассказано не для развлечения, читатель вскоре увидит, что примерно так и обстояло дело, когда Кампанелла провозгласил великий поворот в науке и философии: от мертвящего и порой несведущего авторитета – к Природе.
Засилье «схоластического» Аристотеля было особенно сильно у доминиканцев, в отличие от них францисканцы, например, соединяли его с неоплатонизмом Блаженного Августина и не чурались новых переводов – с арабского, еврейского и греческого.
Ко времени Кампанеллы узость и вредоносность псевдоаристотелевской схоластики, сковавшей науку и не дающей ей развиваться, была очевидна многим открытым умам. Джордано Бруно осмеивал тех, кто смотрит на мир «чужими глазами» и ссылается на «бедного Аристотеля… которого они не понимают и никогда не читали… Аристотель есть познание при чужом свете». Фрэнсис Бэкон: «Этот вид вырождающейся науки царил главным образом среди схоластиков, так как они обладают острым и сильным умом, имеют много досуга и мало разнообразного чтения. Но их кругозор ограничен рамками нескольких авторов (главный диктатор их – Аристотель), как и сами они заключены в кельи монастырей и колледжей; и так как они не знают ни истории, ни природы, ни времени, то из небольшого количества материала и беспредельного возбуждения ума они соткали для нас ту тщательно сплетенную паутину учености, которая имеется в их книгах»[34] («О преуспеянии наук»). Джон Мильтон (отрывок из речи «Против схоластической философии», произнесенной в Кембридже): «Помимо всего этого, нередко случается, что те, кто целиком посвятил себя этой напасти, диспутам, самым жалким образом обнаруживают свое невежество и нелепый, детский подход к делу, когда попадают в новое положение, выходящее из рамки их обычных идиотских занятий. В конечном счете главная задача всего этого серьезного труда заключается в том, чтобы сделать вас более законченным дураком и более ловким обманщиком и одарить вас более искусным невежеством. Это и неудивительно, так как все вопросы, над которыми вы работали в таких мучениях и тревогах, совсем не существуют в действительности, но, как нереальные духи и нематериальные призраки, завладевают расстроенными уже и лишенными всякой истинной мудрости умами»[35].
Но будем объективны: в монастырях доминиканцев были прекрасные библиотеки, содержавшие тома не только богословия Отцов Церкви, но и писателей Античности, и Кампанелла словно губка впитывал в себя всю мудрость предшествующих веков. Потрясает не только учебное трудолюбие Кампанеллы, но и его феноменальнейшая память, позволившая впоследствии, в застенках, свободно оперировать сочинениями Платона, Саллюстия, Сенеки, Августина и многих иных; при этом сам Кампанелла отмечал в трактате об Испанской монархии, к примеру, что, сочиняя его, «лишен помощи моих книг и заперт, как пленник, в камере»[36] и завершил работу «несмотря на 10-летнее пребывание в несчастьях и то, что я болен, то, что я не мог обеспечить себя всем необходимым для этого труда, лишен помощи книг; когда я писал этот трактат, у меня не было под рукой ничего, кроме Библии, так что я тем легче получу прощение читателей, если где допустил неточности, поместил некоторые вещи туда, где им не место, или о чем-то написал дважды»[37] (из главы XXXII «О навигации»).
Когда инквизиция только-только еще бралась за Кампанеллу, он якобы заявил судьям, намекая на их невежество и на огромное количество времени, потраченное им на чтение: «Я больше потратил масла для своей лампады, чем вы выпили вина». Сложно сказать, было ли так на самом деле, и можно представить, что после такого заявления сделали бы с Кампанеллой, но упоминание о подобном заявлении инквизиторам действительно содержится в его письме, адресованном немецкому другу, философу-католику Каспару Шоппе. А в одном из своих сонетов он торжественно писал: «Мой мозг, хоть его и горсть, крепко держит меня всего; я поглощаю столько, что все книги, которые содержит мир, не могут утолить лютые муки моего голода. Каковы были мои пиры! Но мой рок – голод. Одним [своим] миром Аристарх насыщает мою алчность; заканчивается этот – другой мне предлагает Метродор; однако, взволнованный непрестанным желанием, я все же требую еще; чем больше я знаю, тем сильней нужда узнать еще»[38].
В Италии доныне сохранилось немало образцов средневековых библиотек, подобных тем, в которых трудился Кампанелла. Автору посчастливилось осмотреть библиотеку Малатестиану в Чезене (неподалеку от Римини). Выстроенная при монастыре, она имела большой скрипторий, где копировались и создавались оригинальные рукописи, а также просторный читальный зал с 58 партами для чтения, поставленными в два ряда. Книги прикованы к партам цепями, и недаром – ведь сколько в них вложено труда и искусства! Не говоря уже о том, что, к примеру, на изготовление пергамена для одной Библии требовалось истребить не одно стадо парнокопытных. А миниатюры? Оттого и стоили в то время книги целое состояние, оттого и приковывали их в библиотеках толстыми цепями, так как «несунов» всегда и везде хватало. Очень грамотно при строительстве было продумано естественное освещение, чтобы дневной свет давал возможность читать как можно дольше, так как во избежание пожара строжайше запрещалось использовать освещение огнем в любой форме. Своды поддерживают 10 колонн, разделяя зал, словно храм, на три нефа. Это действительно были храмы – храмы науки…
Разумеется, пытливый ум ученика пришелся не по нраву его учителям-доминиканцам, многие из которых явно звезд с неба не хватали, о чем довольно много упоминаний. Один из соучеников Кампанеллы по монастырской школе свидетельствовал: «Он все время возражал, особенно своим учителям». Один из них, Фьорентино, пророчески заметил: «Кампанелла, Кампанелла, ты плохо кончишь!»
Сам философ позже вспоминал: «Учителя не могли ответить на мои возражения» и более подробно изложил это в предисловии к своему трактату «Философия, доказанная ощущениями»: «И я заключил, что природу вещей следует изучать на основании ощущения, которому она открывается непосредственно такой, какова она в действительности и какой пожелал создать ее Бог. И я счел, что способность к познанию природы, конечно, свойственна человеческому разуму и только заглушена в нем, поскольку все вещи создал Бог и взял на себя заботу обо всех вещах, и нет иного Бога, кроме него. Я пришел к этому выводу после того, как на протяжении целых пяти лет усердно занимался чтением книг древних философов, в особенности перипатетиков и платоников, а также и иных, какие только мог раздобыть, и не только не был ими удовлетворен, но и обнаружил, что они противоречат моему чувственному опыту. По этой причине я постоянно возбуждал в себе вражду со стороны учителей, под водительством которых совершал свои первые шаги, так как было очевидно, что я не собираюсь стать последователем аристотелевских догм (сами учителя мои с трудом понимали их, хотя и почитали непогрешимыми), и так как я отвращал с этого пути и своих соучеников. Так, я признал, что чужие учения весьма далеки от истины. Я объяснял это тем, что наследники древних восприняли науки не через опыт собственных чувств, но уже выработанными древними и переданными от них потомкам соответственно их разумению. Так что науки оказались крайне запутанными, и лишь некоторые или немногие, и притом с великим трудом, едва оказались в состоянии овладеть ими целиком. А поэтому им казалось чем-то весьма значительным хотя бы воспринять науку от других людей и передать ее ученикам, а не извлечь се из самой природы, изучение которой представлялось столь малодоступным. Поэтому они, достигнув такого рода толкованиями почета среди людей, которые довольствовались чужим изложением, не обращаясь к текстам и не проверяя точность истолкований, уже не стремились к истине, а стали преданными последователями древних и усвоили чужие мнения. Они не обращались к исследованию природы вещей, а изучали только высказывания, и притом даже высказывания не самих философов, а только их толкователей»[39] (речь о тех же Порфирии, Боэции, менее вероятно – Анахте. Более того, Порфирий толковал Аристотеля, а эти двое – толкование Порфирия, но Анахт также и самого Аристотеля).
В этой ретроспективе 1589 года уже упоминается телезианское следование природе, но очевидно, что пока молодой ученик идет тропой отрицания. Вместе с тем – и в этом проявляется его гений – он интуитивно нащупывает ту философию, которая уже сформулирована его старшим современником – Бернардино Телезио (иногда его фамилию приводят в латинизированной форме – Телезий). Говоря кратко и образно, это – философия Природы, наука наблюдения и опыта, исповеданию которой Кампанелла посвятит всю жизнь. Она и станет той альтернативой схоластическому Аристотелю, которую изберет великий калабриец.
На воззрениях Телезио стоит хотя бы кратко остановиться, ибо во многих трудах Кампанеллы видно их отражение и развитие (кстати, они были практически земляки, Стило находится в 150 километрах от Козенцы, родины Телезио). Его высоко ценил Ф. Бэкон: «О самом Телезио я имею хорошее мнение и признаю в нем искателя истины, полезного для науки, реформатора некоторых воззрений и первого мыслителя, проникнутого духом современности». Основной труд козентинца – «О природе вещей в четком соответствии ее собственным началам» в двух томах. Подвергнув беспощадной критике схоластический аристотелизм (он называет Философа «неточным наблюдателем» и «командующим опытом»), Телезио призывал в изучении природы следовать чувственному опыту, хотя при этом благоразумно оговаривался, не желая попасть в когти инквизиции: «Однако если какое-то из положений, выдвигаемых нами, не будет согласовываться со Священным Писанием и католической Церковью, мы ни в коем случае не утверждаем, что надо его придерживаться, а не отвергнуть всей душой. Ведь выше Писания и Церкви не должно быть не только никакое человеческое рассуждение, но даже само ощущение. Если не согласуется оно с Писанием и Церковью, то отвергнуть надо и его самого»[40]. Степень искренности Телезио в данном случае оценить сложно, но тогда многие прибегали к подобным уловкам, даже Галилей в своем знаменитом произведении «Диалог о двух главнейших системах» официально вроде как выступал на стороне критиков Коперника. В том же обвинят и Кампанеллу, что, публикуя трактат против атеизма, он в слова опровергателей веры вложил больше смысла и убеждения, нежели в слова ее апологетов. По крайней мере, Телезио хоть и вызвал преследование римской курии, закрывшей организованную им в Неаполе академию и внесшую его сочинения в печально известный «Индекс запрещенных книг», все же умер своей смертью и в своей постели. Неплохо по тем временам, когда могли, вырвав язык, сжечь живьем, кости растолочь и бросить в реку. Впрочем, в советское время совершенно не писали о том, что Телезио пользовался покровительством пап Пия IV и Григория XIII, занимавших кафедру соответственно в 1559–1565 и 1572–1585 годах, что тоже служило ему своеобразной индульгенцией – эти понтифики весьма высоко его ценили.
Телезио стоял за объяснение природы, исходя из нее самой, как следует из заглавия его основного произведения; познание дόлжно осуществлять посредством чувств; материя – вечна, неизменна, однородна и бескачественна; она наполняет все (то есть Телезио выступает против пустоты атомистов); она – «поле битвы» тепла и холода, созидающих все сущее в его многообразии («промежуточные натуры»), хотя мир создал все же Бог и дал ему законы развития и существования, однако в дальнейшее течение жизни не вмешивается. Телезио – сторонник теории гилозоизма – учения о всеобщей («универсальной») оживотворенности материи, которой в любых ее формах свойственны ощущения и мышление (к примеру – солнцу, что не раз будет утверждать Кампанелла). «Принцип» существования человека – дух, тончайшая материя, умирающая вместе с телом, но при этом остается бессмертная душа.
Несомненно, что формированию Кампанеллы как философа способствовало его знакомство со взглядами жившего в предыдущем веке Марсилио Фичино, знаменитого итальянского неоплатоника, апологета созерцания, одно время возглавлявшего славную Платоновскую академию во Флоренции, учрежденную Лоренцо Медичи по прозванию Великолепный с подачи великого Гемиста Плифона – последнего философа умиравшей Византии. При Фичино академия поистине достигла своего расцвета. Этот философ, переведший труды Платона, Плотина и Порфирия, пытался соединить учение Платона (причем в форме позднеантичного религиозного неоплатонизма) не только с Аристотелем, но и с христианской догматикой (по К. Карбонаре, системой Платона он пытался придать рациональное основание христианству), уча при этом, что «божественные вещи непозволительно открывать черни». Квинтэссенция неоплатонизма такова: структура бытия включает в себя три субстанции (ипостаси), находящиеся в последовательном иерархическом подчинении. Это Единое, Ум и Душа, причем в аспекте любви и красоты Душа проявляется как Афродита, вполне в духе сократо-платоновского учения разделяющаяся на две части – высшую Небесную (у Платона – Афродиту Уранию) и низшую Земную (у Платона – Афродиту Вседоступную). Единое – это Бог, но только ни в коем случае не личностный (это – важное отличие от христианства), но бесформенный, ничем не ограниченный, непостижимый, превыше всякого существования. Единое Плотина Ликопольского одновременно всё – и ничто; всё – потому что содержит в потенции все существующее, ничто – потому что всё это содержимое еще не проявлено. От переполнения всем этим сущим и не-сущим Единое производит Ум – тот самый знаменитый «мир идей» Платона; это – само по себе истинно сущее, которое мыслит все сущее и, таким образом, содержит его в себе. В силу своего совершенства Ум творит Душу, которая производит все сущее, проникая в материю и сообщая ей все благое и прекрасное, без чего этот мир – «не более как мертвый труп, земля и вода». Душа разделяется на две части: высшей она обращена к Уму, созерцая его, низшей – вовлечена в материю, являясь питательной силой, инстинктом и т. п. Небесная Афродита – совокупность невоплотившихся еще душ, Земная – душ, уже заключенных в тела: Афродита Небесная проникает в инертную массу матери, животворя ее и в то же время «замарываясь» ею, – так она становится Афродитой Земной и распадается на множество индивидуальных душ. Процесс этот циклический: душа стремится назад, к Единому, все сворачивается и замирает в нем; однако Единое опять переполняется, «не в силах терпеть», и все идет по новой.
Историк Л. М. Брагина отмечает, как Марсилио Фичино применил неоплатоническую теорию любви в своих изысках: «Космосу Фичино свойственно и некое духовное “круговое” движение, выражающееся в красоте, любви и наслаждении, как бы пронизанных светом божественной истины и блага. Красота телесного мира есть знак его божественности, и потому любовь к нему не уводит от Бога, а в конечном итоге приводит к наслаждению слияния с ним. Любовь – узы мира, придающие ему прочность и постоянство. Теория любви и красоты – наиболее оригинальная часть философской доктрины Фичино, в ней ярко проявилось отличное от средневековых традиций ренессансное мировосприятие. Не случайно философия Фичино оказала сильное воздействие на эстетику и всю художественную культуру Высокого Возрождения».
В духе неоплатонизма Фичино пишет и Козимо Медичи: «Зло с корнем вырвать невозможно. Необходимо, чтобы было что-нибудь противоположное добру, что, однако, не имеет отношения к Богу, но окружает, по необходимости, смертную природу и низшую область мира. По этой причине нам надо пытаться бежать, и как можно скорее, отсюда – туда. Бежать – значит становиться, насколько это возможно, подобным Богу. Душу уподобляют Богу праведность, святость, мудрость»[41]. Ключевым в его учении было понятие Мировой Души – посредницы между Богом и тварным миром, вполне в духе античных неоплатоников, что, однако же, с церковной точки зрения рассматривалось как ересь. Фичино писал в комментарии на трактат Плотина «О небе»: «Небесное начало, душа, не объединяется с небом, будто бы уже к тому времени созданным. Нет, скорее сама она небо и порождает повсеместно благодаря плодородию своему, выше небес стоящая, но к ним, которые вот-вот появятся, плотно примыкающая. Наделенная жизнью в высшей степени, она небеса выдыхает. Но что же выдыхает? Выдыхает живое, доступное чувствам дуновение, но не такое, какое непременно почувствуют другие вещи, а такое, которое само почувствует их, им даруя жизнь. Исходя из души, подобное дуновение уподобляется пронизывающей ее силе, так что, само пронимая вселенную, оно влито во все вещи»[42]. Кампанелле был близок не только этот взгляд (признание Мировой Души будет ему инкриминировано инквизицией), но и непримиримое отношение Фичино к последователям Аристотеля, которое тот выразил, к примеру, в следующих словах: «Почти вся вселенная, занятая перипатетиками (именно так в Античности звали учеников Аристотеля – «прохаживающиеся» по Ликею во время занятий. – Е. С.), разделена на две партии – александристскую и авэрроистскую… Те и другие в корне уничтожают веру… (и) отрицают промысел Божий в людях»[43].
К философии самого Кампанеллы, отражению в ней идей Бернардино Телезио и Марсилио Фичино мы вернемся в свое время и в надлежащем месте, пока же завершим разговор об «обращении» юного монаха в «телезианскую веру». Мы остановились на том, что в 1582 году он стал послушником, а через год принял постриг в монастыре в Плаканико. Год спустя он был переведен в монастырь Благовещения в Сан-Джорджо-Морджето (по его же просьбе, так как там библиотека была более обширной) – примерно в 50 километрах от Стило, и именно к этому периоду его жизни относится широко известный рассказ о том, как молодой и никому не известный монах вышел победителем в публичном диспуте с францисканцем в Козенце[44]. Оба нищенствующих ордена издавна рассматривали друг друга не как сотрудников в общем христианском деле, но как соперников, которых не только можно, но и нужно периодически подвергать публичному посрамлению. Тогда от лица доминиканцев должен был выступать другой проповедник, но он заболел, и его спешно заменили самым даровитым, хотя и не очень покорным учеником – и не раскаялись. Победителя даже представили местному барону Джакомо II Милано, которого Кампанелла приветствовал гекзаметрами собственного сочинения, чем тот остался весьма доволен и впоследствии даже разрешал Томмазо останавливаться в своем неаполитанском доме. Однако над юным «потрясателем авторитетов» уже сгущались тучи. Его заподозрили в «телезианстве». Не исключено, что уже из-за блестящего и наверняка самобытного выступления на том самом диспуте – есть упоминание о том, что некоторые восторженные зрители кричали, что в юного монаха вселился дух Телезио, – довольно странно, если учесть, что старый ученый был тогда еще жив. По крайней мере, Кампанелла сам свидетельствует о том, что он выработал свои взгляды на «философию природы» еще до знакомства с трудами Телезио. Обратимся вновь к предисловию к его трактату «Философия, доказанная ощущениями», начиная с того места, где он продолжает громить «аристотеликов» и завершает свое повествование рассказом о том, как смерть прославленного ученого воспрепятствовала его личному знакомству с ним:
«И так укоренилось это зло среди людей, что они охотно стали прощать заблуждения, унаследованные от древних, как если бы связаны были обетом, и скорее отвергали собственный чувственный опыт. Главная причина этого была в неких книгах, именуемых диалектическими, так как их предметом являются слова. Книги эти внесли великое смятение своими темными понятиями и вымышленными терминами, имевшими различное значение в разных языках, от которых они дошли до нас, и даже в недрах одного языка. И так как иные рассчитывали прославиться, основательно изучив такие вещи и наловчившись рассуждать о них с другими, они усердствовали в этом, не замечая, что все это враждебно природному чувству, ибо сложность тут заключена лишь в словах, а не в вещах самих по себе. И перейдя затем к философии природы, которую Аристотель соорудил по своему произволу и с помощью подобных словесных ухищрений, не сверяясь с действительностью, они как бы поклялись, что в свете логики философия Аристотеля является божественной, или, быть может, не смея довериться собственным силам в исследовании природы вещей, полагают истинными его суждения, неопровержимыми его принципы и поэтому считают, что нельзя даже и в спор вступать с теми, кто не согласен с Аристотелем, но должно избегать таких людей. Они и тем уже были довольны, что могли понять его высказывания, и немногим удалось хотя бы прочитать его целиком. Они были охвачены стремлением не постичь истину, но только изложить другим Аристотеля, стяжав славу тем, что они основательно знают его и умеют разрешать противоречия при помощи авторитета цитат, так что они никогда и не достигали истины.
Так они спорят друг с другом обо всем, только не об истине, которую они извращают с помощью высказываний Аристотеля, которых они совершенно не понимают, и вымышленных тонкостей, совершенно не заботясь об истинном смысле и противоречиях в суждениях, стремясь единственно к утонченному толкованию, избегающему согласования с опытом. Если же случайно они и займутся вопросом, подлежащим ведению чувств, то они видят не то, что есть в действительности, но лишь то, что вычитали у Аристотеля, только это делают аргументом и это приводят в ответ на возражения. А если сама природа предмета откроется их противящимся и враждебно настроенным чувствам как явно противоречащая Аристотелевым определениям, то они говорят, что он не мог ошибаться, и с помощью пустой и лживой логической болтовни латают ложные суждения Аристотеля. И в качестве последнего довода они утверждают, что интеллект (они ведь составляют душу из многих противоречивых элементов, хотя на деле она едина) учит нас иным образом, нежели ощущения, и считают разумное знание более благородным, как если бы разум состоял из иной непогрешимой субстанции и был в состоянии воспринять что-либо без посредства чувств и как если бы сам Аристотель не говорил, что бессмысленно оставлять ощущения ради умозаключений, и не учил, что всякое знание рождается из ощущения и из вещей, им воспринятых или подобных. Поэтому они пренебрегают всякими чувственными данными, которые изобличают их в противоречиях Аристотелю и самим себе, в то время как те, кто пытается согласовать одно с другим, делают это не без ущерба для того и другого и ценой искажения природных законов.
