Евреи в Российской империи
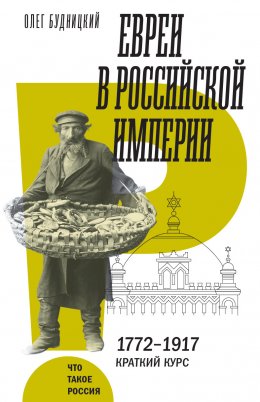
Рецензенты: А. Б. Ковельман, доктор исторических наук, профессор; Г. Эстрайх, Ph. D., профессор
© О. Будницкий, 2025
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
От автора. Кому адресована и как устроена эта книга
Эта книга адресована любому человеку, интересующемуся историей евреев и историей России. Для кого-то она «закроет» тему, для кого-то станет отправной точкой в дальнейшем изучении предмета, которому посвящена книга. История евреев чрезвычайно многогранна (впрочем, это относится к истории любого другого народа), и охватить в равной степени все аспекты этой истории в рамках одной книги довольно сложно. Центральной темой книги является история интеграции евреев в российское общество и восприятие российским обществом этой интеграции. Таким образом, это история евреев и одновременно история «еврейского вопроса» в Российской империи. История того, как «польские евреи» постепенно становились «русскими евреями», как Российская империя пыталась «переварить» своих внезапно обретенных новых подданных или же вытолкнуть их. Что породило самую большую национально-религиозную группу, покинувшую пределы Российской империи до 1917 года, – около двух миллионов человек. Впрочем, впоследствии евреи составили и самую большую национальную группу, покинувшую пределы СССР, а затем постсоветской России.
Открывает книгу сжатый очерк истории евреев в Российской империи. Последующие главы построены по проблемно-хронологическому и, если так можно выразиться, персональному принципу. В отдельные главы выделены сюжеты, которые, по мнению автора, являются наиболее важными: служба евреев в армии, масштабы участия и роль евреев в российском революционном движении, – и то и другое было формой интеграции евреев в российское общество и одновременно ее результатом. Отдельные главы посвящены клану откупщиков, затем банкиров и золотопромышленников баронов Гинцбургов, сыгравших видную роль в развитии российской экономики, защите интересов российских евреев и отношению к «еврейскому вопросу» различных слоев русского общества.
Завершает книгу глава о Первой мировой войне, ознаменовавшейся для евреев массовой мобилизацией в императорскую армию и одновременно – массовыми депортациями, «сдобренными» погромами. Мировая война (современники еще не знали, что она – Первая) стала поворотным пунктом в истории российского еврейства: в августе 1915 года была де-факто отменена Черта еврейской оседлости. Боевые действия, которые велись в значительной степени на территории Черты оседлости, депортации и выселения из прифронтовой полосы, привели к разрушению традиционного образа жизни, смене места жительства и образа жизни сотен тысяч евреев. Не пережила войну и трехсотлетняя империя Романовых. В феврале-марте 1917 года, по выражению Василия Розанова, «Россия слиняла в три дня».
На этом можно было бы и закончить книгу, ибо Февральская революция привела, среди прочего, к решению «еврейского вопроса» – уравнению евреев в правах. Однако автор не счел возможным остановиться на этом формальном моменте и вместо заключения решил написать о том, что происходило с евреями в 1917 году на обломках империи, между падением самодержавия и приходом к власти большевиков. Ибо, как водится, расчеты людей, которые думали, что они творцы, «хозяева» истории, оказались ошибочными и проблемы и бедствия у евреев, так же как у других народов России, были впереди. Как, впрочем, и невиданные возможности.
В заключение считаю приятной обязанностью выразить искреннюю благодарность за помощь в подборе иллюстраций Людмиле Шолоховой (Нью-Йоркская публичная библиотека), Юлии Рейнес-Червинской и Наталии Смотровой (Архив Блаватника, Нью-Йорк), Александру Френкелю (Санкт-Петербург), Александру Иванову (Дортмунд), Екатерине Майчак (Санкт-Петербург), Алексею Холову (Москва), Аркадию Будницкому (Ростов-на-Дону) и Елене Щедриной (Еврейский музей и Центр толерантности, Москва).
Глава 1. Евреи, Россия и «еврейский вопрос». 1772–1917
Евреи «переехали» в Россию, не сходя с места. В результате разделов Польши в 1772, 1793 и 1795 годах империя, в которой ранее не дозволялось появление евреев в принципе, неожиданно оказалась страной с самым большим еврейским населением в мире.
За тридцать лет до того, как Россия пришла за «своими евреями», им, напротив, указом императрицы Елизаветы от 13 декабря 1742 года предписано было «немедленно убраться за пределы границы». Более того – указывалось «впредь оных ни под каким видом в нашу Империю ни для чего не впускать». Евреев, проживавших в пределах империи, было совсем немного – ведь они не допускались еще в Московское царство, и даже приезжать в страну для торговых целей «евреянам» было запрещено. В эпоху Петра Великого каких-либо специальных законов о евреях не издавали. В 1727 году вышел указ Екатерины I, повелевшей выслать «жидов, как мужеска, так и женска пола, которые обретаются на Украине и в других российских городах… и впредь их ни под какими образы в Россию не впускать и того предостерегать во всех местах накрепко». В недолгое царствование Петра II, а затем при императрице Анне Иоанновне евреям было разрешено приезжать на ярмарки и для «оптового купеческого промысла». Указ Елизаветы отменял все эти послабления.
Однако запрет приезжать в Россию еврейским купцам затрагивал экономические интересы предприимчивых людей пограничных районов и торговых городов империи, в особенности это касалось Малороссии, Лифляндии, Риги. Сенат, реагируя на ходатайства «с мест» с просьбами разрешить евреям вести торговлю в пограничных областях, в 1743 году представил императрице «всеподданнейшее мнение»: если евреям «ярмарочный временный торг» «всеконечно пресечен будет, то не токмо Вашего Императорского Величества подданным в купечестве их великой убыток, но и высочайшим Вашего Императорского Величества интересам не малой ущерб приключиться может». На этот доклад 16 декабря 1743 года последовала знаменитая резолюция Елизаветы: «от врагов Христовых не желаю интересной прибыли». Деваться было некуда, и 25 января 1744 года Сенат издал указ, согласно которому евреям запрещался въезд в Россию «даже для торга на ярманки» и который предписывал подданным «о впуске их никаких ни откуда представлений не присылать».
Мотив указа Елизаветы о запрете евреям жить и даже приезжать в Россию был преимущественно религиозным. В случае перехода евреев в православие указ предписывал «жить им позволить, только из государства уже не выпускать». В этом отношении – отсутствии права покидать пределы империи – евреи ничем бы не отличались от других подданных государыни. Но это – предыстория.
В тот момент, когда нежданно-негаданно евреи оказались в составе Российской империи, «на дворе» стоял Век Просвещения, а императрица Екатерина II, при которой это случилось, была, пожалуй, самой европейской из российских правителей, как по происхождению, так и по образу мыслей. Другое дело, что каким бы благонамеренным ни был «просвещенный монарх» (а историки справедливо относят Екатерину к представителям «просвещенного абсолютизма») и как бы ни была велика его (в данном случае – ее) власть, с традициями приходилось считаться, а из своего времени не выпрыгнешь. Вернемся, однако, к евреям.
Евреи в России: численность и правовое положение. Кагалы
В 1800 году еврейское население России составляло почти четверть (22,8%) от общей численности евреев на земном шаре; к 1834 году, без малого двадцать лет спустя после присоединения к империи Герцогства Варшавского (1815) – несколько менее половины (46,9%); на меридиане века, в 1850 году, цифра достигла 50%; наконец, пик пришелся на 1880 год – 53,4%. После этого удельный вес российского еврейства по отношению к мировому начал неуклонно снижаться, составив к 1914 году 39%. В то же время в абсолютных цифрах численность еврейского населения продолжала расти. Поначалу прирост определялся прежде всего присоединением новых территорий: в 1772 году в составе империи после присоединения Белоруссии оказалось около 60 тысяч евреев, в результате второго и третьего разделов Польши еврейское население увеличилось на 500 тысяч человек, после присоединения Герцогства Варшавского – еще на 300 тысяч. По другим данным, уже после третьего раздела Польши еврейское население России составило 800 тысяч человек.
Главным фактором увеличения численности еврейского населения империи стал естественный прирост. Высокая рождаемость и низкая смертность объяснялись жестким следованием религиозным нормам иудаизма в семейно-брачной жизни и соблюдением гигиенических норм. В результате еврейское население, несмотря на массовую эмиграцию в 1881–1914 годах, к 1914 году достигло приблизительно 5 миллионов 250 тысяч человек. Кроме евреев, проживавших на бывших польских землях, в составе империи после присоединения Крыма в 1783 году оказались около трех тысяч караимов и евреев-раббанитов, в первой четверти XIX века – евреи Грузии (около шести тысяч), Дагестана и Северного Азербайджана (около 15 тысяч), Бессарабии (около 20 тысяч человек). В результате российских завоеваний в Средней Азии во второй половине XIX столетия в империи оказалось около двух тысяч бухарских евреев.
В то же время относительная доля евреев в населении империи, повышавшаяся на протяжении большей части XIX века (от 1,5% в 1800 году до 4,8% в 1880-м), в конце XIX – начале XX века непрерывно снижалась, сократившись к 1914 году до 3,1%. Приведенные данные носят оценочный характер; в литературе встречаются и другие цифры. Достоверные сведения имеются лишь по 1897 году, когда была проведена всероссийская перепись населения. Евреев переписчики насчитали 5 189 400 человек; они составляли 4% населения империи и 49% от численности всех евреев в мире.
Поначалу политика имперских властей по отношению к евреям отличалась достаточной терпимостью. В первом официальном обращении к жителям вновь присоединенных в 1772 году областей говорилось, что они будут пользоваться теми же правами, что и ранее. Не делалось исключения и для евреев. Можно было бы сказать, что евреи не особенно ощутили невольный переход в другое государство. Однако вскоре законотворчество в отношении новых подданных принесло им как некоторые преимущества, так и немалые неприятности. На вновь присоединенные территории в 1778 году было распространено общероссийское «Учреждение для управления губерний Российской империи», в соответствии с которым евреи, приписанные к городским кагалам (независимо от реального проживания в городах или сельской местности), были включены в «торгово-промышленный класс»; им было разрешено записываться в купеческое сословие (указ Екатерины II от 7 января 1780 года), участвовать на равных с христианами основаниях во вновь созданных органах городского самоуправления – ратушах и магистратах. Большинство евреев, чьи доходы и род занятий никак не позволяли счесть их купцами, были зачислены в сословие мещан, плативших повышенную подушную подать.
Здесь пришло время сказать о кагалах. Под кагалом в широком смысле понимается еврейская община в целом; в наиболее употребительном – правление еврейской общины, являвшееся посредником между нею и властями. Кагал переизбирали ежегодно. Число его членов было пропорционально величине общины и могло достигать нескольких десятков человек. Это относилось, конечно, к крупным общинам. Состав кагала, несмотря на ежегодные выборы, оставался практически неизменным, причем выбывших членов обычно заменяли их родственники. Это было не удивительно, ибо в состав, условно говоря, «законодательной» и в особенности исполнительной власти кагала входили состоятельные люди. Решения по всем текущим делам общины принимала «семерка» («семеро нотаблей города»), в состав которой входили четверо или пятеро старшин и трое почетных членов.
Таким образом, несмотря на внешне демократические процедуры, правление общины имело очевидные признаки олигархии. Старшины по очереди в течение месяца исполняли обязанности главы и одновременно казначея кагала (парнаса[1]). В общине был и еще ряд выборных должностей – попечителей благотворительности и религиозных училищ, судей, контролеров и некоторых других. Кагал занимался сбором податей, заведовал всеми общественными учреждениями общины, наблюдал за правильностью мер и весов, за чистотой улиц еврейского квартала, в общем, занимался всем, вплоть до регулирования оплаты слуг и служанок и норм их поведения.
Русское правительство, с одной стороны, было заинтересовано в сохранении института кагала, исходя из фискальных соображений. При уплате налогов действовал принцип круговой поруки, и в этом отношении вполне логичным было возложение на кагалы обязанности выдачи паспортов евреям (или в отказе выдачи таковых) – ведь речь шла о налогоплательщиках. С другой – имперские власти отнюдь не собирались терпеть общинную автономию. Евреев постепенно стали вносить в общегородские книги жителей, что в определенной степени ограничивало возможность кагала влиять на свободу их передвижения. Разбирательство гражданских споров между евреями было передано казенным судам, в ведении кагалов оставили только вопросы, затрагивающие «обряды закона и богослужения евреев». В целом это было движение в сторону слияния евреев с остальным населением империи.
Кагалы лишили права без согласования с властями вводить новые внутриобщинные налоги и еще в 1818 году обязали отчитываться о поступлении и использовании сумм коробочного сбора (внутриобщинного налога на кошерное мясо, основного источника поступления средств в кагальную казну; в некоторых общинах сбор взимался также с субботних и праздничных свечей, соли, рыбы и т. д.). Власти требовали, чтобы коробочный сбор шел исключительно на уплату долгов и податей; в 1829 году было разрешено его расходование также и на «нужды исполнения обрядов вероисповедания». При этом на кагалы были возложены, среди прочего, «призрение бесприютных евреев» и помощь евреям-переселенцам. Ограничения в распоряжении суммами коробочного сбора чрезвычайно осложняли деятельность кагалов; выручало то, что они повсеместно нарушались, и общины расходовали собранные суммы и на другие цели.
С 1785 года, согласно Жалованной грамоте городам («Грамота на права и выгоды городам Российской империи»), евреи могли входить во все шесть предусмотренных грамотой разрядов городских жителей, избиравших городскую думу. «Когда еврейского закона люди, – говорилось в именном указе от 26 февраля 1785 года, – вошли уже, на основании указов Ее Величества, в состояние равное с другими, то и надлежит при всяком случае наблюдать правило, Ее Величеством установленное, что всяк по званию и состоянию своему долженствует пользоваться выгодами и правами, без различия закона и народа».
Однако воспользоваться дарованными им правами евреям удавалось далеко не всегда ввиду сопротивления местного христианского населения, в особенности польских помещиков. Нередко евреев не допускали к участию в выборах, и центральные власти не смогли, несмотря на неоднократно повторявшиеся требования, добиться исполнения ими же принятого закона в полном объеме.
Черта еврейской оседлости
Частный случай положил начало возникновению едва ли не главной проблемы для евреев в течение всего последующего периода их существования в составе Российской империи – ограничения права жительства. Впрочем, вряд ли можно сомневаться, что, не случись столкновения интересов русских и еврейских купцов в Москве в 1780-х – начале 1790-х годов, нечто подобное произошло бы в другом месте и в другое время и результат был бы с высокой степенью вероятности аналогичным. В 1782 году Сенат разрешил купцам, проживавшим на вновь присоединенных территориях, в интересах их коммерции переезжать из города в город. Это было очевидной привилегией, поскольку имперское законодательство запрещало мещанам и купцам покидать города, к которым они были приписаны. По-видимому, законодатель имел в виду только территорию Белоруссии, однако прямо об этом в тексте не говорилось.
Воспользовавшись этой «прорехой», купцы-евреи стали осваивать внутрироссийский рынок, записываться в купечество Москвы и Смоленска. Трое купцов-евреев записались в 1-ю купеческую гильдию в Москве. Московские купцы не привыкли к жесткой конкуренции, навыки торговли купцов-евреев, позволявшие им существенно снижать цену товаров, казались им мошенничеством. Купцы-христиане обратились с жалобой к московскому главнокомандующему генерал-фельдмаршалу Александру Прозоровскому, доказывая, что дешевизна товаров купцов-евреев может быть объяснена только их контрабандным происхождением, а также указывая, что конкуренты поселились в Москве незаконно.
Прозоровский изгнал евреев из Москвы; те, в свою очередь, обжаловали его действия перед петербургскими властями. «Совет государыни», рассматривавший жалобу, запретил евреям записываться в купечество за пределами Могилевской и Полоцкой губерний, то есть Белоруссии, одновременно разрешив переселяться в Екатеринославское наместничество и Таврическую область, образованные на присоединенных в результате русско-турецких войн территориях. Решение Совета было узаконено Указом Екатерины II от 23 декабря 1791 года. Фактически Указ положил начало введению в России Черты еврейской оседлости. По совпадению без малого за три месяца до этого, 27 сентября 1791 года, Конституционное собрание Франции почти единогласно приняло постановление о полной эмансипации евреев. Россия явно шагала с Европой не в ногу.
Последующие – второй и третий – разделы Польши привели к расширению Черты оседлости за счет присоединенных территорий, на которых проживали евреи, с одновременным подтверждением запрета селиться за ее пределами. Указом от 13 июня 1794 года евреям разрешалось постоянное жительство в Минской, Изяславской (впоследствии Волынской), Брацлавской (Подольской), Полоцкой, Могилевской, Киевской, Черниговской, Новгород-Северской губерниях, в Екатеринославском наместничестве и Таврической области; в 1795 году к ним добавились вновь образованные Виленская и Гродненская губернии.
На протяжении последующего столетия Черта еврейской оседлости то сужалась, то расширялась, составив к концу XIX века 15 губерний, а именно: Бессарабскую, Виленскую, Витебскую, Волынскую, Гродненскую, Екатеринославскую, Ковенскую, Минскую, Могилевскую, Подольскую, Полтавскую, Таврическую (в 1893 году евреям было запрещено селиться в Ялте), Херсонскую, Черниговскую и Киевскую (кроме Киева). В 1888 году Ростовский уезд и Таганрог были выделены из Екатеринославской губернии и присоединены к Области Войска Донского, что выводило их за пределы Черты; соответственно, евреям было запрещено жить на указанных территориях. Правда, евреи, проживавшие там до 19 мая 1887 года, сохраняли право жительства.
В отличие от своих довольно быстро эмансипирующихся, начиная с эпохи Великой французской революции, западноевропейских собратьев российские евреи едва ли не на протяжении столетия оставались общественной группой, по словам историка Стивена Ципперштейна, «отличавшейся от коренного населения религией и собственными общинными институтами и выполнявшей специфические экономические функции вне рамок господствующих корпораций и гильдий».
Собственно, о «русском еврействе» можно говорить лишь начиная с семидесятых годов XIX века; до этого времени евреи Российской империи оставались скорее «польскими евреями». Впервые словосочетание «русские евреи» было употреблено в 1856 году в докладе министра внутренних дел С. С. Ланского. По мнению российского этнографа Натальи Юхневой, в докладе министра речь шла обо всех евреях – российских подданных; впервые же термин «русские евреи», подразумевая обрусевших или, во всяком случае, подвергшихся заметному влиянию русской культуры евреев, употребил юрист и историк Илья Оршанский применительно к «таврическим евреям» в своей книге «Евреи в России: Очерки экономического и общественного быта русских евреев» (СПб., 1877).
Употребляя здесь и далее словосочетание «российское еврейство», мы отдаем себе отчет в его определенной условности. По словам израильского историка Мататиягу Минца, «российское еврейство, как единое целое, существовало только в фантазиях еврейских общественных деятелей Петербурга и Одессы… Однако на самом деле российское еврейство не существовало как единое целое. Украинские, белорусские, литовские, польские и бессарабские евреи являлись отдельными общинами, а не расплывчатым географическим или региональным понятием».
«Еврейская экономика». Правительственная политика в отношении евреев
Евреи в Речи Посполитой были носителями капиталистических тенденций. Собственно, для того чтобы способствовать развитию экономики, они и были «званы» некогда в Польшу ее королями. Евреи были заняты в сфере управления, нередко полностью заменяя помещиков в хозяйственных делах; они арендовали сельскохозяйственные угодья, отдельные права и монополии (например, продажу спиртных напитков или соли), иногда даже города и местечки; весьма распространенным видом аренды было содержание шинков и постоялых дворов. Одно время евреи фактически контролировали сферу крупного и мелкого кредита (ростовщичество). Особенно активны они были в сфере торговли – оптовой, розничной, посреднической. Еврейским ремесленникам принадлежала фактически монополия на многие виды услуг (пошив одежды, ремонт обуви и некоторые другие). Занимались евреи и сельским хозяйством.
Екатерина II еще в 1760-х годах пыталась привлечь еврейских колонистов в Новороссию, с тем чтобы не только заселить пустынные земли, но и увеличить крайне малочисленное российское «третье сословие». При этом как бы всевластной государыне, дабы не раздражать подданных, приходилось прибегать к эзопову языку. К примеру, в инструкции властям Юга России в 1762 году говорилось об их праве допускать на свои земли всех переселенцев «без различия расы и веры». Такая формулировка применялась обычно, когда речь шла о евреях.
Императрице приходилось буквально конспирироваться, когда речь шла о евреях. Когда в 1764 году ей потребовалось доставить в Петербург нескольких евреев, она велела частным письмом лифляндскому губернатору Юрию Броуну выдать им паспорта «без указания их расы и веры» и собственноручно приписала по-немецки: «Если вы меня не поймете – не моя вина… Держите все это в тайне». Губернатор все понял правильно, и семерых евреев, включая раввина, тайно привезли в столицу, причем поначалу поселили в доме исповедника императрицы. Впервые евреям официально разрешили селиться в Новороссии в 1769 году, еще до первого раздела Польши.
Евреи, носители капиталистических тенденций в средневековом мире, вызывали раздражение у своих христианских соседей. Однако ко времени разделов Польши экономическое влияние еврейства значительно поубавилось. В особенности это касалось сферы финансов: финансисты-евреи не выдерживали конкуренции со стороны монастырей и богатых землевладельцев. И все же мнение о евреях – эксплуататорах окружающего населения, в особенности крестьян, было достаточно устойчивым.
В российской государственной мысли конца XVIII – начала XIX века оно с наибольшей яркостью нашло выражение в записке сенатора и поэта Гавриила Державина, в 1799 году расследовавшего жалобу шкловских евреев на притеснения со стороны бывшего фаворита Екатерины II Семена Зорича. В следующем году Державина направили в Белоруссию для выяснения причин голода, в очередной раз поразившего некоторые районы этого края. Название записки говорит само за себя: «Мнение сенатора Державина об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и о прочем».
Трактат Державина выходил за пределы выяснения вопроса о причинах голода; это довольно пространный юдофобский манифест. Как справедливо отмечал историк Джон Клиер,
в исторической литературе существовала тенденция попросту игнорировать Державина как религиозного юдофоба. Однако характер антипатии Державина к евреям был сложнее, чем предполагает такая характеристика. Его идеи представляют собой переход от старой, в основном религиозной традиции неприятия евреев к ее варианту, основанному на культурных различиях, который в течение XIX века складывался в России (да и в других странах). Религиозные предрассудки Державина часто стояли за его осуждением несовершенств повседневной мирской жизни евреев, но это осуждение может рассматриваться и независимо от соображений веры. Например, к Талмуду он подходил как к документу и религиозному, и светскому. Толкования Библии у него переплетались с экономическими антипатиями польского торгового сословия… Русские юдофобы следующего столетия, носители более однородной идеологии, как правило, ссылались на державинские выпады против экономических и культурных особенностей жизни евреев, отбрасывая его высказывания по поводу религии.
Добавлю, что от Державина досталось и белорусскому крестьянству, которое он обвинял в чрезмерной склонности к пьянству и излишней вольности, а также польским магнатам. Одним из рецептов Державина по исправлению положения в Белоруссии, кроме ограничения прав и «исправления» евреев, было усиление крепостничества на вновь обретенных землях, ограничение вольности крестьян в такой же степени, как в России, и усиление ответственности помещиков за подвластных им крестьян.
Защита окружающего населения от еврейской «эксплуатации» стала одним из краеугольных камней политики российских властей в отношении новых подданных. Отсюда – следовавшие время от времени распоряжения о выселении евреев из сельской местности, о запрещении евреям селиться за пределами городов и местечек, об ограничении их права заниматься теми или иными видами хозяйственной деятельности.
Другой ключевой задачей, определявшей политику российских властей по отношению к евреям, была борьба с еврейским «фанатизмом», «исправление» евреев. Причем борьба с «фанатизмом» была приоритетной, так как «эксплуатация» стала его следствием. Еврейский фанатизм заключался, по мнению властей, в том, что евреи считали себя избранным народом, презирали иноверцев, среди которых жили, не были лояльны к государственной власти, ибо соблюдение норм своей религии считали важнее подчинения законам государства. Различие между либеральной и консервативной политикой в отношении евреев состояло в том, что «либералы» полагали полезным для «исправления» евреев дать им сначала права, консерваторы же считали, что для получения прав евреи должны поначалу «исправиться».
Российская власть стремилась в конечном счете к эмансипации евреев, к интегрированию их в российское общество. Это вполне соответствовало идее «регулярного государства». Вопрос был лишь в мерах и сроках. Меры поощрительные (например, разрешение «полезным» категориям евреев жить за пределами Черты оседлости, облегчение доступа к общему среднему и высшему образованию и даже выделение субсидий для этого) и ограничительные (запрещение ношения традиционной одежды или же выселение из сельской местности) чередовались или даже сочетались в одних и тех же законодательных актах.
Почти без перерыва на протяжении всего XIX века действовали различные комитеты и комиссии по еврейскому вопросу. В царствование императора Александра I действовали последовательно (иногда одновременно) четыре таких комитета, начиная с учрежденного в 1802 году Комитета о благоустройстве евреев. На самом деле «благоустройство» всегда сочеталось с разного рода ограничениями. Главный комитет об устройстве евреев (Комитет для лучшего устройства евреев), учрежденный Александром I в 1823 году, завершил свою деятельность уже при императоре Николае I в 1835-м.
Евреи в царствование императора Николая I. Рекрутская повинность
Апогея борьба с еврейским «фанатизмом» достигла в царствование императора Николая I (1825–1855). В этот период было издано около 600 законодательных актов о евреях (свыше половины всех законов, принятых в николаевское время). При нем была введена рекрутская повинность для евреев (1827), и армия нередко использовалась как инструмент обращения евреев в православие. Срок военной службы составлял 25 лет, недаром рекрутов оплакивали как покойников: шансы на их возвращение были невелики. Еврейское население должно было ежегодно давать десять рекрутов с одной тысячи мужчин (христиане – семь человек с одной тысячи раз в два года).
Рекрутская повинность была введена для еврейских мальчиков с двенадцатилетнего возраста. Их отправляли в школы кантонистов. Название произведено от прусских полковых округов – кантонов. Несмотря на известную фразу знаменитого полководца Александра Суворова «русские прусских всегда бивали», похоже, Пруссия оставалась для российских военных образцом. В школы кантонистов направляли также финских, цыганских, польских детей. В армию нередко брали еврейских детей с восьмилетнего возраста. Возможности для произвола предоставляло то, что возраст зачастую определяли на глаз. Время пребывания в кантонистах не засчитывалось в срок военной службы.
Вдобавок в 1830 году сенаторы, обеспокоенные снижением поступления налогов, взимаемых с кагалов, приняли указ, по которому при сдаче дополнительного взрослого рекрута с кагала списывались 1000 рублей, ребенка – 500 рублей. Результат не замедлил сказаться: евреев стали забирать в рекруты за долги в столь большом количестве, что это неизбежно должно было привести к еще большему снижению платежеспособности кагалов, и Николай I приостановил действие указа.
Ссыльный Александр Герцен встретил по дороге из Перми в Вятку команду только что набранных кантонистов. Сопровождавший их офицер, явно тяготившийся своими обязанностями, объяснил Герцену:
– Видите, набрали ораву проклятых жиденят с восьми-девятилетнего возраста. Во флот, что ли, набирают – не знаю. Сначала было их велели гнать в Пермь, да вышла перемена, гоним в Казань. Я их принял верст за сто; офицер, что сдавал, говорил: «Беда да и только, треть осталась на дороге» (и офицер показал пальцем в землю). Половина не дойдет до назначения, – прибавил он.
Потрясенный Герцен спросил, повальные ли болезни тому причиной.
– Нет, не то чтоб повальные, а так, мрут, как мухи; жиденок, знаете, эдакой чахлый, тщедушный, словно кошка ободранная, не привык часов десять месить грязь да есть сухари – опять чужие люди, ни отца, ни матери, ни баловства; ну, покашляет, покашляет да и в Могилев. И скажите, сделайте милость, что это им далось, что можно с ребятишками делать?
<..>
Привели малюток и построили в правильный фронт; это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал, – бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати лет еще кой-как держались, но малютки восьми, десяти лет… Ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст.
Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких, толстых солдатских шинелях с стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо ровнявших их; белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети без уходу, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу.
Если Герцен и сгустил краски, то не слишком сильно.
Сделать карьеру в армии евреи не могли. В унтер-офицеры разрешалось производить лишь особо отличившихся некрещеных евреев, причем с 1850 года – только с согласия императора по каждому конкретному случаю. Соответственно, производство в офицеры было исключено. Кроме того, время от времени вводились другие ограничения для евреев, например запрещение брать их в денщики (1829) или направлять в карантинную стражу (1837). Ограничения объяснялись, гласно или негласно, «дурной нравственностью» евреев.
За поставку рекрутов отвечал кагал, причем (что не удивительно при его олигархическом характере) нотабли выгораживали детей богатых членов общины и нередко, в нарушение правил и вопреки очередности, сдавали в кантонисты детей бедняков, вдов и «маловеров». Вдобавок власти наделили кагалы правом «отдавать в рекруты всякого еврея во всякое время за неисправность в податях, бродяжничество и другие беспорядки, нетерпимые в еврейском обществе». От рекрутской повинности были освобождены «полезные евреи»: купцы всех гильдий, члены кагала на время их каденции, жители сельскохозяйственных колоний, цеховые мастера, механики на фабриках, раввины и все евреи, имевшие среднее или высшее образование. Прочие правдами и неправдами стремились уклониться от службы.
Кагал содержал сыщиков для розыска беглецов, стражников и ловцов («хаперс») детей для сдачи их в кантонисты. В 1853 году власти разрешили «обществам и евреям представлять за себя в рекруты беспаспортных своих единоверцев даже из других общин». «Еврейские массы» и без того были недовольны заправилами кагала, а их деятельность (вынужденная) способствовала перерастанию недовольства в ненависть и вела в конечном счете к упадку кагала.
Кагалы предпринимали определенные действия для снижения налогового бремени и числа рекрутов, а именно занижали численность еврейского населения при составлении «ревизских сказок» (то есть списков лиц податного сословия, налогоплательщиков). Манипуляции с «ревизскими сказками», не всегда заметные «внешнему» взгляду, было труднее утаить от «своих». Этим пытались воспользоваться разного рода аферисты – вымогатели и доносчики. Иногда для них это заканчивалось плохо. Наиболее известен случай расправы с доносчиками в местечке Новая Ушица Подольской губернии, недалеко от Каменец-Подольского. Кагальные старшины окрестных местечек решили избавиться от вымогателей купцов Ицки Оксмана и Шлемко Шварцмана. В конце января – начале февраля 1836 года обоих задушили с интервалом в несколько дней. Труп Оксмана утопили в озере, труп Шварцмана расчленили и сожгли в засмоленной бочке в бане.
14 февраля 1836 года рыбаки выловили из озера труп Оксмана. Долгое следствие завершилось в конечном счете военным судом, которым 10 апреля 1840 года были приговорены к различным видам наказания более 80 человек, причастных к организации и осуществлению убийств. Часть осужденных была приговорена к лишению всех прав состояния, каторжным работам в Сибири и ударам шпицрутенами. Приговоренных к последнему наказанию должны были прогнать сквозь строй в 500 человек от одного до четырех раз. Понятно, что это была форма смертной казни. По неподтвержденным (но вполне правдоподобным) сведениям, 30 человек были забиты до смерти. Семьи доносчиков получили по 1200 рублей каждая, а их дети были освобождены от рекрутской повинности.
В 1833 году 4-й Еврейский комитет завершил работу, а в 1835-м император Николай I утвердил подготовленный им законопроект как Положение о евреях. Оно обобщило предшествовавшее, по сути антиеврейское, законодательство, при этом дополнительно запретило евреям селиться в пятидесятиверстной приграничной полосе и подтвердило запрет нанимать христиан в качестве домашней прислуги. В то же время оно содержало некоторые меры по поощрению евреев к крестьянскому труду: евреи, «избравшие земледельческое состояние», освобождались от подушной подати на 25 лет, от рекрутской повинности – на 25 или 50 лет, от земских денежных повинностей – на 10 лет. В этом отношении императорская власть являлась своеобразной предтечей идей еврейских социалистов о приобщении евреев к «производительному труду». Под производительным трудом и те и другие явно понимали работу руками, а не головой.
В 1840 году был учрежден, по инициативе и под председательством графа Павла Киселева, 5-й Еврейский комитет, на сей раз под названием Комитет для изыскания и определения мер к лучшему устройству евреев. Основной задачей комитета являлось, «ослабив религиозные заблуждения евреев, вести их к слиянию с общим населением и обратить к полезному труду». Комитету суждено было завершить свою работу уже при Александре II, под председательством графа Дмитрия Блудова (с 1856-го) и барона Модеста Корфа (с 1862-го). Киселев, выдающийся реформатор, получил назначение послом в Париж. Комитет завершил свою деятельность де-факто в 1863 году (официально – в 1865-м), и основные решения, в самом деле облегчившие положение евреев, были приняты при новом императоре. Об этом мы поговорим ниже, пока же – о важнейших реформах 1840-х годов.
По представлению комитета, в 1844 году кагалы были упразднены (за исключением Риги и городов Курляндской губернии, где кагалы просуществовали до 1893 года), а их функции переданы городским управам и ратушам. Парадокс состоял в том, что после официальной ликвидации кагалов правительство обязало еврейские общины, то есть де-факто тех же кагальных нотаблей, обеспечить сбор податей и поставку рекрутов. В 1891 году Сенат, рассматривая одну из жалоб евреев, признал ненормальным положение, при котором евреи были связаны круговой порукой за поставку рекрутов и уплату налогов, хотя кагальная организация де-юре не признавалась. Это сенатское заключение никаких последствий не возымело. Официальное признание еврейские общины получили лишь при Временном правительстве в 1917 году.
В том же 1844 году вышел указ об учреждении казенных еврейских училищ. Первые такие училища открылись в 1847 году в Вильне и Житомире. Обучение в казенных еврейских училищах было бесплатным, но содержать их должны были сами евреи из сумм свечного сбора и некоторых других косвенных налогов. Смотрителями и преподавателями светских дисциплин в казенных училищах могли быть только христиане. Евреи не без оснований заподозрили в действиях властей покушение на еврейские религиозные основы. В самом деле, в секретной записке министра народного просвещения графа Сергея Уварова императору задача казенных еврейских училищ формулировалась вполне откровенно: «очищение религиозных понятий евреев».
Открытие училищ в еврейских общинах было встречено не радостью, а скорбью – постами и публичными молитвами. Просветительская политика властей воспринималась как «школьная повинность» и именовалась не иначе как «школьные гонения». Чтобы избежать отправки своих детей в казенные училища, состоятельные евреи нанимали детей бедняков для учебы или находили какие-то другие выходы, включая подкуп чиновников. Число отсутствующих учеников в некоторых казенных еврейских училищах достигало двух третей, что компенсировалось фальсифицированными отчетами местных властей, направлявшимися в Министерство народного просвещения. В недалеком будущем ученики, окончившие казенные еврейские училища, оказались среди первых евреев, освоивших русский язык и приобщившихся к русской культуре.
В общем, власти не оставляли евреев своим попечением. Предлагаемые меры, направленные на ликвидацию обособленности евреев, были иногда разумны, иногда нелепы. Однако конечной цели «разъевреивания» евреев власть так и не достигла. Слишком велико оказалось «сопротивление материала». Несмотря на очевидные преимущества перехода в христианство – в этом случае с евреев снимались практически все ограничения, – этой возможностью за весь XIX век воспользовались 84 500 человек, что составило 0,7% еврейского населения России.
Споры о пути к Богу. Хасидизм
В свое время польские короли привлекали евреев на свои земли не только обещанием защиты их экономической, прежде всего финансовой, деятельности, но и гарантиями ведения еврейского образа жизни, то есть религиозной терпимостью и официальным признанием еврейских общинных институтов, включая судебные. Разумеется, терпимость была относительной и проявления антисемитизма на религиозной почве, а позднее – столкновения в связи с конкуренцией в экономической сфере были делом нередким.
Евреи не смешивались с коренным населением, жили в особых кварталах (гетто), говорили на непонятном для окружающих языке (идиш), носили традиционную одежду, считавшуюся еврейской, а на самом деле принятую в Польше примерно в XVI веке; «атрибутом» мужчин были бороды и пейсы, женщины же, напротив, брили головы и носили парики. Однако не следует думать, что «сегрегация», употребляя современный термин, была делом только христианского общества и что евреи страдали от отсутствия повседневного общения с соседями, выходящего за рамки деловых отношений. Как показал в своих работах Яаков Кац, стена гетто строилась с двух сторон. Евреи не жаждали общения с окружающим населением; в силу жестких религиозных предписаний им было весьма непросто, к примеру, пойти в гости к нееврею: пища в доме предполагаемого хозяина наверняка готовилась без следования правилам кашрута[2]. Споры между хасидим и митнагдим долгое время занимали обитателей штетлов больше, чем любые новости из окружающего мира.
Хасидизм (путь праведности, благочестия) – религиозно-мистическое движение, возникшее в 1730-х годах в Речи Посполитой, на территории современной Украины. Рациональными причинами возникновения хасидизма считаются бедствия, переживаемые еврейскими общинами, – обнищание, погромы – начиная с времен Богдана Хмельницкого. Его возникновение связывают с деятельностью проповедника и целителя Баал-Шем-Това (Бешта) (1698–1760) из Меджибожа.
Суть хасидизма – в поисках непосредственного переживания Бога через экстатическую молитву, единения с Богом. Достижение единения с Богом является индивидуальной задачей человека. При этом Бог постигается в числе прочего через радость, включая песни и пляски. Особенностью хасидизма является представление о пребывании в мире цадиков (праведников), обладающих врожденным даром достижения общения с Богом, точнее – слияния с ним. Хасидизм отнюдь не отрицает учености, изучения и толкования Торы. В то же время это не является обязательным условием постижения Бога. Главное – личные усилия, праведный образ жизни, ибо Бог – везде. Эти положения способствовали росту популярности хасидизма, сделали его народным движением. Территории, отошедшие к Российской империи, можно с полным основанием назвать территорией хасидизма. Наиболее популярным цадиком на вновь обретенных землях поначалу был Шнеур Залман (1745–1812) из Ляд (Белоруссия), основатель хасидского движения Хабад (от ивритского хохма, бина, даат – мудрость, понимание, знание). По мере присоединения новых территорий обретались и новые цадики. Как водится, духовные лидеры нередко враждовали между собой. Одним из наиболее известных был Нахман из Браслава (р. 1772), правнук Бешта по материнской линии. Он скончался в Умани в 1810 году. Его могила и ныне служит местом паломничества брацлавских хасидов.
Митнагдим (миснагдим) – противники, оппоненты, как их прозвали хасиды. Сторонники традиционного, раввинистического иудаизма, отдающие приоритет изучению Талмуда, в отличие от хасидов, делающих упор на эмоциональную сторону иудаизма. Центром противостояния хасидизму была Литва, а главным противником – Элияху бен Шломо Залман (1720–1797), Виленский гаон («гений» на иврите). Виленский гаон считал хасидов сектантами, раскольниками. По его указанию во всех синагогах Вильно хасиды были преданы херему (отлучению), а хасидские книги сожжены. Он отверг заверения хасидских лидеров, что хасидизм не подрывает основы иудаизма, и их попытки примириться. Точнее, просто отказался их принять.
Борьба между течениями в иудаизме на рубеже XVIII–XIX веков носила столь ожесточенный характер, что стороны не стеснялись доносить друг на друга властям. Митнагдим больше преуспели в этом отношении, и Шнеур Залман дважды оказывался в тюрьме, в 1798 и 1800 годах. В первом случае Шнеура Залмана обвинили в том, что он посылает деньги турецком султану; объяснения цадика были признаны удовлетворительными, и он был освобожден. Во втором его освободили после воцарения императора Александра I в 1801 году. Ожесточенная борьба сменилась чем-то вроде примирения: во-первых, на почве общей заинтересованности в упорядочении коробочного сбора, во-вторых, в связи с появлением общего противника – сторонников Гаскалы.
Гаскала
Гаскала (Хаскала – просвещение (иврит)) – движение Просвещения среди евреев – не получила широкого распространения в России. Сторонники Гаскалы, маскилим[3], были немногочисленны и в своих реформаторских поползновениях были вынуждены опираться на поддержку властей. Положение российских евреев, чей культурный уровень был скорее выше уровня окружающего населения, разительно отличалось от евреев – обитателей Германии, где, собственно, и зародилась Гаскала. Идеи о распространении светского образования среди евреев высказывались уже в конце XVIII – начале XIX века отдельными маскилим, как правило, получившими образование в Германии или часто по роду деятельности бывавшими за границей.
В 1800 году врач Илья Франк подал Державину записку на немецком языке «Может ли еврей стать хорошим и полезным гражданином?», в которой ратовал за открытие общеобразовательных школ с преподаванием на немецком языке и иврите. Российские маскилим – общественные деятели и предприниматели Абрам Перетц и Нота Ноткин (один из основателей петербургской еврейской общины), финансист, литератор и переводчик Лейб Невахович – стремились к преодолению отчужденности евреев от русского общества. Неваховичу принадлежит первое произведение русско-еврейской литературы – трактат «Вопль дщери иудейской» (1803). В нем автор взывал к христианам:
Вы ищете в человеке Иудея, нет, ищите лучше в Иудее человека, и вы без сомнения его найдете. Примечайте только… Клянусь, что Иудей, сохраняющий чистым образом свою религию, не может быть злым человеком, ниже худым гражданином!!!
Все трое сотрудничали в той или иной форме с русским правительством, стараясь отстаивать права единоверцев и одновременно содействовать их «просвещению». Все трое были в разное время поставщиками русской армии, причем Перетц и Ноткин разорились вследствие неисполнения казной своих обязательств.
Невахович в конечном счете в 1806 году принял лютеранство, служил по Министерству финансов, получил потомственное дворянство. Вместе со своим патроном графом Николаем Новосильцевым (ставшим фактическим правителем Польши) переехал в 1813 году в Варшаву, где поначалу служил при Министерстве финансов Царства Польского в чине титулярного советника. В 1816 году получил на откуп табачную монополию в Царстве Польском, стал одним из самых богатых людей Польши. Жил в трехэтажном каменном особняке с двумя флигелями, конюшнями и другими пристройками, а также с английским садом. Собрал прекрасную библиотеку. Продолжал на досуге писать драмы, философские и богословские трактаты. В общем, неплохая карьера для просветителя. В октябре 1830 года, за две недели до польского восстания, видимо, почувствовав неладное, уехал из Варшавы, захватив деньги и ценности. Его особняк и другую принадлежавшую ему недвижимость разграбили повстанцы. Умер в следующем году в Петербурге и был похоронен на Волковском лютеранском кладбище.
Подлинным родоначальником Гаскалы в России считается писатель Ицхак-Бер (Исаак-Бер) Левинзон (1788–1860). Он родился и провел большую часть жизни в небольшом городке Кременец Подольской губернии. Тяжелая болезнь на долгие годы приковала его к постели. Жил в бедности. В своей ставшей знаменитой книге на иврите «Миссия в Израиле» (1828, название переводится иногда как «Предупреждение для Израиля» или «Свидетельство в Израиле»; под Израилем понимается еврейский народ) выдвинул программу преобразований, включавшую изучение европейских языков и светских наук. В книге поставлены следующие вопросы:
1) обязательно ли еврею изучать древнееврейский язык и его грамматику? 2) дозволено ли ему изучать иностранные языки? 3) можно ли еврею заниматься светскими науками? 4) если да, то какая в них польза? 5) искупает ли эта польза тот вред, который, по мнению весьма многих, эти науки наносят нашей вере и традициям?
Эти вопросы, ответы на которые могут показаться человеку XXI века очевидными, в момент выхода книги казались большинству ортодоксов крайне предосудительными и даже опасными. Аргументируя необходимость заниматься светскими науками и прочие постулаты своей книги, Левинзон ссылался на Талмуд и труды величайших в ортодоксальном еврействе авторитетов, продемонстрировав исключительную богословскую эрудицию. Среди прочего Левинзон призывал заменить в повседневном общении идиш русским языком. В поисках средств для издания книги в 1827 году Левинзон отправил рукопись министру народного просвещения адмиралу Александру Шишкову, ходатайствуя о выдаче ему вспомоществования для издания «предназначенной для просвещения евреев книги». «По высочайшему повелению» Левинзону были ассигнованы в конце 1828 года 1000 рублей (немаленькие по тем временам деньги) «за сочинение на еврейском языке, имеющее предметом нравственное преобразование еврейского народа». Книга к тому времени уже вышла в свет при поддержке нескольких друзей Левинзона.
