Не имеющий известности
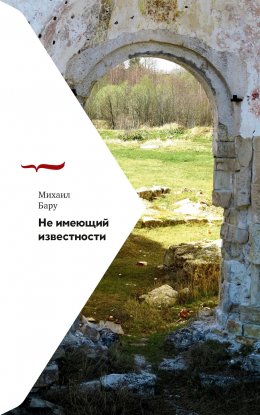
В оформлении обложки использовано фото автора.
© М. Бару, 2025
© Ю. Васильков, дизайн серии, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Моей жене Тане
Вместо предисловия
Памятник русскому уездному городу никто не поставит, а зря. Кабы я был скульптор и архитектор, да в придачу председатель конкурсной комиссии при Министерстве памятников и барельефов, непременно организовал бы конкурс на его устройство. Не такой, конечно, монументальный, как тот, что воздвигли тысячелетию России в Великом Новгороде, – без шара-державы, креста, ангела и коленопреклоненной женщины в русском национальном костюме, но непременно многоярусный, с горельефами на каждом ярусе.
В первом, самом нижнем ярусе, среди дремучих лесов, грибов, ягод и дикого меда – тихий, робкий, почти первобытный финно-угр – собиратель грибов, ягод, дикого меда, рыболов и охотник. Тут же рядом по одному вятичу, кривичу, древлянину, полянину… короче говоря, все те, кто потом этого тихого и робкого финно-угра частью ассимилировал, а частью просто согнал с насиженного места дальше на север – в финские болота за линию Маннергейма.
Во втором ярусе опоясанные дубовыми рублеными стенами и башнями маленькой крепости на холме или на высоком берегу реки – воевода, стрелецкий голова, приказный с вырванным воеводой клоком волос, стрелец, городовой казак, драка между ними, пьяные пушкари, стрелецкая жена с ухватом, еще одна стрелецкая жена, ухватившая мужа за пищаль, посадские, попы, которые куда увереннее держат саблю, чем кадило, коровы и свиньи, разгуливающие по главной площади крепости. Куры и гуси, переходящие единственную улицу. Там же и два бронзовых листка. На первом – накладная, то есть опись городового имущества, с перечислением всех пушек, пищалей, фальконетов, чугунных и каменных ядер, свинцовых пуль, пулелеек, зелья, бердышей, протазанов, рогатин, запасов хлеба, проросшего лука, соли, мыла, сушеных грибов, гречки, бочек с давно протухшей квашеной капустой и пересоленными огурцами, нагольных тулупов, лягушек во рву вокруг крепости, лавок с красным товаром, питейных домов и царевых кабаков. На втором – строчка из царского указа, в котором русским по белому написано: «Жить с великим береженьем, денные и ночные сторожи держать крепкие». Вокруг крепости не луга с полевыми цветами, а крымские и казанские татары, ногаи, черемисы, литва, ливонские рыцари, польские жолнеры, летучие гусары, наемники римского кесаря, шведы, самозванцы, казаки, но уже не городовые, а запорожские, беглые крестьяне из армии Болотникова, разинцы… (Этих нужно как-то мелко, как на колонне Траяна, чтобы все уместились хотя бы по одному.)
В третьем ярусе первый городничий – тощий немец в звании секунд-майора, толстый бургомистр, необъятный городской голова с окладистой бородой, запятки проезжающей мимо кареты императрицы или императора с преогромными гайдуками, монументальные купцы с резным блюдом, на котором хлеб-соль, титулярные и надворные советники, уездный предводитель дворянства, уездные дамы и девицы, купеческие жены, драгуны или конные егеря из полка, стоящего в городе, принесенные в подолах купеческих и мещанских жен конные егерята, городской собор, купеческие особняки, первые ученики народных училищ с огромными, вытянутыми от постоянного тасканья ушами, рабочий мыловаренного или кирпичного завода в мыле или кирпичах, первый немец-аптекарь, непроворный инвалид со своим шлагбаумом, железная дорога, проходящая мимо, богадельня с десятком стариков и старух, большевик, наклеивающий листовку, первый гимназист, с интересом ее читающий, городовой с преогромными усами, хватающий гимназиста за ухо.
В четвертом ярусе еще один большевик, эсер, солдат, пришедший с фронта, дезертир, еще один дезертир, неизвестно как оказавшийся в этих сухопутных местах революционный матрос Балтийского флота с преогромной деревянной кобурой на боку, сумасшедший поэт, чьи стихи печатаются в местной газете, духовой оркестр, играющий в городском саду, развалины старой крепости, в которых собираются рабочие на маевку, гимназисты и гимназистки с красными бантами, испуганные мещане, куры и гуси, стремительно убегающие из-под ног. Убитый городовой. Бронзовый листок с поздравительной телеграммой, отбитой вождю мирового пролетариата в связи с его пятидесятилетием. Расстрел офицеров и гимназиста в углу городского сада. Еще один бронзовый листок с меню из общественной столовой, в котором щи из капусты, гороховая каша и морковный чай. Здание уездной ЧК, занимающее старинный двухэтажный купеческий особняк. Председатель уездной ЧК в потертой кожаной куртке, ботинках с обмотками и с наганом в руках. Секретарь уездного комитета партии в такой же куртке, с таким же наганом в руках, в таких же ботинках с обмотками и с таким же лицом. Разрушенная колокольня.
В пятом ярусе секретарь райкома партии в широком мятом галстуке с огромным узлом, пионерский отряд со знаменем и барабаном, идущий по пыльным улицам. Куры и гуси, убегающие из-под пионерских ног. Обелиск павшим борцам. Кирпичная труба мыловаренного или кирпичного завода. Рабочий мыловаренного или кирпичного завода с бронзовым листком почетной грамоты и орденом на груди. Лейтенант в форме сотрудника ОГПУ. Еще один сотрудник ОГПУ в штатском. Еще два бронзовых листка – один с политическим анекдотом, а другой – «с написанным вручную содержательным доносом». Дом культуры с колоннами. Сумасшедший поэт, чьи стихи печатаются в местной газете. Черная тарелка радио. Еще один бронзовый листок с десятирублевой облигацией государственного внутреннего займа укрепления обороны. Семья уезжающих спецпереселенцев – сидящие на чемоданах папа, мама, девочка и кот у нее на руках. Разрушенная колокольня.
В шестом ярусе новая электростанция, электрические фонари на улицах, духовой оркестр, играющий в городском саду, солдаты, уходящие на фронт. Бронзовый листок с похоронкой. Сгоревший дом. Еще один бронзовый листок с похоронкой. Торчащая печная труба. Пикирующий бомбардировщик. Еще два бронзовых листка с похоронками. Подбитый танк на площади. Еще один сгоревший дом. Разрушенная кирпичная труба то ли мыловаренного, то ли кирпичного завода. Расстрел партизан в углу городского сада. Еще три бронзовых листка с похоронками. Маленькое, могил на двадцать, кладбище с готическими фанерными крестами. Два взорванных дома и развалины Дома культуры. Разрушенная колокольня.
В седьмом ярусе развалины, землянки, дети, играющие в ржавом танке на площади, секретарь райкома в гимнастерке с пустым рукавом, заткнутым за офицерский ремень, огороды. Еще огороды. Бронзовый листок с похоронкой, еще один бронзовый листок с похоронкой, кирпичная труба то ли мясокомбината, то ли завода по производству консервированных овощей, переходящее красное знамя Совета министров. Кинотеатр с названием «Родина», Дом культуры с колоннами, духовой оркестр, играющий в городском саду, пары танцующих женщин. Памятник вождю мирового пролетариата и трибуна для выступлений у его подножия, первомайская демонстрация трудящихся, куры и гуси, идущие вслед за демонстрантами, остатки стен разобранного на кирпичи городского собора. Разрушенная колокольня.
В восьмом ярусе ларек, еще ларек, обменный пункт, множество бронзовых листков с объявлениями о мгновенных кредитах без отказа и документов, сумасшедший поэт, чьи стихи печатаются в местной газете, еще один такой же, но женского пола, кирпичная труба остановившегося то ли мясокомбината, то ли завода по производству консервированных овощей, духовой оркестр в городском саду. Отделение Сбербанка в старинном двухэтажном купеческом особняке. Автобус и люди, садящиеся в него, чтобы уехать в большие города на заработки. Развалины крепости, в которых играют дети. Бабушка и дедушка на скамейке. Еще три бабушки на другой скамейке. Трехъярусная колокольня с висящими на ней колоколами.
Колокола Федора Максимова
Коложе
Если от общего количества читающих книги людей отделить тех, кто читает их на русском языке, а от них отделить читающих стихи Пушкина, а от этих отделить тех, кто читал их не только в школе и не забыл навсегда, а от оставшихся тех, кто помнит наизусть стихотворение «Признание» и строчку «…и путешествие в Опочку», то как раз и останутся те, кто слышал о существовании этого маленького городка на юго-западе Псковской области. Слышал, но ничего не знает. Прибавим к этому количеству слышавших сотню-другую актеров, которые любят, принимая красивые позы на фоне пушкинских стихов, «млея и задыхаясь», произносить «Мой ангел, я любви не стою!» со сцены, и… все. Много не получится, даже если прибавить сюда девять тысяч жителей самой Опочки, их родственников, проживающих в других городах, командированных и проезжающих, которые, как известно, в городе надолго не останавливаются и проезжают мимо.
Обычно рассказы о старых русских городках краеведы начинают с последних оледенений, шерстистых носорогов, мамонтов и кремневых рубил, а продолжают финно-угорскими племенами, дремучими лесами, полными медведей, дикого меда и горностаев, реками, в которых не переводились осетры, обломками керамики, ржавыми рыболовными крючками, славянами, пришедшими на смену финно-уграм, Перунами, Даждьбогами, и только потом… Экономя место и время, не будем об этом говорить, а только скажем, что были и финно-угры, и славяне-кривичи, и капища языческих богов, и меха, и дикий мед, и осетровая икра, которую в те незапамятные времена ели огромными деревянными ложками без хлеба – его тогда только начинали выращивать с помощью подсечно-огневого земледелия[1].
Первый раз Опочка родилась мало того что не в том месте, на котором она сейчас находится, но еще и под другим именем. Называлась она Коложо или Коложе и находилась в 12 километрах от современной Опочки. Городом назвать Коложе можно было только с большой натяжкой – это было небольшое городище на холме, обнесенное земляными валами высотой от полутора до двух с половиной метров. Тем не менее вместе с холмом, на котором оно стояло, городище представляло собой довольно внушительное сооружение. Со стороны реки Кудки высота холма вместе с высотой насыпных валов составляла около 40 метров. Основали Коложе псковичи то ли в начале XIV века, то ли в конце его. Во всяком случае в первый раз он упомянут в девяностых годах XIV века в «Списке городов русских дальних и ближних». Построили Коложе с тем, чтобы он охранял дальние подступы к Пскову. В дискуссию о том, почему его так назвали, мы углубляться не будем, поскольку нам еще предстоит дискуссия о том, почему Опочку назвали Опочкой. Скажем только, что в пяти километрах от холма, на котором стояло городище, находится озеро Коложо, из которого вытекает одноименная речка, но… городище Коложе стоит на берегу реки Кудки. От места, где стояло Коложе, до озера тянется многокилометровое болото. По-видимому, в Средние века озеро Коложо подступало к самому холму, на котором стояло Коложе, а потом стало мало-помалу заболачиваться, и теперь…
Ну да бог с ним, с озером. Сейчас речь не о нем, а том, что в 1406 году, как сообщает Псковская первая летопись, «поганый отступник веры христианския, неверник правде, ни крестному целованию, князь Витовт Литовский, и повоева Псковскую волость и город Коложе взя на миру, на крестном целовании, а миру не отказав, ни крестного целования не отслав, ни мирных грамот ко Пскову, а грамоту розметную посла к Новугороду, а сам поиде на Псковскую волость, повоева все; месяца февраля в 5 день, на память святыя мученицы Агафьи, первое прииде на Коложскую волость на Фарисееве недели в пяток: овых изсече, а иныя поведе в свою землю, а всего полону взяше одиннадцать тысящ мужей и жен и детей, опроче сеченых». Правду говоря, в 11 000 пленных не просто верится с трудом, а вообще не верится. Чтобы взять в плен такое количество народу, Витовту нужно было как минимум всю Псковскую республику привести к общему знаменателю. Нет, все это больше похоже на ошибки переписчиков или на свидетельства очевидцев, у которых глаза от страха сделались велики. Очевидцев можно понять.
После разрушения и разграбления Коложе Витовт двинулся к соседнему Вороничу и там «наметаша рать мертвых детей две ладьи». Псков с ответом не задержался – быстро собрал войско и выступил в поход, в котором приняли участие жители других псковских пригородов – Острова, Изборска, Велье и Воронича. Витовта настигли у Великих Лук, разбили наголову и, как записано в летописи, «стяг Коложский взяша и полону много приведоша».
Восстанавливать Коложе не стали. Через восемь лет после его разрушения, то есть в 1414 году, псковичи построили новое Коложе в излучине реки Великой и назвали его Опочкой[2]. В этом месте река делает крутой поворот на запад. Через мыс прокопали ров и на образовавшемся острове насыпали холм из той самой земли, которая осталась от земляных работ. Холм этот и сейчас возвышается в центре города. Вокруг него разбит парк, на вершине холма по периметру городского вала проложена вымощенная плиткой дорожка, по которой можно минут за пятнадцать обойти всю крепость или, вернее, то, что от нее осталось, а осталось… почти ничего. Если знать, куда смотреть, то можно разглядеть небольшой овраг на месте когда-то бывшего порохового погреба, единственного каменного сооружения внутри крепости, и маленькую серую табличку там, где стояла церковь Спаса[3]. Каменный пороховой погреб, правда, появился куда позднее – в середине XVI века. Есть еще неприметная тропинка, которая ведет с крепостного вала вниз, к реке. По этой тропинке спускались за водой во время осад. То есть тропинки и не видно почти никакой, но экскурсовод вам покажет место, где она проходила. Ну а внутри городских стен, кроме церкви и порохового погреба, были воеводский двор, дом священника, житницы для хлеба, соляной амбар, кузница и все то, что должно быть в крепости: деловито снующие в поисках пропитания куры, сохнущие на веревках кольчуги и чумазые ребятишки, катающие по пыльным тропинкам неизвестно где украденное чугунное ядро. Кстати, о пушечных ядрах. В Опочецком краеведческом музее их четыре. Все они, хоть и выглядят очень старыми, – новодел, как объяснил мне главный хранитель музейных фондов Александр Владимирович Кондратеня. Есть еще каменные. Вот среди них-то одно или два настоящих.
Возвели крепость на удивление быстро – всего за две недели. В Псковской летописи по этому поводу записано: «Сделаша у весь в две недели в осень по Покров», то есть к середине октября. Почему в такие короткие сроки – понятно: в тот год неугомонный Витовт взял штурмом и сжег еще один укрепленный пригород Пскова – Себеж. В такой ситуации медлить не приходилось.
Мост на ужищах
Новорожденная крепость была деревянной. Общая протяженность стен составляла около полукилометра. С самого начала в крепости имелось двое ворот – Большие юго-восточные и Малые северо-западные. Между двумя частоколами толстых дубовых бревен насыпали землю и обломки местного известняка. Как строительный материал он никуда не годился, поскольку был очень непрочен, но в качестве бутового камня был на своем месте – крепостную стену с таким наполнением артиллерия того времени не пробивала – ядра если и проламывали наружный частокол, то непременно вязли в земле, перемешанной с камнями. Кроме того, этим камнем, который во множестве находили, когда копали ров, устилали основание вала, а уже на него насыпали землю.
Раз уж зашла речь о местном известняке, то следует сказать, что именно он изображен на гербе города, пожалованном Опочке при Екатерине Второй. Кстати, о гербе. Интересно, куда подевалось отбитое у литовцев знамя Коложе. Передали ли его как переходящее знамя гарнизону Опочки или… Впрочем, этот вопрос выходит далеко за пределы нашего рассказа.
Вернемся, однако, к крепости. Она была, мягко говоря, небольшой – всего 750 квадратных метров – и в плане представляла собой эллипс. Валы сохранились до наших дней, ширина и высота их примерно одинакова и составляет около пяти метров. Не забудем сюда прибавить высоту самого холма, составляющую пятнадцать, а местами и 20 метров. По периметру стен установили три глухие башни – Себежскую, Велейскую и Заволоцкую, по имени трех таких же псковских пригородов, как и сама Опочка. Имелись еще и ворота – Большие и Малые.
Уже через двенадцать лет под городскими стенами появился все тот же Витовт. Да не один, а привел с собой, кроме собственно литовцев, еще и немцев, татар, чехов, поляков и валахов. На этот раз Псков узнал о планах Витовта заранее, и на помощь гарнизону Опочки были присланы полсотни вооруженных псковичей. В Псковской первой летописи об этой осаде сказано: «Приде прежде к городу Опочке и лезше усердно к городу велми, а опочане с ними бишася искрепка, а Бог им святый Спас помогаше, а Псковичи пришли бяху 50 муж снастных, много бо, рече, побиша опочани Литвы и Немци и Тотар, а опочан Бог блюдоше; и он неверный поиде опором к городу, а много голов своея рати остави…»
Бог, конечно, опочанам помог, но и сами они не плошали. Еще до прихода Витовта перед воротами крепости был повешен тонкий мост на веревках через ров, а под заполнявшей ров водой, аккурат под мостом, были набиты острые колья. Первыми вбежали на мост татары, а за ними поляки, чехи и валахи. Как только мост заполнился, так опочане веревки и подрезали. В Никоновской летописи по этому поводу написано: «…и тако начаша татарове скакати на мост на конех, а гражане учиниша мост на ужищах, а под ним колиа, изострив, побиша; и якоже бысть полон мост противных, и гражане порезаша ужища, и мост падеся с ними на колие оно, и тако изомроша вси, а иных многых татар и ляхов и литвы живых поимаша, в град мчаша». Доскакались, значит. Некоторым не повезло – они оказались насаженными на колья. Тем, кого опочане, мгновенно вышедшие из ворот, взяли в плен, не повезло куда больше. По свидетельству Никоновской летописи, опочане «резаша у татар срамныа уды их и в рот влагаху им… а ляхом и чяхом и волохам кожи одираху». Делали все на валу, на виду у осаждавших. Витовт на это смотреть долго не стал – на следующий день рано утром неприятель из-под стен города ушел. Осада Опочки продлилась всего двое суток.
Это была, так сказать, светская версия событий осады Опочки. Теперь обратимся к религиозной, в правдивости которой не сомневался один из первых опочецких краеведов – Иван Петрович Бутырский. По этой версии, она же легенда, как только началась осада, так опочане стали ходить крестным ходом с хоругвями и иконами вокруг крепости. Осаждающие сразу же стали в них стрелять и через короткое время прострелили икону Всемилостивого Спаса. Пуля сделала отверстие в иконе чуть повыше правого ока Спасителя. Как только это произошло, так войско Витовта, устрашенное невидимой силой, сняло осаду и ушло. Некоторые старики, как пишет Бутырский, слышали от своих прадедов и прапрадедов, что литовцы в ослеплении даже рубили друг друга[4].
Рубили или не рубили, а икона с пулевым отверстием была. Если еще точнее, то просто с отверстием. Фотография ее приведена в книге Леонида Ивановича Софийского «Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем», изданной к пятисотлетию города в 1912 году. В 1814-м икону, которая в то время находилась в Опочецком Спасо-Преображенском соборе, описали. «Образ чудотворный Всемилостивого Спасителя, с предстоящими: Божией Матерью и Николаем Чудотворцем. На оном риза серебряная, позлащенная, чеканной работы, с тремя венцами таковыми же. В венце Спасителя над местом, где во время нашествия Литвы оный образ, повыше левой брови, прострелен, – звезда серебряная, позлащенная, в середине со вставкою белого хрусталя, и позади образа – звездочка серебряная. Хотя о случае простреления сего образа никакого описания по сие время не отыскано, народное ж изустное, исстари, предание носится, что действительно последовало оное во время литовского нахождения, от стреляния из ружей…» Нет теперь того собора – взорвали его в 1937-м, а икона пропала еще раньше – в двадцатых.
Правду говоря, у историков имеются сомнения относительно первой версии. Мост, упавший на колья, их просто накроет, и вряд ли кто-то из нападавших был на них насажен, а что касается пыток пленных, то о них, как утверждали первые опочецкие краеведы, написано только в Никоновской летописи, а в остальных источниках того времени об этом ни слова. Увы, они не знали, что о том же самом написано в Московском летописном своде конца XV века, опубликованном впервые лишь в 1949 году.
Обсуждать вторую версию таким образом, чтобы не задеть чувств верующих, не представляется возможным. Скажем только, что стрелять в икону могли и не из огнестрельного оружия, а, скажем, из арбалета. Если бы в нее попали из тогдашней пищали, которая мало была похожа на снайперскую винтовку, а более на небольшую пушку, то кроме отверстия от иконы вряд ли осталась хотя бы щепка[5].
Так или иначе, но Витовт со своим интернациональным, как сказали бы сейчас, бандформированием осаду снял и ушел под стены другого псковского пригорода – Воронича, а Опочка осталась зализывать раны, нанесенные осадой. Через полтора десятка лет, в сентябре 1440 года, новая напасть – пожар. Пожар, в отличие от Витовта, никуда уходить не стал, а сжег Опочку дотла. Той же осенью псковичи ее восстановили. Работы велись под руководством псковского посадника Тимофея Поткина. Подсыпали валы и устроили через ров постоянный наплавной мост длиной около 120 метров.
Бесова деревня
Следующая осада Опочки случилась через шестьдесят два года – в 1502-м. Пскову, поскольку он был союзником Москвы, пришлось воевать и с Литвой, и с Ливонским орденом. Как написано в Псковской первой летописи, «того же времени Немцы с Литвою совокупишася, и быти было им вместе подо Псковом, и пан Черняк не поспел, под Опочкою услышил, что Немцы выжгли Остров, а Литва мало не взяли Опочки, святый Спас ублюде». Хотя и мало, но не взяли, а потому литовские войска не успели до прибытия помощи Пскову из Москвы соединиться с немцами, и задержала их Опочка, ставшая для Литвы и Ордена тем гвоздем, которого не было в кузнице. И все же округу неприятель разорил, убил шесть человек опочецких бортников и посевы потоптал. Немцы, как отмечает летопись, еще и «сено косиша». Еще бы мышей из погребов с собой забрали, псы-рыцари…
Прошло еще пятнадцать лет, и 20 сентября 1517 года под стенами Опочки не опять, а снова появился неприятель. На сей раз это были… опять литовцы, да еще и с поляками, во главе с князем Константином Острожским, и было их общим числом десять тысяч. В Разрядной книге 1475–1605 годов по этому поводу имеется запись: «7026-го году в сентебре преступил король литовский кресное целованья, и помыслом злым по опасным грамотам умысля, и пришел в Полотеск со всеми своими людьми и, умысля с воеводы со князь Костентином Острожским и з желныри[6], пришли ко псковскому пригородку к Опочке с норядом и к городу Опочке приступали». Злых умыслов у них было не так много, и они были простыми – взять штурмом Опочку, потом двинуться на Псков и взять его, а уж там как повезет. Грабежи мирного населения, убийства и захват пленных, само собой, в планах тоже были. В войске Острожского имелись, как сообщает Псковская первая летопись, не только литовцы и поляки[7], но и «многих земель люди», среди которых числились и чехи, и венгры, и немцы, и сербы, и татары, и валахи, и мазовшане, и моравы. Были наемники и «от цысыря Максимьяна короля Римского». В летописи о них написано: «люди мудрые, ротмистры, арахтыктаны, аристотели»[8].
Мудрые люди, оценив диспозицию, поняли, что осада крепости простой не будет. Поляки называли Опочку «свиным корытом». Действительно, крепость, расположенная на плоском холме, напоминала перевернутое корыто. Эпитет «свиное» оставим на совести осаждавших. С другой стороны – как еще им называть крепость, о которую они обломали зубы?
Не будем, однако, забегать вперед. Артиллерийские батареи с проломными пушками пришлось располагать на другом берегу реки Великой, а это как минимум две сотни метров, да еще стрелять пришлось под максимальным углом возвышения, поскольку и сам холм, как мы помним, был высоким, да еще и стены, да еще и земля внутри стен, в которой застревали пушечные ядра, да еще и сами пушки, которые тогда были куда слабее нынешних, да еще и пушек было недостаточно и подавить батареи на городских валах неприятель не смог.
Артподготовка длилась до 6 октября, то есть две с лишним недели. Толку от нее было мало, и командиры, а ими, кроме самого главного – князя Острожского, были командиры чешских и немецких наемников польский и литовский гетманы Януш Сверчовский и Юрий Радзивилл, решили отдать приказ о штурме. Для этого всю ночь перед штурмом через реку на плотах и лодках под стены крепости переправлялась пехота и закреплялась на плацдармах. На рассвете 6 октября штурм начался. Как сказано в Степенной книге: «Нощию же и лествицы ко граду поставиша. На утрия же бестудно приступи ко граду бесчисленное множество…» Первыми стали карабкаться на холм по приставным лестницам опытнейшие чешские наемники. Карабкались они под прикрытием щитов. Щит, конечно, неплохая защита против стрелы или удара мечом, но когда сверху на тебя летят пудовые камни, падают огромные деревянные колоды и катятся толстые бревна, сметающие все на своем пути, то никакие щиты не помогут. Они и не помогли. Результатом первого дня штурма было шесть десятков убитых и 1400 раненых. Сейчас-то этим раненым диагнозы ставить поздно, но скорее всего это были переломы и черепно-мозговые травмы. Предводителю чешских наемников по прозвищу Сокол и вовсе оторвало руку.
В одном из ранних списков Холмогорской летописи о первом дне штурма написано: «А воевода и наместник Опоцкой Василей Михайлович Салтыков со всеми людьми градцки, богу помогающу, боряхуся против королева войска крепко. И на приступе ис пушек и ис пищалей и катки болшии и слоны с города побиша многое множество людей королева войска, яко Великую реку от всех стран запрудиша трупы люцкими, и кровью река яко быстрыми струями протече». Катки – это куски бревен, а слоны – колоды, которые выдвигали на длинных шестах над нападающими и рубили удерживающие их веревки.
Что касается камней, то с ними, как гласит легенда, описанная в Степенной книге, произошла удивительная история. После первого штурма запас камней в крепости подошел к концу. Копать землю в поисках камней осажденным было некогда, да и какие можно найти камни на рукотворном холме. Тут можно было бы и приуныть, но… ночью, во сне, одной женщине явился святой Сергий Чудотворец, указавший место, в котором находился тайник с камнями. Не просто тайник, а тайник с огромным количеством камней. О сне или видении было немедля доложено воеводе Василию Салтыкову, и, как только противник вновь пошел на приступ, его забросали камнями, найденными в погребе, а когда объединенные силы интервентов ушли из-под стен Опочки, в крепости немедля построили церковь во имя святого Сергия Радонежского[9].
Надо сказать, что поляки, литовцы и нанятые ими кондотьеры ушли не сразу. Более того, они, может, и вовсе не уходили бы, кабы не начались боевые действия у них в тылу. В Великих Луках стояли приграничные войска под командой князя Ростовского. Оттуда отправили два отряда под командой так называемых легких воевод – князя Федора Оболенского-Телепнева по прозвищу Лопата и Ивана Ляцкого. Легких, потому что эти отряды были хотя и малочисленными, но исключительно подвижными. Они нападали на войско Острожского сзади и мгновенно отходили, забирая с собой пленных. Все шедшие навстречу Острожскому подкрепления эти воеводы перехватили и разбили.
Безуспешные попытки взять Опочку продолжались две недели – с 6 по 18 октября. К этому времени армия Острожского сильно поредела. Поздняя осень в средней полосе не лучшее время для боевых действий. Острожскому повезло – у него не было танков, а только осадная артиллерия, но и пушки вытаскивать из непролазной грязи удовольствия мало. С началом распутицы осада была снята, и все оставшееся войско Острожский повел в Полоцк. Стенобитные орудия бросили, и они достались опочанам.
Пришло время преуменьшать собственные потери и преувеличивать потери противника. Если судить по русским дипломатическим источникам, то во время осады было убито шесть тысяч человек, а в ходе рейдов по тылам противника уничтожили еще четырнадцать тысяч. Посольству в Крым передали цифру поменьше – всего двенадцать тысяч, не считая, конечно, еще шести тысяч убитых при осаде. И это при том, что войско Острожского не превышало десяти тысяч. Поляки же писали сдержанно, точно сквозь зубы. Было дело, ходили под Опочку, города хотя и не взяли, но все вокруг разорили и пожгли. Без ущерба для себя, конечно. Знаем мы, как без ущерба для себя…
Три года спустя после осады некий Некрас Харламов, сообщая кому следует о бежавшем из польского плена Тимохе Рупосове, пишет, что этого самого Тимоху, по его словам, в плену «вспрашивал король про Опочку, которой деи город боле, Луки ли или Опочка? И Тимоха ему отвечал: как, господине, у села деревня, так и у Лук Опочки малое городишко; а Луки город великой. И король де молвит: бесова деревня Опочка. И Копоть писарь Тимохе говорил: того для тебя король о Опочке вспрашивал, что болши пяти тысяч людей под нею легло». Проговорился Сигизмунд – «бесова деревня», а никак не «свиное корыто». Короля можно понять – не один город ему пришлось заложить, чтобы насобирать денег на этот поход. Пропали королевские денежки. Под стенами Опочки и пропали.
Через одиннадцать дней, после того как то, что осталось от войска Острожского, отступило в Полоцк, великий князь Василий Третий принял литовских послов. К тому моменту те уже три недели дожидались аудиенции. Литовские послы, скорее всего ничего не знавшие о неудачной осаде Опочки, пытались вести переговоры с позиции силы, но… Как писал в своих записках Сигизмунд Герберштейн, бывший посредником на этих переговорах: «После того как войско польского короля ничего не добилось под Опочкой, – а рассчитывалось, что если эта крепость будет захвачена, то можно будет достичь более выгодного мира, – великий князь сделался высокомерен, не захотел принять мира на равных условиях, так что литовцы вынуждены были уехать ни с чем»[10]. Вот, собственно, и все об обороне Опочки в 1517 году. Остается только добавить, что перед лестницей в городском парке, ведущей на вершину холма, на котором стояла средневековая крепость, по решению городских властей установлен памятный знак, а на памятном знаке есть надпись: «В 1517 году на этом месте русский гарнизон, возглавляемый воеводой Василием Салтыковым-Морозовым, наголову разбил польско-литовских захватчиков». И в скобках приписано: «Битва при Опочке». Нет, наголову не разбивал, хотя головы проломили многим и битвы не было, а была осада, если уж быть точными, но… такую надпись захотел сделать один из городских начальников. Захотел и утвердил, хотя краеведы и говорили ему, говорили… и перестали говорить. Туристам, само собой, битва интереснее, чем осада, а уж когда наголову разбил…
И вот еще что. В середине XVI века Опочка появилась на европейской карте Каспара Вопелиуса – известного немецкого картографа и изготовителя глобусов. Неплохой результат для крепости, гарнизон которой в те времена составлял около полутора сотен человек.
Через семнадцать лет после обороны Опочки окольничий Иван Ляцкий, назначенный вторым воеводой сторожевого полка в Коломне, бежал к польскому королю Сигизмунду вместе с боярином князем Семеном Бельским. Там и прожил до самой смерти еще восемнадцать лет. Принят был королем благосклонно и облагодетельствован земельными пожалованиями. На основании данных Ляцкого картограф Антон Вид составил подробную карту Московии. Хорошая была карта, и названия русских областей и городов на ней были очень точными. Опочка (Opotzki) на ней тоже есть. Антон Вид сам признавался, что «немалое содействие» в создании карты ему оказал Иван Ляцкий, окольничий великого князя Московского. Ляцкий по настоянию Сигизмунда Герберштейна составил описание Московии, которым и пользовался Антон Вид при составлении своей карты.
Между прочим, Каспар Вопелиус, на карте которого тоже отмечена Опочка, пользовался в своей работе картой Антона Вида. Карта Вопелиуса появилась в 1555 году, а Ляцкий послал Герберштейну, с которым состоял в переписке, свою карту уже в 1541 году. Вот и выходит, что Опочка впервые появилась на карте Европы благодаря Ивану Ляцкому, который сначала помог разбить поляков и литовцев, а потом к ним убежал. Вряд ли мог он забыть про события 1517 года, пусть и через семнадцать лет. К истории самой Опочки, впрочем, этот факт если и имеет отношение, то очень отдаленное.
Дальше наступают темные годы. Не в смысле беспросветные, хотя и таких у нас больше, чем хотелось бы, а в смысле малоизученные краеведами и историками. Нет, конечно, какие-то документы вроде зарплатной ведомости стрельцов, накладных на порох, ядра и уздечки или объяснительной записки, куда пропали дубовые бревна, припасенные для ремонта крепостной стены, находили и находят, но их мало, и потому приходится себе эту жизнь воображать.
Безусловно, первые годы после осады Опочка зализывала раны и праздновала победу. Без устали ходили крестные ходы с простреленной супостатами иконой Всемилостивого Спаса, устраивались торжественные гарнизонные смотры и соревнования по стрельбе из пищалей на приз воеводы Салтыкова-Морозова, ходили вокруг холма, на котором стояла крепость, с песнями под барабанный бой и жалейку, кричали «Рады стараться» или что-нибудь оглушительно-радостное и нечленораздельное, потом шли в местные кабаки пить опочецкое светлое пиво или брагу, потом дрались стенка на стенку до крови. Строили храмы. Посадские сажали лук, горох и капусту в своих огородах, по осени в этой капусте находили детишек, на заливных лугах сеяли овес, ходили с рогатиной на медведя, голыми руками ловили в Великой пудовых щук и осетров, которых тогда в ней водилось видимо-невидимо. Хотя насчет детишек в капусте… это вряд ли. В этих краях и сейчас много аистов, а в те времена их было не меньше, чем щук и осетров. Значит, и с детьми никаких перебоев не было. Скорее всего, капусту растили исключительно для еды.
Через сорок семь лет после того, как Опочка выдержала осаду польско-литовского войска под командой Константина Острожского, весной 1562 года, к ней подступил неприятель. На сей раз это были… снова литовцы. Псковская третья летопись по этому поводу сообщает: «…Того же лета приходили литовские люди воевати по Николине дни, на седьмои недели по Пасце, к Опочке, и хотели посад зажечи, и гражане не дали зажечи посаду, за надолбами отбилися; и многых от них постреляли з города; и они та же Литва воевали по волостям, и семь волостей вывоевали…» Семь волостей вывоевали, но Опочка им снова оказалась не по зубам. Мало того, теперь даже к стенам литовцев не подпустили и не дали зажечь посад. Он был огорожен надолбами – вкопанными в землю заостренными бревнами. Вкапывали их наклонно – остриями к нападающим.
И двадцати лет не прошло, как в 1581 году польский король Стефан Баторий, а по совместительству и великий князь Литовский… на Опочку не пошел, а сразу двинулся на Псков, и город оказался во вражеском тылу. Н. М. Карамзин вместе с другим историком, митрополитом Евгением Болховитиновым, считали, что Баторий Опочку взял, но в Псковской летописи об этом нет ни слова, ни полслова. Молчат об этом и польские источники, а уж они-то о взятии Опочки раструбили бы на всю Европу. Мало того, секретарь Батория ксендз Пиотровский писал в дневнике в конце октября 1581 года: «В лесах около Опочки хватают наших курьеров, и проезд в тех местах очень опасен».
«Дворы черные пустые и места порожжие»
К середине восьмидесятых годов XVI века относится первое описание Опочки. Находится это описание в «Подлинной писцовой книге» за номером 535 и составлено писцами Григорием Дровниным и Иваном Мещаниновым-Морозовым.
«…Город Опочка на Великой реке на острову древян, а в нем двор наместнич да двор воевоцкой. Внутри ж города места осадные детей боярских и городовых прикасщиков…» Осадные места были, прямо скажем, очень маленькими – три на две сажени или двадцать семь квадратных метров прописью. Немногим больше площади современных комнат в однокомнатных квартирах, но без каких-либо удобств. И на этой площади нужно было поставить дом, выкопать выгребную яму и посадить хотя бы одну грядку лука с чесноком, которыми закусывать и лечиться от всех болезней. О капусте и говорить нечего. С другой стороны – жили там люди военные. Выбирать им не приходилось. С третьей стороны, если вспомнить размеры самой крепости, то и такая площадь покажется немаленькой. Это был так называемый Верхний город, который тоже делился на две части – возвышенную на востоке и пониженную на западе и юге. Все это напоминало деление пятака на грош и алтын, но в верхней части Верхнего города жило городское начальство, и там осадные места были побольше – четыре или даже шесть саженей в длину, но в ширину все равно две.
Несмотря на почти игрушечные размеры домов, да и самой крепости, была в Опочке Большая Спасская улица, шедшая вокруг холма от Малых ворот к главным, Большим. Возле Больших ворот была устроена площадь, в центре которой стояла колокольня и соборная церковь Святого Спаса, и потому Большие ворота называли еще и Спасскими. На площади каким-то образом помещалась еще одна церковь – Преподобного Сергия Радонежского и два двора – Наместничий и Воеводский. Кроме Большой Спасской улицы, в Верхнем городе имелись еще две – Сергиевская и Петровская. Петровская улица начиналась в нижней части Верхнего города и шла по южному краю… Все это сложно представить себе без карты, а потому мы не будем останавливаться на всех этих картографических и геодезических подробностях, а скажем только, что на Петровской улице, у церкви Святого Петра была площадь, на которой гарнизон занимался строевой и боевой подготовкой, хотя… вряд ли строевой. Ей до Петра уделяли мало внимания. Там же происходили воинские сборы в случае осад и походов и собирались граждане Опочки на общественные собрания. На площадь выходили ворота порохового погреба, перед которыми стояла сторожевая изба, а точнее сторожка. На внутренних сторонах городских валов теснились клети, то есть кладовки и погреба пушкарей, воротников, стрельцов, попов, церковных дьячков, пономарей, кузнецов, шорников и дворников. Впрочем, с дворниками я погорячился – вряд ли они там были. Лучше заменим их плотниками. В городе существовала и богадельня, поскольку в описании упоминается клеть старца «багаделные избы». Видимо, стариков в богадельне было несколько, поскольку в другом месте Подлинной писцовой книги читаем: «На островку на Великой реке огород богадельных старцев». Островок этот расположен аккурат напротив входа в нынешний отель «Опочка», и огородов на нем теперь никаких нет, а только непроходимые заросли крапивы, лопухов и осоки, среди которых то тут, то там виднеются рыбаки, уставшие отвечать, что не клюет.
Упоминается в описи «подклетишко полуторы сажени вдовы Анны Гавриловской жены мелника…». Стало быть, имелся и мельник, а к нему прилагалась и мельница. Скорее всего, поставили ее где-нибудь на Великой, а не в Верхнем городе, где и без того яблоку негде было упасть. «…И всего внутри города царя и великого князя 6 житниц, онбар да погреб, да 6 мест пустых, да детей боярских, и монастырских, и церковных, и пушкарев, и воротников, и стрелцов осадных мест и клетей 137, да 197 мест пусты, а людей у них нет…», а если бы были, добавим мы, то сидеть бы им на головах друг у друга.
По правую руку от острова, на котором стоял Верхний город, находился еще один остров, отделенный от берега Великой прокопанным рвом. На этом острове располагался Нижний город, обнесенный крепостной стеной с девятью башнями, но в описываемое время он еще не существовал, а на его месте находились посады и слободы – Пушкарская, Стрелецкая, Никольская, Воронецкая, Козьмодемьянская, а в них улицы Никольская Большая, Федосова, Воротницкая, Воронецкая, Пушкарская, Жидовская[11] и два переулка со смешными названиями – Пиндин и Пундин. Был еще посад на противоположной, левой стороне реки Великой, и назывался он Завеличьем. Правда, Козьмодемьянская слобода была почти пуста, на улицах Жидовской, Федосовой, в Пундине переулке «дворы черные пустые и места порожжие», лавочных мест имелось больше трех десятков, а занято было всего девятнадцать, на территории будущего Нижнего города стояло всего семь дворов и проживало в них ровно семь человек. «Слободка Никольского монастыря, что на Опочке на посаде, а в ней 17 дворов бобыльских… а живут в ней Никольские бобылки…» Оно и понятно – закончилась Ливонская война, и закончилась для России неудачно. Про то, чем закончилось для России, особенно для ее приграничных западных областей, правление Ивана Грозного, можно и не вспоминать. Опочка, конечно, врагу не сдалась, но от войны ей досталось. Потому и «дворы черные пустые и места порожжие», потому и бобылки, потому и лавочных мест куда больше лавок[12].
Зализывать раны, нанесенные войной и правлением Грозного царя, Опочке было некогда – надвигалось Смутное время. Первый Самозванец прошел на Москву куда южнее Опочки, а вот второй… После разгрома правительственных войск под Болховом часть армии Василия Шуйского попала в плен, но была отпущена вторым Лжедмитрием по домам. Среди этой части были псковские стрельцы, а среди них и опочецкие. В мае 1608 года пришли они домой. Псковская летопись по этому поводу сообщает: «Пригородцкие стрельцы с псковскими… пошли на свои пригороды, на Себеж, да на Опочку, да на Красный, да на Остров, да на Избореск, и дети боярские по поместьям, и пригороды все смутили, и дети боярские и холопи их приведоша пригороды и волости к крестному целованию табарскому царю Дмитрею».
Деваться было некуда – Тушинского вора признал Псков, а Опочка… Опочка была и оставалась пригородом Пскова, который и принимал за нее решения такой важности. Кроме того, все опочецкие воеводы назначались Псковом. Как только в 1613 году Псков признал нового царя Михаила Романова, так опочецкие служилые люди в компании с себежскими казаками и под командой опочецких воевод Ивана Бороздина, Богдана Аминева и себежского стрелецкого головы Ивана Неелова 9 июля «взяша Заволочье у Лисовского и много сукон, и город сожгли, и детей боярских Андрея Квашнина и прочих прислаша во Псков, а оне служили с Олисовским вместе, и Литву побиша». Тут нужно пояснить, что Заволочье – один из псковских пригородов, расположенный неподалеку от Опочки, полковник Александр Юзеф Лисовский – один из самых активных польских, как сейчас сказали бы, полевых командиров, державший в Заволочье все награбленное, запасы оружия и снаряжения, а Андрей Квашнин – один из тех псковских помещиков, что перешли на сторону польского короля Сигизмунда. Надо сказать, что в Заволочье отсиживалось довольно много таких, как Квашнин, и находились они там вместе с семьями. В момент штурма крепости Лисовского с основными силами в ней не было – он ушел в очередной грабительский набег. Воевода Невеля, Григорий Валуев, в те поры служивший полякам, писал литовскому референдарию Гонсевскому: «Замок Заволочье взятием взяли и, взявши замок, польских и литовских и русских людей, дворян и детей боярских, и их отцов, матерей, жен и детей, и крестьян побили от мала до велика, и замок спалили». Тех, кого не убили, повели в Опочку, но, отойдя от Заволочья версты три, перебили почти всех оставшихся. Лишь немногие смогли спастись бегством и добраться до Невеля. Квашнину, стало быть, еще и повезло – его довезли живым до Пскова.
Формально на этом Смута для Опочки закончилась, но фактически… Город на русско-польской границе покоя не знал ни днем ни ночью. Правда, и по ту сторону границы никому спокойно спать не давал. В 1633 году служилые опочане отбивают у поляков Себеж, который по Деулинскому мирному соглашению достался Польше: «В то же время выбежала Литва из Себежа, и взяша Опочане Себеж, а Литву достальную побиша». Правда, на следующий год под Опочку пришли поляки и зажгли посад, но Себеж уже не вернули. Через шестнадцать лет после Деулинского мира заключили другой, Поляновский, но и его Опочка соблюдала точно так же, как и Деулинский, поскольку в ней без выходных работал сборный пункт русских войск, идущих в рейды на захваченные поляками и литовцами территории.
Еще через тридцать три года Россия и Польша заключили Андрусовское перемирие, по которому России наконец вернули Смоленск, все земли Левобережной Украины, Северскую землю и даже Киев. Об этом перемирии, наверное, не стоило бы здесь и упоминать, если бы оно не было подписано благодаря выдающемуся русскому дипломату, главе Посольского приказа и государственному канцлеру Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину – уроженцу Опочки. Можно было бы еще сказать, что под непосредственным руководством Афанасия Лаврентьевича была создана международная и регулярная русская почта, что он даже разработал форму почтовых служащих[13], что по его инициативе был построен первый русский боевой корабль «Орел», что именно он придумал трехцветный российский флаг, которым позже воспользовался Петр Великий, что основал первый русский банк в Пскове, но мы этого делать не будем, поскольку к непосредственной истории Опочки это не относится, а вернемся в Опочку конца двадцатых годов XVII века.
Приграничная крепость
Как раз в это самое время, в период с 1929 по 1931 год, в Опочке начали укреплять Нижний город. Игнатий Харламов, которому было поручено составить смету и руководить строительством укреплений, писал своему строительному начальству, сидевшему в Новгороде: «…на Опочке около посаду острогу и крепости никакие нет и без острогу около посаду быть не мочно, потому что город порубежной. А по смете на острог и на тарасы, и на ворота, и на башни, и на надолобы, и на всякие острожные крепости всякого лесу надобно 6020 бревен…» Весь этот лес нужно было заготовить в пяти или шести верстах от самой Опочки. Тогда этого леса было… хоть крепости из него строй. Опочецкому воеводе Ивану Нащокину начальством было велено оказывать всякое содействие строительству, а Игнатию Харламову как представителю московского заказчика «велено досматривать самому почасту и мастером приказывать накрепко, чтоб они тот острог и всякие крепости делали крепко и прочно и впредь было вечно».
Строительство шло трудно – не хватало мастеров, не хватало рабочих, и вовсе не потому, что их не было в округе, а потому, что никто не хотел наниматься. Может, денег мало платили, может, были у них другие, более выгодные заказы. Тогда начальство из Новгородского приказа, который в то время ведал крепостью Опочка, прислало воеводе Нащокину грамоту, но не почетную, а… «велено опочецким служилым людем стрелцом и казаком сказать Государево жалованное слово, чтоб они Государю послужили, на то острожное дело лес и на башни на покрышку тес готовили и острог зделали, а… буде стрельцы и казаки на то острожное дело и на покрышку тесу готовить и острожного дела делать волею не учнут, и ему на то острожное дело лес и к башням на покрышку тес готовить посылать стрельцов и казаков и острог делать велено и неволею…».
– Так бы сразу и объяснили, – отвечали стрельцы и казаки, услышав государево жалованное слово в адаптированном для стрельцов и казаков пересказе воеводы, и тотчас стали рубить лес, тесать тес, строить стены, ворота, башни и вкапывать надолбы.
Нужно сказать, что в те времена воеводы на одном месте не засиживались – через год, как правило, их переводили в другую крепость. Не избежал этой участи и Иван Нащокин, хотя и был двоюродным братом самого Афанасия Ордина-Нащокина. При переводе на другую должность Нащокин послал отчет, который тогда назывался отпиской, царю Михаилу Федоровичу. Писал Иван Денисович о том, что крепость в Нижнем городе он построил, караулы поставил и «стрелцом, и казаком, и пушкарем, и воротником, и посадским и всяким жилецким людем в остроге под дворы места отвел». Служилые люди, подчиняясь приказу, все свои дома перенесли под защиту стен Нижнего города, а вот посадские… отказались, и это при том, что прекрасно знали, что будет с их дворами, когда враг приступит к стенам Опочки. Никакие увещевания и доводы о том, что их дворы загораживают обзор крепости, что окрестные подступы к городу не просматриваются, что караульщики «сказывают, что им стречи неусторожно», не помогли. Посадские уперлись и на все уговоры отвечали: «Каково де будет воинское время, и мы де дворы свои за острогом и сами позжем». Вот и делай с ними что хочешь. Вот и попробуй их уговорить. И это, между прочим, не те люди, которые про поляков и литовцев читали в книжках, которых они никогда не читали, а те, кто во время осад прятался в крепости, помогал стрельцам и пушкарям подносить ядра, лил кипяток и сбрасывал бревна на головы лезущей на стены пехоты. Оправдываясь, Нащокин писал: «И твой государев город Опочка от литовского рубежа всево в трех верстах, и ничто, государь, за их непослушаньем, каково что над острогом дурно учинитца, и мне от тобя, государя, в опале не быть».
И все же… Следующий воевода Василий Туров в 1631 году, хотя и принял город у Нащокина, писал царю, что «острог не зделан и тарасы необрублены и мосты не мощены и по острогу катки не покладены, и около острогу ров не выкопан, и чеснок не набит, и надолбы не поставлены, да у города ж Опочки во многих местех вал лдом и водою розмыло и городовая стена огнила и розсыпалась и бес поделки тем местам быть неуметь». Подобно Нащокину, Туров жалуется государю на местных жителей, но уже по другому поводу: «А подошли де к Опочке пригороды Велье, Вороноч и тех пригородов дворцовых и монастырских, и церковных, и помещицких сел и деревень крестьяня всякие жилецкие люди в сполошное время в Опочку прибегают и клети для сполошного времяни ставят, а поделак городовых не делают, и о том бы ему указ учинить». Одни, значит, не хотят переносить свои дома под защиту крепостных стен, а вторые понаделали себе кладовок внутри крепости и в «сполошное время» собираются там отсиживаться, но приводить в порядок острог, но копать ров… Вот и делай с ними что хочешь. Вот и попробуй их уговорить.
Туров, принимая от Нащокина Опочку, составил подробную опись служилых людей, опочецкой артиллерии и пушечных припасов. По именным спискам, представленным воеводой царю, стрельцов, казаков и пушкарей «в твоем государеве городе в Опочке 250 человек стрелцов, 70 человек казаков, да твоих государевых жалованных пушкарей 8 человек, да 4 воротника, да нежалованных 6 человек, пушкарей, да казенный кузнец…». Не будем утомлять читателя подробным списком больших пищалей на колесах, называвшихся Орел и стрелявших ядрами весом в два с половиной килограмма, пищалей поменьше, называемых затинными, стрелявших «пулками» и «дробом», неисправной пищали без замка, неисправной пищали с раздутым при выстреле дулом, исправных фальконетов, бочек с порохом, каменных и чугунных ядер, запасов свинца для отливки пуль, уже отлитых пуль, а только скажем, что всего Туров насчитал в государевой казне около сотни разного калибра годных пищалей и два десятка неисправных, больше сотни пудов пороху и около 60 пудов свинца. Короче говоря, Опочка была вооружена до зубов. По тогдашнему времени, конечно. Как посчитали специалисты, суммарный залп опочецкой артиллерии составлял почти одиннадцать с половиной килограммов. Немного, если сравнить с суммарным залпом Пскова, составлявшим приблизительно в то же время сто семьдесят пять килограммов, и немало, если сравнивать с суммарным залпом соседнего псковского пригорода Гдова, который составлял чуть менее одиннадцати килограммов. Заметим при этом, что ядра были каменные и чугунные. Не стоит их путать с артиллерийскими снарядами или бомбами. Внутри каменных и чугунных ядер были камень и чугун. Разрывные ядра появились у русских артиллеристов только в самом конце XVII века. Как осажденные могли отстреливаться от превосходящих сил осаждающих (а они, как правило, были превосходящими) таким небольшим количеством камней и чугунных шаров, ума не приложу. К примеру, самый крупный узел обороны Нижнего города был на Наугольном раскате, расположенном на дороге, ведущей к Заволочью. Суммарный вес залпа этого раската составлял около трех килограммов. Правду говоря, трудно удержаться от мысли, что это масштаб какой-то уличной драки.
Читая отписки опочецких воевод московскому начальству в XVII веке, удивляешься постоянным жалобам на нехватку денег, стройматериалов, припасов, на плохое состояние крепостных стен, башен, рва… К примеру, воевода Григорий Чириков в 1636 году пишет царю, что выкопанный ров оплыл, что установленные под стеной еловые колья пообломались и повалились, что «твоих государевых житниц на Опочке с твоим государевым дворцовым хлебом трицать четыре, и те стоят врозне, потому что Казенного двора нет. И многие, государь, житницы стоят без кровли, а иные многие пообсели в землю с хлебом, а иные стоят в воды, подплыли водою…». И это не все – еще пороховой погреб сверху землей не обсыпан и дерном не обложен, еще и вал осыпается потому, что лес, которым он был укреплен, сгнил. «А делать… ныне тое стены, и башен, и ворот мне, холопу твоему, нечим; в твоей государеве казне у меня… денег и никаких денежных доходов нет. А городовая… стена обвалилась, а неделаной… стены, и башням, и городовым воротам, и валу, тому месту без новые обрупки быть не уметь».
В 1656 году воевода Ипат Вараксин, принимая у прежнего воеводы Никиты Княжнина Опочку, пишет царю про сгнившие и обвалившиеся прясла крепостных башен, про то, что водяной тайник осыпался и против тайника осыпается вал, а по сметной росписи этот тайник должны были отремонтировать еще восемь лет назад и вообще вал «поотсел в Великую реку, потому что около валу старинную подшву вымыло водою. И тое… городовые стены, и водяному тайнику, и городового валу отселым местом впредь бес поделки быть нелзе». В довершение ко всем бедам восемь лет назад, как раз тогда, когда по документам должны были привести в порядок водяной тайник, но не привели, выгорел «Божиим попущением» опочецкий острог, и от этого пожара обгорели колеса у станин, на которые были установлены большие пищали. Понятное дело, что все это нужно приводить в порядок – и ров чистить, и новые рогатки около рва устанавливать, и водяной тайник ремонтировать, да только… «посацкие люди и твои государевы дворцовые, архиепископли, и монастырские, и церковные, и помещицкие крестьяне, которые делали на Опочке твое государево острожное дело, того твоего государева дела и острожные доделки делать не хотят и на Опочку по высылкам нейдут, чинятца ослушны». Никогда не было – и вот опять. Когда они, спрашивается, были послушны-то?!
Через шесть лет воевода Семен Бешенцев, принимавший дела у прежнего воеводы Дружины Креницына, пишет царю, что «соли нискольке нет, и в нынешнее… воинское время без соли в Опочке быть нелзе». Еще и кровля на Себежской башне сгнила и обвалилась. Еще и городовой вал «во многих местех подмыло Великою рекою, и тот вал поотсел в Великую реку, потому что около валу стариную подошву вымыло водою. И тое… Себежские башни бес кровли, и городовой стены и отселому валу бес поделки ныне в воийское время и впредь быть нелзе, потому что стена огнила и вал осыпался». Кажется, Семен Бешенцев читал отписку воеводы Игната Вараксина и то место, где говорится о том, что старинную подошву вала смыло водою, не мудрствуя лукаво, списал практически дословно.
До сих пор все было про стены, башни, вал и пушки, а теперь про сам опочецкий острог. «А где, я… в посылках и в походех на твоих… службах ни бывал в городех, и такова теснова города, я, холоп твой, не видал. А мерою тово города острогу 500 сажен. А в остроге… всех 340 дворов, изба с-ызбою, кровля с кровлею стеншись стоит». Это пишет царю князь Никита Гагарин – полковой воевода, посланный со своим полком под Опочку в 1664 году для участия в военных действиях против поляков.
Если кто-то, читая отписки опочецких воевод, подумает, что Опочка в XVII веке только и делала, что гнила, разваливалась и оплывала в реку Великую, то ошибется, и очень. Опочка превратилась в важную приграничную крепость – в нее приходили на постой русские полки после военных походов на территорию Литвы и Польши. Опочка сделалась главным укрепленным городом во всей округе, и близлежащие крепости Велье, Красный и Воронич стали к ней в подчиненное положение. Это видно хотя бы потому, что их жители держали в опочецком остроге свои «осадные дворы», а проще говоря – кладовки, на случай военных действий и принимали участие в строительстве и ремонтных работах на территории крепости. Пусть и неволею, но принимали. В ремонтных работах были заняты и крестьяне окрестных дворцовых, монастырских и помещичьих сел. В Опочку свозили воинские и иные припасы из других псковских пригородов и все то, что можно было вывезти из завоеванных польских городов. В Опочке даже хранился походный государев шатер: «суконной муран, зеленой с полами, подбит выбойкою, в кожаном чемодане». Правда, у него «во многих местех верх и полы мыши изъели», о чем есть запись в Годовой смете, составленной в Разрядном приказе в 1668 году.
Что же до воеводских жалоб… Не писать же им, в самом деле, что все хорошо, что лес на строительство есть, что денег хватает и жители округи рвутся ремонтировать крепостные стены и башни. Этак урежут финансирование и не дадут денег ни на лес, ни на починку походного шатра государя… Еще и с ревизией приедут и накажут всех, включая мышей, которые погрызли шатер. Ну, насчет мышей я, конечно, призагнул. Мышей не тронули бы. Потопали бы на них ногами, и все, а вот воеводе, подьячим, стрелецкому голове, стрельцам, пушкарям и всем остальным мало не показалось бы.
Шутки шутками, а с ревизиями под стены Опочки приезжали Польша и Литва. Они и проверяли на прочность стены, башни, мерили глубину рва и остроту забитых в его дно кольев. Пушечными ядрами, конницей, пехотой и проверяли. Время было воинское, как писал воевода Бешенцев. Тут и не захочешь, а напишешь в отчете царю все как есть, без утайки.
По годовой смете Разрядного приказа гарнизон Опочки к весне 1668 года вырос до полутысячи человек. «Людей: голова стрелецкий… дворцовых сел прикащик… подъячей… казаков конных в рейтарском строе 101 человек, стрелцов 300 человек, пушкарей 12… воротников… 4, посацких людей 86 человек, и в том числе з боем с пищалми 25 человек, с топоры и з бердыши 52 человека, без бою 9 человек. Всего всяких чинов людей 506 человек…»
Все же, после заключения Андрусовского перемирия, когда граница отодвинулась, хотя и ненамного, от Опочки и боевые действия в этих местах поутихли, оборонительные сооружения стали приходить в упадок, и к восьмидесятым годам XVII века крепости потребовался капитальный ремонт. Подгнили башни, у которых от бурь и сильного ветра разломало кровлю, между некоторыми башнями обвалилась городская стена, вал у городских ворот обрушился, а сами ворота подгнили, осели и вовсе не закрывались. У городских ворот обвалился подгнивший мост, и в Верхний город стало невозможно ни пройти, ни проехать. С пороховым погребом, в котором хранились и пушечные ядра, дело обстояло еще хуже – он просто развалился. Как и казенные амбары, в которых хранились хлебные и соляные припасы. Бывший в то время опочецким воеводой стольник Дмитрий Иванович Унковский доложил о состоянии крепости псковскому воеводе боярину Борису Петровичу Шереметеву, и тот распорядился Опочку немедленно привести в порядок. Унковский приказал опочецким плотникам, из стрельцов и городовых казаков, все необходимое для ремонта осметить – и лес, и тес, и гвозди, и дрань, и камень, и сколько на работы необходимо отрядить плотников, каменщиков, землекопов и всех, кто в таких случаях требуется, и сколько денег им придется заплатить за работу. Платили, кстати, не всем. Починка и постройка моста заново, если будет в том нужда, была натуральной повинностью черносошных крестьян, и им за эту работу не полагалось ни копейки. В работах по «городовому строению» должны были принимать участие все черносошные крестьяне трех уездов – Опочецкого, Велейского и Воронецкого. Должны, но… началась обычная история – никто не хотел отвлекаться на строительные работы, поскольку и без того у крестьян сельскохозяйственных забот всегда полон рот. Им нужно было пахать, а не строить. Дворцовые крестьяне Велейского и Воронецкого уездов немедленно отправили вышестоящему начальству челобитную, в которой писали, что «они де люди бедные и платят всякие градцкие платежи и поделки, строят во Пскове со Псковскими посадскими крестьяны, и то де их Опочецкое городовое строенье будет вдвое». Самое удивительное, что вышестоящее начальство вошло в их положение. Правда, не до конца и от участия в стройке их не освободило, но разрешило сначала все вспахать и посеять, а уж потом…
Каким-то образом уклонились от работ и часть монастырских и помещичьих крестьян. Видимо, тем общеизвестным способом, которым у нас уклоняются от разного рода работ, когда не хотят принимать в них участия. Те же, кто никак не смог уклониться, подали челобитную царю и в ней писали, что уже в прошлом году принимали долевое участие в постройке каменного погреба для хранения боеприпасов, что каменщиков и других работников за свои кровные нанимали и за обжиг извести платили, а уклонисты этого не делали, и подвод для привоза камня не давали, и за обжиг извести не платили, и потому справедливо будет за счет тех отказников все и сделать, тем более что у многих из них в Верхнем городе имеются амбары и клети. К челобитной был приложен список всех монастырских, казенных и помещичьих крестьян, которые в вышеуказанных работах не участвовали. Как говорится, и челобитная, и донос в одном флаконе.
За крестьянами помещика Поганкина опочецкие начальники даже посылали стрельцов и приставов, чтобы силой отвести их на работы, но… оказалось, что крестьяне все необходимые повинности платят по Пскову и трогать их нельзя. Так или иначе, а каменный погреб для хранения боеприпасов был псковскими каменщиками с помощью опочан построен и стал первым каменным зданием в Опочке[14].
За всеми этими военными действиями, за бесконечной починкой крепости, за постройкой стен Нижнего города[15] совсем не видно простой обывательской жизни ни самой Опочки, ни Опочецкого уезда, а она была, хотя и сведений о ней дошло до нас немного. В 1628 году, как сообщает опочецкий историк Иван Петрович Бутырский, разбойничал в уезде некто Тимофей Муха. Грабил он по дорогам купцов и скрывался с награбленным то ли в Себеж, то ли в Себежский уезд. Поймали Муху и выслали в Опочку для наказания.
В 1631 году воеводу Карпа Ушакова уволили до срока за беспробудное пьянство, за халатность, за отсутствие караульных у городских ворот и за систематическое оставление их (ворот) открытыми и днем и ночью. В следующем году казна взыскала с опочецких пьяниц 33 рубля. По тем временам большая сумма. Что они там натворили – поломали ли лавки в кабаке, или сам кабак разнесли по бревну, или избили кабатчика, или пропили казенное имущество – теперь уж не установить, но запись о взыскании осталась в документах, относящихся ко времени царствования Михаила Федоровича.
В октябре 1645 года Нижняя Опочка выгорела дотла. Опочецкий воевода доложил псковскому, а псковский по команде в Москву. Псковский воевода к своей объяснительной приложил записку, или, как тогда говорили, «сказку», опочецкого квартирмейстера Якова Спякина, в которой было написано, что «загорелася от пьяницы, от стрельца Коземки Чижика, пришед де пьяной домой к себе, учал за женою своей гонятися, веник зажокши, хотел мучить, а прошал гривну денег на пропой, и от того веника солома загореласе, и двор его и город весь выгорел». Коземке Чижику за все те безобразия, которые он учинял в пьяном виде, отрубили кисть левой руки. Чижик, скорее всего, требовал пенсии по инвалидности, и наверняка жаловался в Псков и даже думал понести челобитную в Москву, в Стрелецкий приказ, в котором у него был то ли знакомый подьячий, то ли писец, но ему в канцелярии опочецкого воеводы отсоветовали. Не то чтобы тонко намекнули, а так прямо и сказали, что можно лишиться языка, а он, в отличие от рук, у Коземки всего один, хотя и длинный.
В 1648 году построена в Опочке на Завеличье, то есть за рекой Великой, деревянная церковь во имя апостола Фомы. В 1651 году дворцовый крестьянин Егор Гадуков хвалился, что побьет опочецких дворян. Каких конкретно дворян и в каком количестве – неизвестно. Сохранился только указ псковскому воеводе князю Львову об «учинении допроса, по объявлению Псковского помещика Бедринского Дворцовому крестьянину Георгию Гадукову в том, что он похвалялся побить Опочецких дворян». Что с ним после допроса сделали, тоже неизвестно. Скорее всего, высекли и отпустили домой. Шел, поди, домой и думал, что еще дешево отделался.
В 1672 году в июне и июле трижды мироточила икона Святой Чудотворной Опочецкой Божией Матери. Видимо, повод для мироточения был, но мы его уже вряд ли узнаем. В 1675 году, в январе, сразу после кончины Алексея Михайловича, в доме воротника Харитона Трошкова мироточила икона Казанской Божией Матери, а в доме Лаврентия Чернавина мироточила икона Благовещения Пресвятой Богородицы. В марте 1681 года снова замироточила икона Святой Чудотворной Опочецкой Божией Матери. Снова неизвестно, по какому поводу. В 1684 году на дороге в Опочку был убит опочецкий казачий голова Сергей Шелгунов. В 1686 году стрельцы написали челобитную начальству с просьбой построить новую караульню взамен старой – сгнившей и обвалившейся, «чтоб нам холопем Вашим, будучи на Вашей, Великих Государей, службе, на караулех в той караульне холодною смертью не помереть». Начальство согласилось и построило. В 1688 году опочане решили пойти крестным ходом в Святогорский монастырь Успенской Пресвятой Богородицы и просили у великих государей Ивана Алексеевича, Петра Алексеевича и у великой княжны Софьи дать им опочецких стрельцов для охраны икон и церковной утвари «сколько человек пригоже». Власти распорядились прислать для охраны сто стрельцов.
«Сей город наименовать губернским»
Вот, собственно, и все о XVII веке в Опочке. Рассказ об Опочке XVIII века лучше всего предварить цитатой из книги опочецкого краеведа Леонида Ивановича Софийского «Город Опочка и его уезд». «В царствование Петра Великаго войны со шведами уже ея не коснулись, и она мало по малу, с течением времени, снизошла на степень обыкновеннаго города». После войны со шведами граница отодвинулась от Опочки к Балтийскому морю. Волей-неволей, а пришлось «снисходить на степень обыкновенного», или, проще говоря, превращаться в захолустный провинциальный город. Крепость, конечно, в Опочке была, и в ней даже стоял военный гарнизон, но валы оплывали, и никто их уже не восстанавливал, стены гнили и обваливались, кровля на башнях проваливалась, а водяной осадный колодец землей заплывал, заплывал да и заплыл совсем. Чтобы уж закончить повествование о крепостных сооружениях, скажем, что в сентябре 1774 года в городе случился пожар и все, что еще оставалось от стен, башен и ворот, сгорело. Сгорело еще пять деревянных церквей, почти сто обывательских домов и один дом питейный. Хуже всего то, что сгорела еще и часть опочецкого архива, сложенная в подвале соборной церкви. После этого пожара уже ничего из крепостных сооружений не восстанавливалось, и церкви построили в другом месте. Остров, на котором стояла более трех с половиной веков Опочецкая крепость, уже не застраивали.
Ну, до тех времен мы еще доберемся, а пока, в самом начале XVIII века, в 1708 году, при разделении Петром Первым России на восемь губерний, Опочка была приписана к Ингерманландской губернии. Через одиннадцать лет Опочка, не сходя с места, оказывается в Псковской провинции Санкт-Петербургской губернии, а еще через восемь лет – уже в Новгородской. Еще через сорок три года, в 1772 году, в царствование Екатерины Второй, Опочка нежданно-негаданно становится губернским городом во вновь образованной Псковской губернии. Почему вдруг Опочка, когда есть Псков… Видимо, так легли карты Российской империи. В наказе, данном императрицей в мае 1772 года губернаторам Псковской и Могилевской губерний, так прямо и было сказано: «Назначивается Опочка, который для того и устроить нужно».
Начальником над псковским губернатором был генерал-губернатор Белоруссии граф Захар Григорьевич Чернышев. Он, исполняя наказ, представил на утверждение императрице доклад, в котором писал: «…При заведении Белорусских губерний Вашему Императорскому Величеству Всемилостивейше угодно было повелеть одну из оных, а именно Псковскую губернию, устроить въ городе Опочке, и сей город наименовать губернским; а на построение тамо губернской (канцелярии), також губернаторскаго и служащим при той чинам домов и разных казенных строений, по всенижайшему моему представлению, между прочими, и на сей город сумма отделена, из коей уже заготовляются разные материалы, потребные к произведению в оном каменных строений. Но как сей город нынешняго года в сентябре месяце от пожарнаго случая столь претерпел, что с соборною церковью других еще 4 и при том не малая часть прежних деревянных строений огнем истребилась, о чем от меня и Правительствующему Сенату в свое время донесено; a тем теперь очистились особливо те места, где нужно было застроить губернскую канцелярию и домы губернаторской и прочих при губернии служащих, такоже и другия строения, то сделанный план проэктируемых в том городе Опочке строениям, к Высочайшему Вашего Императорскаго Величества усмотрению, всеподданнейше поднося, прошу Всемилостивейшаго утверждения; и осмеливаюсь доложить, не угодно ли будет Вашему Величеству, чтоб на построение каменной соборной церкви употребить до 10 000 рублей из той суммы, которая по Псковской губернии за учреждением почт и от содержания оных в прошлом 1773 году осталась и в наличности тамо хранится и никуда не назначена». На докладе генерал-губернатора Екатерина Великая начертала «Быть по сему». Утвердили план 12 декабря 1774 года.
И стало по сему[16]. В Опочке вместо должности коменданта учредили должность обер-коменданта и на эту должность назначили генерал-майора Гиршейда. При Чернышеве начали готовить Опочку к роли губернской столицы. Стали строить Спасо-Преображенский собор, а на площади, которая теперь называется Советской, выстроили два огромных, в масштабе Опочки, конечно, каменных двухэтажных корпуса. Один из них предназначался для казармы, а другой для присутственных мест, там размещались казначейство и тюрьма[17]. Эти здания и сейчас там стоят. В семидесятых годах XIX века на одном из корпусов надстроили еще два этажа и продали его из казенной собственности городу за 30 000 рублей. На другом надстроили всего один этаж. Теперь оба этих корпуса, сильно обветшавших, принадлежат городу. В меньшем, трехэтажном, находится ПТУ, а в большем, четырехэтажном, в надстроенных двух этажах до Первой мировой войны располагалось реальное училище, в советское время, в шестидесятых и семидесятых, был учебный корпус еще одного училища, но уже зенитно-ракетного. Теперь в нем на первом этаже аптека, магазины модной одежды, цветов, обуви и вин. Окна и стены всех остальных этажей заклеены объявлениями о том, что продаются производственные помещения, но, судя по всему, покупатели в очередь не выстраиваются. От собора, который находился между корпусами присутственных мест, и вовсе ничего не осталось – его, как мы уже знаем, разрушили в 1937 году и кирпичи пустили на надстройку третьего этажа на здании тюрьмы, казначейства и жандармерии (к тому времени там уже были почта и советские учреждения), но тогда, в XVIII веке, его в 1795 году достроили и освятили. На соборной колокольне висело девять колоколов, и самый большой был весом почти в 100 пудов. Отливали этот колокол в Москве[18] и употребили на отливку медь, оставшуюся от колокола сгоревшей во время большого пожара в 1774 году деревянной церкви. В соборе хранились самые почитаемые опочецкие иконы: простреленный литовцами в 1426 году образ Всемилостивого Спаса и икона Опочецкой Божией Матери «Умиление». Находилась в соборе икона, изображавшая во весь рост Екатерину Вторую, а под ее изображением была помещена надпись «Екатерине Великой и Премудрой слава Созидательнице сего святого храма»[19].
Стали Опочку отстраивать по генеральному плану, утвержденному Екатериной. Отдельно нужно сказать и о плане, разработанном выдающимся русским архитектором Иваном Егоровичем Старовым. По этому плану Опочка, расчищенная пожаром, должна была стать не просто губернским городом Российской империи, но европейским губернским городом. Планировалось устроить площади, на одной из которых должен был стоять православный собор, а на другой римско-католический костел. Предусмотрели въезды и выезды в город, торговые ряды, соляные магазины, воинский городок, батальонную школу, места для огородов, прописали подробно, какой должна быть регулярная застройка, вплоть до примерных размеров домов и их функционального назначения. На главном проспекте обозначили дома губернского начальства. Запланировали даже пригородный еврейский посад. Для военных решили построить гарнизонные и офицерские дома, а по двум сторонам моста через Великую поставить артиллерийские батареи с крытыми галереями при них, чтобы содержать технику и в зимнее время. Пушки этих артиллерийских батарей должны были смотреть на запад. С направлением стрельбы все оставалось по-прежнему. Уже и подрядчиком был выбран опочецкий купец Игнатий Порозов, поставлявший стройматериалы, уже и начали строительство в 1775 году, уже и построили корпуса, как вдруг карта империи легла по-другому в связи с присоединением Польши, и Опочка в 1777 году из губернского города одним росчерком царского пера превратилась в уездный. Деньги на постройку новых губернских зданий сразу перестали выделять.
Целых пять лет Опочка прожила столицей губернии. На память об этом времени остались у нее два больших каменных корпуса на Соборной площади, план Старова и дом генерал-губернатора, в котором он, скорее всего, не жил ни дня. Дом этот и теперь стоит на углу улиц Ленина и Коммунальной, которые раньше были Великолуцкой и Новоржевской. В нем на первом этаже квартируют кафетерий и магазин «Молоко», а на самом углу висит памятная табличка о том, что дом является памятником архитектуры, объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством. Правда, двери в кафетерий и магазин заперты и, кажется, давно не открывались, да и весь внешний вид дома с полуслепыми, мутными окнами говорит о том, что государство манкирует своими обязанностями. В нем, наверное, и привидений-то нет, если только на чердаке, за красивым полуциркульным окном, запыленным и закопченным до черноты. Правду говоря, дотошные краеведы выяснили, что дом этот был построен позже, в начале XIX века, а Чернышев и Кречетников когда приезжали, то останавливались в самых обычных деревянных домах, если, конечно, вообще приезжали, но мы в этом месте копать глубже не будем, а то получается совсем обидно – и не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты.
В декабре 1778 года Екатерина Вторая утвердила новый план уже уездного города Опочки. Именным указом тверскому, новгородскому и псковскому наместнику генерал-поручику Якову Сиверсу (теперь Опочка находилась в его ведении) было предписано «употребить казенное каменное в городе Апочке на помещение уездных правлений разного звания, магазейнов и городской школы… чтоб нижнее жилья зданий оных обращено было на торговые лавки».
В мае 1781 года был утвержден герб уездного города Опочки, представлявший собой «пирамидой сложенную кучу из известного камня, называемого опока[20], означающий имя сего города, в голубом поле», но, прежде чем герб был утвержден, Екатерина Вторая годом раньше посетила Опочку проездом через Псковскую губернию в Могилев. Сказать, что к ее приезду готовились, – значит не сказать ничего. Архиепископ Псковский и Лифляндский предписал Островскому, Опочецкому и Новоржевскому духовным правлениям, «чтоб от них подтверждено было Благочинным в тех церквах, где будет Высочайшее шествие, была соблюдена во всем чистота, и ежели есть что неисправное, было б исправлено; всем священно и церковнослужителям, в тех местах находящимся, приказать наистрожайше подтвердить, чтоб в платье и в прочем соблюдена была благопристойная опрятность и чистота, а при том чтоб были всегда трезвы и в должностях своих исправны, и никто б из них никакими просьбами не дерзал утруждать Ея Императорское Величество». Ну и колокольный звон, конечно, на всем пути следования, в близлежащих церквях, а там, где императрица остановится, «выходить священникам к дороге, если то будет по близости к церкви, в лучших ризах и епитрахили и при себе иметь крест на блюде, кадило, свечу в подсвечнике, в каждении ладану полагать немного». Еще и просфоры было предписано печь из чистой муки. Опочецким священникам говорить приветствие государыне не доверили. Для этого случая из Псковской семинарии был приглашен учитель-священник о. Козьма Зряковский, которому на проезд из Пскова в Опочку было выдано без малого восемь рублей. Приветственная речь состояла из таких сладких слов и оборотов, что на бумаге их приходилось разделять двойными пробелами – иначе они слипались в один большой ком, который и прочесть было нельзя. Впрочем, о. Козьма ее читал по памяти: «…Всеавгустейшая Монархиня. Какое сладкое чувство ощущаем в душах наших, сподобившись сретать сладчайшее лице Всепресветлейшия Великия Государыни. Никакого подобия и примера в сравнении оной радости нашея не видно… Гряди, торжествующая Государыня. Гряди, Всемилостивейшая Матерь Отечества. Гряди, Самим Богом во всех наветах наблюдаемая. Гряди, всем нам чаянная и вожделенная. Ей же в провождении вси едиными усты и единым сердцем псалмографскую песнь воспеваем: Господь да сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века».
Ее императорское величество переночевали в специально построенном для такого случая деревянном дворце на берегу реки Великой и укатили по дороге в Могилев осматривать новоприобретенные Россией земли, а Опочка осталась уездным городом Псковской губернии со всем, что полагается российскому уездному городу конца XVIII века, – городовым магистратом, дворянской опекой, уездным, словесным, сиротским, верхним и нижним земским судами, уездным казначейством, духовным правлением и даже огородническим управлением. Город был небольшим и лежал по обеим сторонам реки Великой. О размерах его можно судить по описанию Бутырского. Если сажени перевести в метры, то выходит, что длина той части, что лежала по правую сторону реки, была около 1600 метров, а ширина 850 метров. По левую сторону реки длина города была существенно меньше – около 700 метров, а ширина немногим более 300 метров. Если все эти длины и ширины умножить и сложить, то получается город, а вернее, городок площадью немногим более полутора квадратных километров, который можно обойти пешком часа за два-три или за четыре, если останавливаться и любоваться открывающимися видами.
На этих полутора квадратных километрах располагались, кроме обывательских домов, казенных учреждений и недостроенного Спасо-Преображенского собора, пять деревянных церквей, построенных в последней трети XVIII века: Николая Чудотворца, построенная на средства купца Михаила Викулина; кладбищенская церковь Святых Апостолов Петра и Павла, построенная на средства купца Степана Викулина; Святого Апостола и Евангелиста Луки, построенная на средства купца Данилы Порозова; Святого Апостола Фомы, построенная попечением священника Симеона Трефильева. Имелись в Опочке и две богадельни, построенные на общественные средства. Одна из них, как пишет Софийский, «для увечных и пропитания неимущих мужей», а вторая «для таковых же увечных и пропитания неимущих жен». Не забудем упомянуть и малое народное училище, открытое в 1787 году.
Первый историк Опочки Леонтий Автономович Травин так описывал город за два года до наступления XIX века: «Строение обывательских дворов было тесное, избы простые с волоковыми окнами и черными печами, улицы и переулки кривые. Вид онаго представлялся сущей деревней, как по подлому строению домов, так и что не было ни единые торговые лавки, и что священники и посацкие (купцов же тогда еще не было) жители, особливо женской пол сколь ныне не все опрятны. А тогда наипаче едва которые имели башмаки на ногах, большая ж часть обувались в лапти».
Купцы все же были. В описании Опочки и уезда, составленном по результатам генерального межевания в 1785 году, было сказано, что «жители в городе большею частию купцы и мещане, торг имеют разными шелковыми, шерстяными и прочими товарами не в одном городе Опочке, но и в других, закупают лен, пеньку, масло, мед, воск, юфть, которые отправляют в города С.-Петербург, Псков, Ригу, Ревель и Новгород до города Пскова, а от онаго водою и сухим путем, водою же по реке Великой чрез озеро Псковское полубарками, а женщины упражняются в домашних рукоделиях». Более всего торговали льном. К концу XVIII века десяток опочецких купцов отправляли лен и пеньку в порты Петербурга и Нарвы. Среди них выделялись Семен Барышников с капиталом в 20 000 рублей, Михаил Викулин с капиталом в 15 000, Аникей Слесарев и Данила Порозов с капиталами по 8000. Одиннадцать самых состоятельных опочецких купцов продавали в Риге льна и пеньки на 87 000 рублей.
В самой Опочке торопецкие купцы братья Побойнины завели в середине XVIII века торговый филиал, занимавшийся скупкой льна и действовавший двадцать лет. Четыре раза в год в городе устраивались ярмарки. Торговали мелочным товаром вроде различных шелковых и бумажных тканей и съестными припасами. Всего купцов насчитывалось пятьдесят два человека, а мещан, занимавшихся торговлей, без малого две сотни.
Упомянем и уездных помещиков, устроивших в своих имениях фабрики. В селе Петровском, которым после фаворита Елизаветы Петровны графа Алексея Григорьевича Разумовского владел его брат генерал-фельдмаршал и гетман войска Запорожского Кирилл Григорьевич, а затем сын брата просто сенатор и просто действительный тайный советник Петр Кириллович, была построена ковровая фабрика. На ней для нужд двора ткали ковры и гобелены. В Тригорском помещик Александр Вындомский завел льняную мануфактуру для производства парусины, а граф Сергей Ягужинский открыл в селе Велье в 1764 году льняную фабрику, на которой планировалось производить высокосортное полотно. Управителем на этой фабрике Ягужинский назначил француза Девальса. Леонтий Травин, сам родом вельянин, писал о Девальсе как о человеке жестоком и алчном, «сдиравшем кожу с крестьян, чтоб наполнить свою алчную утробу обогащением». Крестьяне, испугавшись сложных механизмов и побеседовав с нагнавшими на них страху приехавшими мастерами, пишет Травин, «пришли в отчаяние и оттого сильно возмутились… Иные ж азартные между теми ж кричали обволочь дом соломою и со всеми ими сожечь, но другие сему не соглашались; и так продолжалось до вечера». Кончилось все разгромом и фабрики, и ткацких станков двухтысячной крестьянской толпой. Девальс бежал ночью в Псков, а оттуда вскоре приехала в Велье воинская команда. Перепороли всех без исключения, а зачинщиков сослали на каторгу.
Раз уж зашла речь о помещиках Опочецкого уезда, скажем еще о двух, не построивших ни фабрик, ни заводов в своих имениях. В 1746 году владельцем так называемой Михайловской губы, состоявшей из имений Михайловское и Петровское, стал генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал, прадед Нашего Всего, а в селе Матюшкино в 1730 году обосновались Ларион Захарович Бедренский и его жена Прасковья Моисеевна Бедренская – дед и бабка Михаила Илларионовича Кутузова. В восьмидесятых годах XVIII века село Матюшкино[21] с близлежащими деревнями переходит от Прасковьи Моисеевны к ее зятю – Иллариону Матвеевичу Голенищеву-Кутузову, генерал-поручику, сенатору и кавалеру. Правду говоря, сам Михаил Илларионович на малой родине бывал редко, чаще всего проездом. Надолго приезжал только в год смерти отца – делил с родственниками наследственные владения. Впрочем, к истории Опочки в XVIII веке это имеет очень отдаленное отношение.
«Лежит на берегу реки Великой в приятном местоположении»
Опочку начала XIX века довольно подробно описал минералог и химик академик Василий Севергин, проезжавший через город в 1803 году: «В сем изрядном, правильно выстроенном городе жителей дворян, купцов, мещан и пр. всего 828 человек. Церквей каменных 2; деревянных 5; домов казенных каменных 2; деревянных 4; питейных домов деревянных 9; домов дворянских деревянных 20; купеческих каменных 2; деревянных 216. Домов разных обывателей деревянных 58; кузниц деревянных 4; пивоварня 1. Итого всех строений 323. В малом здешнем народном училище нашел я 26 учеников. Монастырей, фабрик, заводов и мельниц в городе нет. Купечество и мещанство производят торг выработанным в сем уезде льном и пенькою, кои отправляют в Ригу, Нарву и С. Петербург. Говядина, свинина, баранина, а на случай куры, индейки, гуси, дикие тетеревы, ряпчики и зайцы в городе продаются; прочие же товары, как то чай, кофе, мука крупичатая, шелковые и бумажные материи, полотны, медныя, железныя, стальныя и другие вещи покупаются из Москвы, Петербурга, Риги, Нарвы и из Белорусских городов. Хлеб разного рода покупают от уездных обывателей. А прочие овощи, как то капуста, огурцы, картофель, редька, свекла, морковь, получаются из собственных огородов. В Великой реке, протекающей через Опочку, ловится щука, лещи, налимы, окуни, лини и плотва».
Девять питейных домов, пусть и деревянных, на восемьсот с лишним человек… Но в остальном все то же, что и в конце XVIII века, – торговля льном и пенькой, капуста, огурцы, редька в огородах, но уже и картофель, уже и двадцать шесть учеников в малом народном училище и вместо кривых улиц и переулков, о которых писал Леонтий Травин, «изрядный, правильно выстроенный город».
Кстати, скажем и о малом народном училище. Оно было открыто еще в XVIII веке – 1 апреля 1787 года и было действительно малым. Открывали его по специальному обряду, утвержденному губернскими властями[22]. Как только обряд заканчивался, начиналась обычная жизнь. По уставу в двухклассном училище должно было быть два учителя, но в целях экономии преподавал один, и получал он как за работу в одном классе. Зарплату ему обещалось платить опочецкое купечество (не зря же его приглашали на открытие). При открытии училища присутствовавшие собрали 121 рубль, а вообще на содержание училища городское общество отпускало 140 рублей в год. О том, как жили учителя в Псковской губернии, в частности и в Опочке, писал уже известный нам академик Севергин, который по поручению попечителя Санкт-Петербургского учебного округа обследовал уездные города Псковской губернии. В своем отчете Василий Михайлович писал: «Учителя живут в совершенной нищете, звание учительское не пользуется никаким уважением, судьба стариков и их семейств не обеспечена; все эти условия охлаждают педагогическую деятельность учителей». Один из первых учителей Опочецкого народного училища Троицкий в 1804 году жаловался губернскому директору училищ на то, что ему не дают ни квартиры, ни дров, ни свечей. Он даже вступил в конфликт с городской думой из-за плохого помещения училища и плохой квартиры[23]. Правду говоря, и сам Троицкий не был образцовым учителем. По воспоминаниям опочецкого купца Петра Ивановича Кудрявцева, выпускника училища, занимался Троицкий с учениками мало, а больше заставлял способных старшеклассников заниматься с младшими. Тех, кто плохо успевал, понятное дело, секли, но и тут он поручал это малоприятное занятие старшеклассникам. Секли как мальчиков, так и девочек. Когда Кудрявцеву поручили высечь девочку, тот испугался и смутился, но учитель ободрил его словами «Ничего, ничего не бойся, это так следует». Когда ученик научался чтению, письму и четырем арифметическим действиям, учитель советовал ему оставить школу и возвращаться домой, чтобы помогать родителям. Для девочек он и грамотность считал необязательной.
Хватит об училище, тем более что в 1815 году оно было переименовано в приходское, а в городе появилось двухклассное уездное училище, при открытии которого его попечители пожертвовали единовременно на учебные пособия уже 400 с лишним рублей, и девять лучших выпускников малого народного училища были приняты в первый класс уездного, но прежде, чем все это произошло, была Отечественная война, и к ней мы перейдем буквально через два предложения, только упомянем об одном событии, произошедшем в Опочецком уезде. В 1806 году имение Михайловское, по смерти его владельца, Осипа Абрамовича Ганнибала, перешло к его жене Марии Алексеевне Пушкиной и дочери Надежде Осиповне. Не бог весть какое имение – небольшой дом и несколько надворных построек. Через одиннадцать лет в него в первый раз приедет старший сын Надежды Осиповны после окончания Лицея.
Опочка в Отечественную войну 1812 года находилась в районе действий Первого пехотного корпуса под командованием генерал-фельдмаршала Витгенштейна, прикрывавшего направление на Петербург. В городе был расквартирован резервный полк тяжелой кавалерии 2-й кавалерийской дивизии, открыт госпиталь, созданы караулы из вооруженных крестьян для борьбы с французскими фуражирами, время от времени появлявшимися на территории уезда. Горожане делали денежные пожертвования, а в уезде собрали для нужд армии хлеба почти на 42 000 рублей, 1600 с лишним тулупов, несколько сот голов крупного рогатого скота и представили почти семь тысяч подвод для перевозки раненых, пороха, сухарей и вывоза хлеба.
Когда стало известно, что Наполеон на Петербург не пойдет, то жители Опочки вместе с прихожанами нескольких церквей в уезде пошли крестным ходом на белорусскую границу. Опочецкий купец Петр Степанович Лобков писал по этому поводу в дневнике: «Сего же года, сентября 9 дня, в бытность французов в Москве и Полоцке, из Опочки ходили с крестным ходом на границу Белорусскую со всех церквей, и Святогорския Божия Матери, и с Афанасьевской слободы иконы, тоже и с Прихаб. Было молебствие с коленопреклонением о побеждении врага. Жители города оставляли в домах старых да малых; и за здравие воинов всероссийских пето и пито».
Все же, поскольку французы находились в соседней с Псковской Витебской губернии, кое-кто из опочан запаниковал и бежал в Псков. Л. И. Софийский в своей книге об Опочке цитирует рукопись опочанина и тоже купца Андрея Лапина, в которой написано, что в июле 1812 года «французские войска были в шестидесяти верстах от нас, от чего у нас было немалое смятение, некоторые выезжали вон из города и закапывали свое имение в земле, отчего впоследствии находили клады».
Наполеоновские отряды, которые могли бы через Псковскую губернию пойти к Северной столице, были в октябре разбиты корпусом Витгенштейна под Полоцком, после чего в городе и уезде все окончательно успокоилось.
Отдельно скажем и об участии опочецких помещиков в войне. Среди них и участник сражения под Полоцком генерал Иван Петрович Кульнев, командовавший правым флангом русских войск, и генерал от кавалерии Николай Михайлович Бороздин, и генерал-майор Федор Пантелеймонович Алексополь, руководивший в Бородинском сражении четырьмя егерскими полками. Уволенный в 1816 году от службы «за ранами» с мундиром и полным пенсионом, генерал жил в Опочке до самой смерти. Прибавим к этим генералам и двух потомков опочецких служилых казаков – Александра Ивановича и Степана Венедиктовича Костровых. Первый, раненный при Бородине, поля боя не покинул. Дошел до Парижа. Степан Венедиктович в сражении под Полоцком «подавал собою пример мужества нижним чинам». Наконец вспомним и опочецкого помещика, под командой которого храбро воевали все вышеперечисленные офицеры, и не только они, – о генерал-фельдмаршале князе Михаиле Илларионовиче Голенищеве-Кутузове-Смоленском.
Проживал в Опочецком уезде и еще один участник Отечественной войны и Заграничного похода русской армии – Александр Адамович Глаубич. В 1826 году он был уволен от службы в чине полковника за болезнью. Жил он в селе Елизаветино и часто ездил в гости к соседям Пушкиным в село Михайловское, а они приезжали в гости к Глаубичу. В феврале 1837 года Александр Адамович был среди тех немногих, кто хоронил Пушкина.
Раз уж зашла речь о военных, то нельзя обойти и подполковника Александра Ивановича Обернибесова, принимавшего участие в боях против французов еще до начала Отечественной войны. В 1806 году был он тяжело ранен и попал в плен, из которого вернулся в полк только через год. По возвращении из плена попал в лагеря был пожалован орденом Святого Владимира IV степени. Потом снова воевал в Финляндии против шведов, снова был ранен, захвачен в плен и вернулся домой только через год, в ноябре 1809-го. За отличие в службе был награжден золотой шпагой «За храбрость» и отставлен за полученными ранами подполковником с мундиром и пансионом полного жалованья. Мы о нем рассказываем не потому, что он был опочецким помещиком, совсем нет. Он им не был. И не для того, чтобы вы удивились тому, что в те времена после возвращения из плена можно было получить орден, хотя и для этого тоже, но потому, что спустя семь лет после отставки, в мае 1815 года, подполковник Обернибесов был назначен в Опочку городничим и прослужил в этой должности ни много ни мало, а двадцать восемь лет – почти до середины XIX века.
В 1828 году чиновник по особым поручениям камергер барон Мантейфель по результатам ревизии Псковской губернии в рапорте генерал-губернатору Филиппу Осиповичу Паулуччи докладывал об Опочке и ее городничем: «Город Опочка, предназначенный, в Бозе почивающей Императрицею Екатериной II, для помещения наместнического правления, лежит на берегу реки Великой в приятном местоположении. По древности оного есть много ветхих строений и крестьянских изб, но есть даже каменные, в новом вкусе выстроенные здания. Торговля оного производится большей частью льном, и как река несудоходна, то обозы отправляются зимою. Городничий, отставной полковник Обернибесов, человек честный, занимается украшением города, но встречает препятствие в бедности жителей, между которыми есть предостаточные только два купеческих дома. Город имеет всего доход 5385 рублей 10 копеек в год. Улицы, кроме площади, не мощены, а за Великой строения разбросаны и есть ветхие… Тюремный острог совершенно ветх. Здание ежечасно угрожает падением. Больница доказывает, что к содержанию больных приложено должное попечение. Столы, кровати, посуда и белье в исправности. Бедные горожане в оную не принимаются. Богадельни нет. У прочих казенных зданий два корпуса, предназначенные для присутственных мест наместнического правления. Они выстроены из кирпича с чрезвычайной прочностью. Теперь они стоят без всякого употребления. Пожарные инструменты состоят в одной трубе с принадлежностями, впрочем, хорошо содержимыми. Лошадей при полиции нет».
