«Викторианский сборник»: к юбилею Виктории Мочаловой
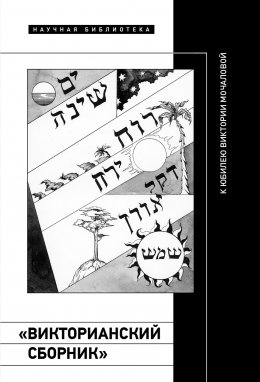
Издание осуществлено при поддержке Федерации еврейских общин России (ФЕОР) и Евро-Азиатского еврейского конгресса (ЕАЕК). Научные рецензенты: С. А. Иванов, д. ист. н., НИУ ВШЭ, член Британской академии; А. Б. Мороз, д. филол. н., НИУ ВШЭРедколлегия: О. В. Белова (д. филол. н., ИСл РАН); В. С. Герасимова (к. ист. н.); Г. С. Зеленина (к. ист. н., МГУ, РАНХиГС); И. В. Копченова (ИСл РАН, Центр «Сэфер»); А. А. Романова (искусствовед, куратор); А. В. Шаевич (директор Центра «Сэфер»)
Рисунки для обложки и шмуцтитулов П. В. Пепперштейна.
© АНО Центр «Сэфер», 2025
© Авторы, 2025
© П. Пепперштейн, рисунки, 2025
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Человек и его ипостаси
Ольга Белова
«Венок сюжетов» юбиляру
От Средневековья до авангарда
7 мая 2025 года Виктория Валентиновна Мочалова – славист с мировым именем, яркий исследователь и организатор науки – отмечает юбилей.
Показательна судьба ученого и человека, который на протяжении многих лет занимается любимым делом и счастлив в своей профессии. Неизменная любовь и профессиональная привязанность к славистике, к польской литературе и культуре сформировались на филологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, который Виктория Валентиновна окончила в 1968 году.
Этой проблематикой В. В. Мочалова продолжила заниматься в аспирантуре Института славяноведения и балканистики РАН (1969–1972), где в 1975 году защитила кандидатскую диссертацию «Идейно-стилевое своеобразие польской прозы и драматургии второй половины XVI – первой половины XVII в.».
С институтом связаны и дальнейший научный рост, и творческая жизнь Виктории Валентиновны – в 1972 году она была зачислена в сектор славянских литератур и продолжает трудиться в институте сегодня. «Институт стал большой удачей моей жизни, мне очень повезло», – так охарактеризовала Виктория Валентиновна свой путь в науке[1]. С неизменной благодарностью в публикациях и устных рассказах вспоминает юбиляр своих учителей и наставников – Виктора Александровича Хорева (1932–2012) и Бориса Федоровича Стахеева (1924–1993): с ними Викторию Валентиновну связывала давняя дружба и общая любовь к Польше.
Сферами научных интересов Виктории Валентиновны стали история польской и чешской литературы, литературные связи и межкультурный диалог разных традиций, проблемы поэтики, изучение межславянских и иудео-славянских контактов в восточноевропейском регионе. Итогом полонистических литературоведческих исследований стала монография «Мир наизнанку: Народно-городская литература Польши XVI–XVII вв.» (М., 1985). Эта книга, во многом основанная на идеях М. М. Бахтина, оказалась востребованной отнюдь не только в полонистике: развитие польской литературы предопределило становление светских литератур и традиций в Восточной Европе Нового времени. Принципы исторической поэтики вообще свойственны подходу нашего юбиляра к проблемам литературного развития – недаром ей принадлежат комментарии к популярному изданию «Исторической поэтики» А. Н. Веселовского (М., 1989), которое способствовало возвращению работ классика отечественной филологии к широкому читателю.
Заслуги В. В. Мочаловой в развитии отечественной славистики в широком смысле (прежде всего, в области истории польской и чешской литератур) характеризует ее участие в подготовке коллективных трудов Института славяноведения: «Писатели Народной Польши» (М., 1976), «Литературные связи и литературный процесс. Из опыта славянских литератур» (М., 1986), «Функции литературных связей. На материале славянских и балканских литератур» (М., 1992), «Studia Polonica. К 60-летию Виктора Александровича Хорева» (М., 1992), «Очерки истории культуры славян» (М., 1996), «История литератур западных и южных славян» (М., 1997. Т. 1–2).
Главные герои славистических штудий юбиляра – Адам Мицкевич, Болеслав Прус, Юлиуш Словацкий, Ян Кохановский, Станислав Игнатий Виткевич, Александр Ват, Витольд Гомбрович, Юлиан Тувим, Бруно Ясенский и др., и эти исследования не сводятся лишь к литературным портретам: в соответствии с междисциплинарными традициями Института славяноведения писатели и поэты понимаются как «культурные герои», определившие смысл исторического развития славянских народов. Особое место в этих исследованиях занимает академическое издание поэмы Юлиуша Словацкого «Бенёвский» (М., 2002), снабженное комментариями В. В. Мочаловой (совместно с Б. Ф. Стахеевым), ее переводами сочинения Ю. Словацкого и лекции о нем К. Ц. Норвида.
С 1990-х годов слависты смогли обратиться к запретной в официозной советской науке теме – истории еврейской диаспоры в славянском мире. Эта история была частью жизни самой Виктории Валентиновны. В 1994 году В. В. Мочалова совместно с Р. М. Каплановым создают Центр «Сэфер»[2]. В том же году В. В. Мочалова возглавила Центр славяно-иудаики в Институте славяноведения и участвовала в создании целого направления отечественной славистики – славистической иудаики: под ее руководством и при ее постоянном участии проводятся ежегодные международные междисциплинарные конференции по иудаике, издаются их материалы.
Международные конференции по иудаике, которые организуются с 1994 года совместными усилиями Центра «Сэфер» при участии Центра славяно-иудаики Института славяноведения РАН, – это масштабное событие в мире академической науки, на котором встречаются специалисты со всего мира, занимающиеся разными аспектами еврейской цивилизации, истории и культуры. Тематика конференций охватывает широкую сферу: от библейских и талмудических исследований до истории Государства Израиль, от еврейской философии до гендерных штудий; рассматриваются литература, искусство, еврейские языки, история евреев в Российской империи и СССР и др. За время проведения конференций (а их было 27) не только расширялся круг участников, но и постоянно укреплялись международные связи, инициировались совместные проекты, осуществлялся обмен изданиями.
Еще одна сфера деятельности юбиляра – это участие в зимних и летних образовательных школах Центра «Сэфер», где она много лет читает курсы лекций для молодых специалистов, и в полевых школах-экспедициях в самые разные регионы: Смоленщина, Беларусь, Польша, Украина, Австрия и Венгрия… Виктория Валентиновна – один из самых востребованных и любимых аудиторией членов Лекторского бюро Центра «Сэфер». В университетах, еврейских общинах и культурных центрах стран бывшего СССР, а также за рубежом Виктория Валентиновна рассказывала об истории и культуре евреев Восточной Европы, о Польше как центре еврейской учености в XVI–XVII веках.
Как видим, наш юбиляр – неутомимая путешественница. Ее отличают умение привлекать к себе людей, выслушивать их истории – именно поэтому рассказы Виктории Валентиновны о местах и людях могли бы составить интереснейшую книгу. Скажу, что для меня благодаря таланту Виктории Валентиновны как собеседника во многом открылся путь в «полевую иудаику», в обширное поле устной истории восточноевропейского еврейства, которое многие из нас только начинали осваивать.
Зимой 1999 года мы были в Варшаве на научной конференции. Заседания проходили в «сталинской высотке» – во Дворце культуры и науки, с верхних этажей которого открывался вид на город, – само место настраивало на то, чтобы погрузиться в сюжеты «варшавского текста», и польские коллеги с удовольствием делились с нами историями и воспоминаниями. Среди гостей конференции выделялась энергичная миниатюрная пани Туся Штайнер, которая, узнав Викторию Валентиновну (они уже встречались ранее), моментально включила нас в орбиту своего внимания: «Девчата! Видите те крыши? Я вам сейчас расскажу…» И далее последовал неиссякаемый поток сведений о довоенной старой Варшаве, о жизни польских евреев, о трагедии варшавского гетто, которую Туся пережила ребенком, – историю ее чудесного спасения в католическом монастыре, репатриации в Израиль и возвращения в Польшу нам еще предстояло услышать…
Неудивительно поэтому, что с самого начала осуществления международного проекта «Культура славян и культура евреев – диалог, сходства, различия» (1995) Виктория Валентиновна является его неизменным вдохновителем. В области иудаики актуальными оказались и полонистические занятия В. В. Мочаловой: традиционными для культурной истории Польши (и славянского мира) остаются сложные вопросы этноконфессиональных отношений, взаимопонимания связанных одной исторической судьбой народов – этим проблемам посвящены специальные работы юбиляра, в том числе статьи об отражении в литературе исторических событий и стереотипов национального восприятия, о положении иудеев и их отношениях с католиками и протестантами в Польше XVI–XVII веков, об иудео-христианском диалоге в Польско-Литовском государстве XVI века[3]. Многие из этих исследований Виктории Валентиновны опубликованы на страницах ежегодника «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия»[4], бессменным членом редколлегии и автором которого она является.
После создания в 1991 году Еврейского университета в Москве Виктория Валентиновна сразу вошла в состав преподавателей, стала активным организатором учебного процесса и одним из ведущих лекторов на протяжении всего существования университета, читала курсы по польской и восточноевропейской литературе, по культуре и истории польского еврейства.
Мы знаем Викторию Валентиновну не только как автора, блистательно владеющего стилем и способного превратить самый серьезный академический сюжет в увлекательное чтение. Еще одна роль юбиляра – это взыскательный и требовательный редактор. В 1973–1994 годах Виктория Валентиновна заведовала отделом литературоведения и культуры журнала «Славяноведение» (до 1992 года – «Советское славяноведение»), затем стала членом редколлегии журнала. Многие сотрудники, начинавшие свою деятельность в Институте в эти годы, осваивали школу редакторского мастерства именно под руководством Виктории Валентиновны (и как ее подопечные авторы, и как коллеги по редактированию). С 2018 года В. В. Мочалова возглавляет новое издание – Judaic-Slavic Journal (совместный проект Института славяноведения РАН и Центра «Сэфер»).
Заслуги В. В. Мочаловой отмечены медалью Amicus Poloniae и Премией РАН и ПАН за вклад в науку (2008). В 2013 году она награждена орденом «Золотой Крест Заслуги» (Республика Польша) и удостоена звания лауреата премии Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше 5773/2013» в номинации «Просветительская деятельность».
Творческую натуру Виктории Валентиновны трудно ограничить рамками академической науки, – на протяжении долгого времени ее связывали дружеские и личные отношения с кругом московского концептуализма 1970–1980-х годов. Герметичное сообщество отечественного авангарда того времени состояло из художников и литераторов, среди которых были И. Кабаков, Э. Булатов, В. Пивоваров, В. Янкилевский, Э. Гороховский, Г. Брускин, Э. Штейнберг, М. Гробман, Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, В. Сорокин и другие. Виктория Валентиновна принимала участие в интеллектуальной жизни художественного авангарда, помогала в подготовке выставок и домашних научных семинаров. В конце 1980-х годов при участии сына Виктории Валентиновны Антона Носика художник Павел Пепперштейн создал группу «Инспекция „Медицинская герменевтика“», которая стала важным интеллектуальным явлением на арт-сцене 1990-х. Павел Пепперштейн принимает участие в настоящем издании как автор художественного оформления сборника и автор текста, посвященного Виктории Валентиновне.
Книга, которую держит в руках читатель, – это сердечное приношение юбиляру от коллег и единомышленников, которые счастливы дружбой и сотрудничеством с Викторией Валентиновной. Вместе с тем это академическое издание, посвященное вопросам истории, литературы и антропологии, еврейской этнографии и фольклора. Заявленная тематика воплотилась в научных статьях и эссе, в стихах и прозе, в воспоминаниях и путевых заметках. И сложился «венок сюжетов» – яркий и разнообразный, как и личность самого юбиляра.
Друзья и коллеги желают Виктории Валентиновне успехов, новых публикаций, радости научного творчества.
Многая и благая лета!
Sto lat!
DOI: 10.53953/NLO.SEFER.2025.83.88.001
Аркадий Ковельман
Оммаж Виктории Валентиновне
Мы прожили две эпохи и сейчас живем третью. Эта третья – самая важная, потому что в ней невозможно оправдаться первыми двумя.
С Викторией Валентиновной мы встретились во вторую эпоху, когда поезд истории, выйдя из туннеля, начал набирать обороты. Встреча произошла на чердаке факультета журналистики МГУ. Замечательный декан журфака Ясен Николаевич Засурский сдал чердак в аренду Еврейскому университету в Москве (сокращенно – ЕУМ). Виктория Валентиновна поднялась по парадной лестнице и вскарабкалась на чердак, чтобы учить студентов ЕУМа истории польских евреев. Мне запомнилась очаровательная улыбка нового преподавателя и гордая демонстрация ювелирного украшения в виде шестиконечной звезды.
То ли Виктория Валентиновна привела в ЕУМ Владимира Яковлевича Петрухина, то ли Петрухин привел ее. Эпоха славилась многочисленными «приводами». Меня сосватал читать лекции по древней еврейской истории мой однокурсник Рашид Капланов, бок о бок с которым Виктория Валентиновна потом рулила «Сэфером». Тогда ЕУМ еще назывался Свободным еврейским университетом. Став проректором (а потом и ректором) этого университета, я сменил название и уничтожил свободу, построив регулярное учебное заведение, дававшее дипломы о высшем образовании. Кажется, я был единственным профессором в штате, зато вне штата там работали те, кого можно было назвать элитой московских гуманитариев. И учились (особенно на первых порах) удивительно талантливые студенты.
Свобода, изгнанная мною из Еврейского университета, нашла прибежище в «Сэфере», ассоциации исследователей и преподавателей еврейской истории и культуры. Здесь никто не требовал посещаемости, никто не сдавал экзамены, никого не отчисляли за неуспеваемость, зато почти все желающие участвовать в конференции, экспедиции или летней (зимней) школе получали деньги на проезд и пищу на пропитание – как материальную, так и духовную. Виктория Валентиновна была для них еврейской мамой (идише маме), а Рашид Мурадович – отцом родным. С кумыкским княжеским достоинством он опекал девушек и юношей вне зависимости от их успехов, талантов и достижений.
Вокруг Рашида и Виктории Валентиновны располагался Академический совет. Имена членов Совета я называть не буду – «иных уж нет, а те далече», одни сохранили дружбу, другие утратили, но Виктория Валентиновна в те времена умудрялась быть спасающим ангелом для всех – поверх случайных и не очень случайных ссор. Она вытащила Рашида из Черновцов, где его настиг инфаркт, привезла в Москву, заботилась о нем до его смерти и после: собрала и издала сборник его статей и лекций по еврейской истории.
Она была хозяйкой салона. Никогда и нигде в моей жизни я не чувствовал себя настолько среди своих, как в этом салоне. Свойство определялось общим делом и общим ощущением счастья – все получалось, все проблемы были решаемы, враги были где-то далеко, в прошлом, почти в подполье. Ни капли национализма не было в этом свойстве – русские, литовцы, украинцы участвовали в еврейском культурном движении вместе с евреями, потому что еврейская культура – от Библии до последних поэтов, писавших на идише, – была важна для понимания и развития русской, украинской, литовской культур. И еще потому, что в девяностые годы прошлого столетия история евреев Восточной Европы начиналась заново.
Она начиналась в распадающемся пространстве, не имевшем собственного названия (в Содружество независимых государств – СНГ – не входили страны Балтии). Приходилось заимствовать удивительный американский термин – The Former Soviet Union, то есть Бывший Советский Союз (сокращенно – FSU). Пресловутый «Джойнт» («Американский еврейский распределительный комитет»), с которого только что сняли клеймо шпионской организации, не щадя грантов, укреплял дружбу некогда братских советских народов. Среди членов Академического совета «Сэфера» был, например, замечательный археолог Гурам Амвросиевич Лордкипанидзе, происходивший из грузинского княжеского рода и заведовавший Центром еврейской культуры в Тбилисском университете. Из разных городов и республик члены Совета приезжали в Москву и приходили в салон к Виктории Валентиновне, щедро угощавшей гостей. Гимном «Сэфера» считалась песня «Ехали казаки», которую Леонид Мацих и Рашид Капланов исполняли на языке оригинала.
В те времена я мечтал (питал иллюзии) о новой общинности, новой духовности, новом «Винограднике Явне», как называлась ешива, основанная с разрешения римлян в городке Явне после разрушения Второго Храма. Видимо, в русле той же мечты Йонатан Порат, куратор академических программ «Джойнта», назвал «Сэфер» академической синагогой, хотя среди членов Академического совета были люди как религиозные, так и светские, иудеи и христиане. В этой синагоге Виктория Валентиновна служила директором, ответственным за все, – архисинагогисса на греческом языке поздней античности.
Она любит повторять латинское изречение ubi concordia, ibi victoria («где согласие, там и победа»), в котором меняет порядок слов. Получалось: ubi victoria, ibi concordia («где победа, там и согласие»). Согласие там, где она. Ведь самое имя «Виктория» переводится как «победа». И поскольку она родилась накануне дня Великой Победы, согласие следует по ее пятам.
Биография Виктории Валентиновны принадлежит только ей, и негоже посторонним вторгаться туда даже с целью похвалы и прославления. И все же я не могу не сказать о ее замечательном сыне – Антоне Носике. Его гражданская, коммерческая, благотворительная деятельность – все это часть публичной истории. Но бегать между машинами, чтобы помочь подслеповатым друзьям Виктории Валентиновны найти в темноте подъехавшее такси, – это не история, это просто человечность, унаследованная от матери.
Многое из тогда построенного не сохранилось. В истории (особенно в еврейской истории) вообще мало что сохраняется. Сохраняется еврейский народ, сохраняется человечество, сохраняются добрые чувства вопреки вражде, обстоятельствам и конфликту идеологий. Сохраняется надежда, которая, как известно, умирает последней.
DOI: 10.53953/NLO.SEFER.2025.51.77.002
Светлана Амосова
Очерки русско-еврейского именника
О Виктории и других
В статье я продолжу тему выбора имен у евреев в XX веке в ассимилированных семьях, а также в смешанных русско-еврейских семьях. Эта тема неоднократно рассматривалась в ряде работ[5]. Основной традиционной моделью для выбора имени у новорожденного в ашкеназских семьях являлся выбор имени в честь умершего родственника или какого-либо уважаемого человека. Главным правилом являлось то, что нельзя назвать ребенка в честь еще живого человека. При этом в российской еврейской среде конца XIX – начала XX века, для большей части которой основным языком все еще оставался идиш, были распространены именно идишские варианты еврейских имен.
Ассимиляционные процессы XX века, введение светского бракосочетания в начале 1918 года, отказ от религиозных и иных традиций, советский городской «космополитизм» – все это стало причиной появления и роста смешанных браков у различных этнических групп. Выбор имени для новорожденных в таких семьях не часто становится объектом отдельного изучения, хотя это довольно интересное явление: то, каким образом семья выбирает ту или иную традицию, объясняет появление того или иного имени в семье. На примере выбора имен в семье Кирштейнов – Баршаев – Марголиных, к которой принадлежит юбиляр, мы видим, как менялись тенденции имянаречения у евреев в больших городах, как выбирали имя в смешанных русско-еврейских семьях[6]. Большая часть семьи переехала из еврейских местечек Белоруссии в Москву в 1920-е и последующее столетие жила в этом городе. История еврейских имен семьи рассказана самой Викторией Валентиновной. Для сравнения мы будем привлекать материалы из экспедиций в бывшие еврейские местечки.
Переезд евреев в большие города и ассимиляционные процессы привели к тому, что стали меняться идишские имена, которые звучали слишком странно или просторечно для городской русскоязычной среды. Обычно имя могло меняться в двух случаях.
Первый – это смена имени уже взрослого человека, который отказывается от своего традиционного имени и выбирает обычно какое-то созвучное имя или же перевод, когда выбирался русский литературный вариант имени из Библии (не идишские варианты Аврум, Ицко или Сурка, а Авраам, Исаак и Сара соответственно). Во второй половине XIX – начале XX века купцы и студенты, проживавшие в Москве и Санкт-Петербурге, регулярно писали прошения об официальном изменении имен с еврейских на христианские, но получали отказы. Большинство ответов на прошения сводились к тому, что менять имена и отчества, записанные в еврейских метрических книгах, нельзя. Считалось, что такая замена имен приведет к путанице в документах. Эти просьбы стали причиной того, что была осуществлена попытка составить нормативный список еврейских имен и их эквивалентов, но она не увенчалась успехом. Государственная комиссия 1888 года постановила, что евреи могут использовать только то имя, которое было указано в метрических списках, и изменять его не могут; в 1893 году Государственный совет принял решение о том, что такая замена будет караться законом[7]. Однако после 1918 года этот вопрос решался легко – нужно было лишь дать объявление в газете и заплатить государственную пошлину. Однако зачастую евреи не меняли имя официально, но в различных сферах общения использовали его русифицированный вариант.
Второй вариант смены имен – это выбор имени младенца, которого называют в честь умершего родственника уже новым вариантом имени. При выборе часто действовали вполне определенные правила – новое имя могло быть созвучным старому, быть переводом еврейского имени на русский или же просто начинаться на ту же самую букву. Все эти тенденции хорошо видны в истории семьи Виктории Валентиновны.
Особенно мне нравится, что у меня есть тётя Арина, Арина Львовна Марголина, она была названа в честь своего дедушки Арона. Потом, моя тётя, царство небесное, Вера, она жила в Минске. Я когда была в Минске, конечно, её посещала. Она такая замечательная была, с чувством юмора таким. Я говорю: «Откуда у тебя такое русское имя?» – «Ты что, не поняла? Это в честь моей бабушки Двейре». То есть Двойра. Оказывается, все эти Веры еврейские от Двойры.
Мама всегда была Гита Моисеевна, и всегда была, есть грамота от Сталина. Во время войны: вот вы бьёте немецко-фашистских захватчиков, большое вам за это спасибо. Вот вам бумажка за это, грамота. [Почему Гитой назвали?] Ну Гита это вообще «хорошая» – гит, Гитл. <..> [В честь кого её назвали?] Мою маму? Есть такое семейное предание, что была у них какая-то в роду красавица, которую так и звали Шейна-Гитл – красавица Гитл, и когда родились две девочки практически одновременно, одну назвали Шейне – то есть Соня, Шейна – Соня, а другую назвали Гитл. Вот ту какую-то красавицу-праматерь они и разделили. <..>
Илл. 1. Грамота участнику Великой Отечественной войны Кирштейн-Мочаловой Гите Моисеевне, 1942 год (личный архив В. В. Мочаловой)
Илл. 2. Извещение о помолвке Сони Гиршевны Марголиной и Моисея Яковлевича Керштейна 17 августа 1904 года (личный архив В. В. Мочаловой)
Но вообще были очень распространены двойные имена, даже было такое смешное. Вот мой дедушка – это Янкель-Лейб, еще один дед моего двоюродного брата – Гирш-Лейб, то есть он Григорий-Лев, это просто переводится. И вот там двух девочек записали, отчество одну по Гиршу, другую по Лейбу – Григорьевна и Львовна там. Вот. Очень-очень распространены двойные имена, не в моём поколении, а вот в предыдущих. <..> Мою бабушку тоже почему-то… её звали Сара, но при этом она была Соня, может быть, она была Сара-Соня, Соня Марголина, она тоже была такая красивая бабушка. Я не видела её документов, но у меня есть такая карточка, как визитка, где написано, что Соня Гиршевна Марголина и Яков-Лейб Кирштейн помолвлены. Считать ли это документом, не знаю. Она там Соня, а не Софья.
Моего дедушку звали Моисей Яковлевич, очень легко – прадедушка Яков, но так как это Польша – Белоруссия, то его звали Янкель. Даже у Мицкевича есть такое еврейский персонаж, которого зовут Янкель. Это уже русифицировано: Яков – это Янкель, и ещё такая распространенная вещь, например, брать первую букву от имени, когда называют новорожденного. Например, умер дядя Рувим. В семье родились одновременно мальчик и девочка, а до этого незадолго умер старший родственник, его звали Рувим, так ребёнка мужского пола назвали Рудольф, а ребёнка женского пола назвали Рива, то есть эту букву Р они передали. То есть вот в честь Рувима Баршая, и вот Рудольф Баршай – музыкант, царство небесное, он в честь этого Рувима, вот эта Р, только одну букву передали, но она хранит память. Буквы же священные, это не просто так. Так и моя тётя Арина, от Арона.
Довольно важный культурный аспект бытования еврейских имен отмечает в своем рассказе Виктория Валентиновна – это наличие диминутивов и домашних имен. Зачастую в разных интервью люди говорят о том, что могли не знать полного варианта имени, и даже на мацевах на русском языке могли быть указаны диминутивные формы имени.
Почему-то моего дядю Льва Рафаиловича Марголина звали Нёня, другого имени у него не было, в смысле все родственники, друзья… Как Лев превратился в Нёню, я не знаю. И у моей мамы был брат, он умер в детстве, его тоже звали Нёнечка, его тоже звали Лев. Но он рано умер. Вот как-то эти имена. Вот я смотрю даже знаменитый музыкант – Яша Хейфец, его же не называют Яков. Он всегда Яша Хейфец, это его официальное имя, когда детское имя переходит во взрослую жизнь. Мне это кажется странным, но это распространённая традиция.
Только вот совершенно не понятно – моя тётя Люся. Все её дома называли Люся, только когда я занималась похоронными делами, ну документами, она оказалась Ревекка Моисеевна. Как из Ревекки получилась Люся, я не знаю. Это никогда не было темой для обсуждения, она была Люсей всегда. Нет, это, конечно, такое распространённое уменьшение. Моя кузина, которая живёт в Реховоте, её тоже надо называть Люсенька, хотя официально она Елена. Как происходит это превращение, я не знаю, но бывают какие-то домашние имена. Но это очень смешно: Люся – Ревекка Моисеевна.
Все эти тенденции, столь распространенные в еврейской традиции XX века, были и в семье Виктории Валентиновны. Однако уже во втором городском поколении тенденция выбора имен начинает стремительно изменяться. Это связано и с городской средой, в которой происходят ассимиляционные процессы, и с тем, что это была уже русско-еврейская семья. В смешанных русско-еврейских[8] семьях правила выбора имен для детей естественно менялись. Можно описать несколько стратегий для выбора имен в таких семьях.
– Идея компромисса, когда выбирается имя, в которое каждая из сторон семьи вкладывает свой смысл.
Я назвала свою дочку Соня, потому что в семье уже были Вера, Надежда и Любовь, но вся еврейская родня считает, что её назвали за их бабушку[9].
– Идея компромисса сохраняется и в еще одном случае: когда появляются двое детей, каждая из сторон выбирает имя для одного из детей в соответствии со своей традицией.
Нашу Алку назвали, бабу звали Алта-Доба, и её назвали Алка. Лёша родился на Алексеев праздник, 30 марта. Алексей – божий человек. Назвали Алексеем[10].
– Выбирается этнически нейтральное имя, которое не было распространено в русской среде и не воспринималось соответственно носителями разных традиций как очень православное, а следовательно, этнически маркированное. Такими именами могли быть новые имена (например, Светлана) или имена литературных персонажей; такие имена могли выбирать не только родители детей в смешанных браках, но и люди, которые, например, хотели отказаться от этнических традиций, выбрать ребенку новое в честь какого-то советского героя или же просто модное имя.
Приведем пример «нейтрального» имени, которое не связано с еврейской традицией, но и не воспринимается как православное:
Уже я своего ребенка называла ни в честь кого, ни в честь никак. Мне было важно, чтобы было какое-то такое имя… ну, не очень экзотическое. Я не знаю, где и как этот ребенок будет жить, брак у меня смешанный, у меня муж русский, он имеет право ходить в православную церковь, хочет пойти в синагогу – никто не выгонит, поэтому мы не хотели изначально давать ему чисто еврейское имя. В его ситуации это тоже неправильно. Мы долго выбирали что-то такое нейтральное, я не знаю почему – мы выбрали имя Ромка, Роман. Вполне так нейтрально, мы очень ждали девочку, девочке мы выбрали имя Анна. Мы решили: будет жить в Германии – будет Анхен, будет жить во Франции – будет Анни, будет жить в России – будет Анюта. Вот так решили, нам очень нравилось это имя, но девочка у нас не получилась. Но у нас есть Роман Николаевич, который уже знает, что он еврей[11].
Именно в соответствии с этими тенденциями были выбраны имена для сестер – Нина и Виктория. Как отмечает Виктория Валентиновна, «мою сестру звали Нина, в честь кого вообще не знаю».
Нина становится модным и популярным именем в 1930-е годы. Как отмечает исследователь русского и советского именника В. А. Никонов, в этот период оно вошло в тройку самых популярных женских имен[12]. Оно не было характерно для более ранней русской или христианской традиции, несмотря на то что оно есть в христианском именнике. Однако это очень популярное имя для литературных героинь XIX века начиная с «Маскарада» М. Ю. Лермонтова и далее[13]; постепенно оно начинает входить в круг аристократических имен. Как пишет литературовед А. Б. Пеньковский, сложился определенный «миф о Нине»:
Нина этого мифа – прекрасная женщина, живущая всепоглощающими страстями, которые она не может удовлетворить и во имя которых готова пренебречь принятыми в обществе нравственными законами…[14]
Однако слишком частое использование этого имени в литературных текстах и отсылка к одному и тому же уже ставшему шаблонным образу, а далее некоторое его «снижение» в литературных текстах приводит к ироничной заметке Виктора Шкловского в «Гамбургском счете» (1910–1930-е годы):
В одной редакции редактор спрашивал, получив толстую рукопись:
– Роман?
– Роман.
– Героиня Нина?
– Нина, – обрадовался подающий.
– Возьмите обратно, – мрачно отвечал редактор[15].
Нужно отметить, что имя Нина вообще не распространено в еврейском ономастиконе XX века, оно было характерно для городской русскоязычной среды 1920–1930-х годов.
Имя Виктория имеет совершенно другую культурную историю, оно не было частотным до 1940-х годов. В 1930-е становится популярным мужское имя Виктор, а вот женский вариант появляется лишь после окончания войны. Виктория Валентиновна одной из первых получила имя, которое станет в дальнейшем популярным и заметным в именнике. О выборе своего имени она рассказывает так:
Они [родители] фронтовики оба, тут победа наступила, тут я родилась, как ещё можно назвать?
Со мной ведь всё просто: родители были на фронте, где меня и зачали, а поскольку я родилась в День Победы, то вариантов особенно не было – ПОБЕДА!
То есть здесь выбор имени обусловлен историческими событиями, ребенку дается имя, соответствующее случаю. Надо сказать, что тенденция выбирать имена по случаю и называть в честь какого-то важного праздника, события или революционного деятеля стала весьма популярной после революции, особенно в городской среде, когда выбирались имена, имеющие определенную семантику (например, Октябрина в честь очередной даты Октябрьской революции или Кармий в честь Красной армии), но уже в 1930-е годы такого рода имена и эта традиция почти исчезает. В 1940-е годы такие имена уже не пользовались популярностью, но окончание Великой Отечественной войны ненадолго традицию возродило. Вот тут нужно отметить, что имя Виктория получило распространение не только в русской, но и в еврейской среде, оно стало довольно заметным именно в этот период именно в городской среде[16].
Что касается выбора имени для сына, то Виктория Валентиновна отмечает, что никакой связи с еврейской или еще какой-либо традицией здесь нет. Это модное на тот момент имя:
А своему сыну я выбрала имя по звучанию, мне всегда нравилось, кроме того, Антуан де Сент-Экзюпери, ну мне нравились и носители этого имени, я думала, что если будет мальчик, то будет Антон, если девочка, то Анна. Чисто фонетически, никаких заморочек у меня на эту тему не было. Да и у всего моего окружения… Может быть, только религиозные. Если я вижу, что кого-то зовут Антон, то я понимаю, какого он поколения, он примерно как мой сын, вот в таком диапазоне. <..> Когда идёт мода – это сплошняком.
Борис Винер, анализируя имена в различных этнических и смешанных семьях Ленинграда, пишет о том, что имя Антон была весьма популярно у русских и в смешанных украинско-русских и белорусско-русских семьях, но не пользовалось популярностью у евреев и в смешанных русско-еврейских семьях[17]. Здесь перед нами новая городская традиция выбора имен, основанная на русском языке и модных тенденциях времени.
Семейная история показывает не только то, как меняются имена в одной семье, но и различные стратегии выбора той или иной идентичности, важности того или иного события в жизни семьи, культурные ориентиры. Выбор имени для ребенка строится не только на личных предпочтениях, он обоснован рядом других факторов: языка, идентичности, следования модным тенденциям и пр.
DOI: 10.53953/NLO.SEFER.2025.30.66.003
Галина Зеленина
«Скрытые звезды» сефардистики
Подобное приличествует присовокуплять к подобному, например, преподнося даме ученой и прекрасной во всех отношениях очерк о других ученых и прекрасных дамах. Вместе с тем следует не утомлять глаз единообразием, но развлекать его контрастом, например, заменяя любезную сердцу юбиляра Восточную Европу иными, более восточными ландшафтами. Сими нехитрыми соображениями и обусловлен мой выбор.
За последние несколько десятилетий в сефардистике (так мы, выбирая краткость и пренебрегая некоторой неточностью, назовем исследования испанского и постиспанского (сефардского) еврейства позднего Средневековья и Нового времени, включая историю конверсо, крещеных евреев на Пиренейском полуострове и в Новом Свете), пережившей всплеск в конце прошлого века в связи с резонансным 500-летием изгнания евреев из Испании и другими факторами, появилась плеяда замечательных исследовательниц, пришедших в науку в 1970–1980-х годах, которые тем не менее, как правило, известны узкоспециально, внутри той или иной проблематики, или локально, внутри той или иной региональной историографии, в то время как академический ландшафт определяют мужчины и поставленные ими «большие» вопросы: о подлинном значении евреев в истории Испании, о подлинной религиозной идентичности конверсо и о подлинных мотивах инквизиции.
Задача этого очерка, чью эвристическую ценность не стоит преувеличивать, – проследить академические и научные траектории этих исследовательниц в сравнении с профессиональными судьбами и интересами двух-трех поколений мужчин – столпов сефардских исследований ХX века; иными словами – написать портрет меньшей младшей группы второго гендера на фоне большей старшей группы первого.
В контрольную фоновую группу следует включить, прежде всего, Америко Кастро (1885–1972) и Клаудио Санчеса-Альборноса (1893–1985), крупных испанских (долгое время – в изгнании) ученых – историка культуры и медиевиста, участников многолетней полемики: Кастро ввел понятие «гармоничного сосуществования» (convivencia) трех «рас», культур и религий на Пиренейском полуострове в Средние века и высоко оценивал вклад иудеев и конверсо в становление испанской культуры и национального характера, называя евреев «плющом и одновременно стволом испанской истории» и обнаруживая еврейские корни у самых разных феноменов испанской жизни раннего Нового времени, включая административную и финансовую системы, медицину, поэзию и драму, «симфонию» государства и церкви и доктрину «чистоты крови», в то время как Санчес-Альборнос сокрушался о том, что изгнание этих «богоубийц и эксплуататоров» произошло так поздно и они слишком долго притесняли приютивший их испанский народ, выколачивая налоги и промышляя ростовщичеством. Другая подгруппа – еврейские историки, прежде всего Ицхак Бэр (1888–1980), автор двухтомной «Истории евреев в христианской Испании» и сооснователь иерусалимской историографической школы, видный представитель лакримозного, по выражению С. У. Барона, взгляда на еврейскую жизнь в диаспоре, представляющий долгую историю испанских евреев как многогранную и славную, полную разнообразных достижений, но трагическую из-за притеснений христиан. С ним солидарен его ученик Хаим Бейнарт (1917–2010), отстаивавший подлинную еврейскую идентичность конверсо, восходивших на «мученический костер» за верность иудаизму; с ними не согласен ревизионист Бенцион Нетаньягу (1910–2012), утверждавший, что крещеные евреи за пару поколений отошли от веры предков и ассимилировались, и инквизиция это понимала и руководствовалась отнюдь не религиозным рвением, а политическим расчетом и «расовой ненавистью». Так или иначе, перед нами большие нарративы, оперирующие судьбами целой субэтнической группы, приписывающие ей единую идентичность и общую страдательность и не склонные к дифференцированию и нюансировке, в частности, по гендерному признаку.
Первую из героинь нашей «экспериментальной» группы, Аниту Вайнгорт-Новински (1922, Стахув – 2021, Сан-Паулу), с мэтрами испано-еврейских исследований роднит долгожительство, хотя и не только оно. Анита родилась в межвоенной Польше и вскоре была увезена родителями в Латинскую Америку. Из-за эмиграции и других обстоятельств ее академическая карьера была какой угодно – многогранной, мультидисциплинарной, в итоге блестящей, только не прямой и быстрой. В 1956 году, в 34 года, она получила степень бакалавра в Университете Сан-Паулу, потом два года изучала психологию и только в 1970-м, в 48 лет, защитила диссертацию по социальной истории. Важным поворотом в ее исследовательской деятельности стало получение доступа к фондам Torre do Tombo, государственного архива Португалии в Лиссабоне, где отложились десятки тысяч инквизиционных дел, в том числе из Бразилии. На этих материалах Вайнгорт-Новински написала целый ряд книг по истории инквизиции и «новых христиан» в Бразилии. Следующий важный этап в ее карьере – постдок в EHESS, Высшей школе социальных наук в Париже, где она посещала курс Робера Мандру, ученика Люсьена Февра и представителя второго поколения школы «Анналов», по истории ментальностей и написала под его руководством вторую диссертацию. Кроме того, она слушала лекции Мишеля Фуко, Ролана Барта, Юлии Кристевой, участвовала в семинарах Леона Полякова по антисемитизму и расизму. Примечательно, что ее ученица в некрологе «Школа Новински: наследие Аниты» пишет про учебу в Париже как «один из самых важных моментов в формировании молодой Аниты». Вайнгорт-Новински в тот момент было уже за 60, она всего на год моложе своего учителя Мандру, но возраст не помешал ей усвоить новую для себя историографию и методологию и ввести обсуждение французских авторов в курсы для аспирантов в Университете Сан-Паулу, где она преподавала (с 2015 года – emerita). В 2000-е годы она была увлечена созданием Лаборатории исследований нетерпимости и проектом Музея толерантности: теперь ее интересовали не только марраны, но и другие категории жертв инквизиции, рабство, геноцид, права человека и даже права животных. За долгие годы она воспитала множество учеников, и перечень школы Новински включает три десятка фамилий – как еврейских, так и португальских. Как историк и защитница прав человека она была публичной фигурой и много выступала с интервью и открытыми лекциями: с сияющей улыбкой, в нарядах разных оттенков розового, на фоне подноса с графинчиками с разноцветными жидкостями (занятия геноцидом не повредили латиноамериканской жовиальности). В частности, в 2005 году она снималась в документальном фильме «Скрытая звезда Сертана» о криптоиудейских семьях в Сертане («внутренней» Бразилии), у которого было позаимствовано название этого очерка.
Вайнгорт-Новински написала более десятка книг о бразильской инквизиции и марранах, в том числе: «Новые христиане в Баии, 1624–1654» (1972), «Описи имущества, конфискованного у новых христиан в Бразилии» (1978), «Кабинет расследований: беспрецедентная „охота на евреев“» (2007), «Евреи, которые построили Бразилию» (2016). В ее собственных работах и в продуктах ее чрезвычайно активной организационной и издательской деятельности (коллоквиумы, исследовательские группы, коллективные монографии и проч.) наблюдается приверженность к тем же метанарративам: как и Бенцион Нетаньягу, она видела в инквизиции насилие не ради чистоты веры, а ради чистоты крови, иными словами – «геноцид» и «расистскую ментальность», прецеденты «варварства», которое со временем породит Холокост. С немалой вероятностью она потеряла в Польше родственников и, как и Нетаньягу, писала об инквизиции отнюдь не отстраненно, а «в тени Холокоста». Как и Америко Кастро, она приписывала «новым христианам» значительную роль в становлении бразильской нации и идентичности. Однако большие темы ограничивались барьерами географическими – Атлантическим океаном, отделяющим Новый Свет от Старого, – и лингвистическими – португальским языком, делающим работы Новински доступными лишь португалоязычному академическому сообществу, и в итоге, при всей неординарной продуктивности и общественном темпераменте, в мировой науке она оставалась фигурой достаточно маргинальной, «скрытой звездой Сертана».
Следующая по старшинству – Алиса Меюхас Гинио (р. 1937), уроженка Иерусалима, вся академическая карьера которой разворачивалась в Израиле: первые две степени она получила в Еврейском университете в Иерусалиме, третью – в Тель-Авивском университете, где затем и состояла доцентом, профессором и, наконец, заслуженным профессором. Докторат и первые ее работы были посвящены иудео-христианской полемике в позднесредневековой Испании, прежде всего трактату «Крепость веры» (Fortalitium fidei) Алонсо де Эспины: в конце 1990-х она издала в серии «Еврейские источники Кастильского королевства» (Fontes Iudaeorum Regni Castellae) аналитический обзор самой антииудейской части этого трактата – «О войне иудеев» (De bello Iudaeorum), а затем монографию «Крепость веры: мировоззрение Алонсо де Эспины, испанского монаха». Но со временем Алиса Меюхас сосредоточилась на истории сефардской диаспоры и литературе на ладино. В 2014 году она издала книгу «Между Сефарадом и Иерусалимом: история, идентичность и память сефардов». Ее обложку украшает фотография из семейного архива: 1924 год, Морено Меюхас, в костюме-тройке, отправляется в Париж учиться на инженера, порвав с традицией предков-раввинов; его провожает бабушка в традиционном сефардском платье. Начиная с изгнания из Испании и заканчивая обзором сефардской темы (или ее отсутствия) в двухвековой еврейской историографии, рассматривая повседневную жизнь восточных сефардов и «духовный мир сефардских женщин» на материале литературы ладино, Меюхас Гинио обсуждает процессы модернизации в османской еврейской общине на примере иерусалимского семейства Меюхас, представители которого из поколения в поколение становились раввинами и шадарим – посланцами иерусалимской общины и ее раввинских институций в разные города восточной диаспоры. Со смертью деда автора в 1941 году раввинский и сефардский период в истории семьи закончился: Меюхасы больше не говорили на ладино, сменили традиционную одежду на европейское платье и учились не в колелях, а в светских учебных заведениях.
Одна из одиннадцати внуков последнего раввина в роду Меюхасов, получив светское образование и ученую степень, Алиса внесла свой вклад в прорыв заговора молчания, сложившегося вокруг восточных сефардов, которых мэтры еврейской истории, равно как и сионистские политики со своим ашкеназским бэкграундом и культурным европоцентризмом, считали отсталыми и не заслуживающими внимания. Большинство «Историй еврейского народа» и учебников заканчивали историю испанских евреев изгнанием, а из дальнейших явлений сефардской истории удостаивали вниманием лишь лурианскую каббалу, саббатианство и Дамасское дело 1840 года, Меюхас же рассматривает изгнание из Испании не как конец истории испанских евреев, но как начало истории сефардов. Помимо этого географического и хронологического смещения – от мейнстримного испанского Средневековья к неизученному и обесцениваемому восточносефардскому Новому времени, Меюхас сдвигает и социально-тематический фокус в сторону микроистории и гендерной истории, делая объектом рассмотрения не ученую, придворную или финансовую элиту, а женщин и отдельно взятую семью в нескольких поколениях.
Американская исследовательница сефардской истории раннего Нового времени Мириам Бодиан (р. 1948) начала свое образование в Гарварде, а вторую и третью степень получила в Еврейском университете в Иерусалиме, преподавала в Пенсильванском университете, в Туро-колледже и в Техасском университете, где она сейчас professor emerita. В Гарварде она специализировалась на американской истории и литературе, а выбор еврейской истории и Иерусалимского университета концептуализирует как ответ на identity politics в США начала 1970-х годов, в частности, на умалчивание о еврейском происхождении в семье. Свой выбор сефардских исследований она объясняет реакцией на identity politics в Израиле конца 1970-х, подразумевая, вероятно, маргинализацию восточных сефардов и мизрахим. Метазадачей своей научной деятельности она считает «высветить многообразие (diversity) личных ответов на общие интеллектуальные, культурные и политические тенденции». Ее первая книга – «Евреи португальской нации: конверсо и община в Амстердаме раннего Нового времени» (1997) – и вторая – «Умирая в законе Моисея: криптоиудейское мученичество в иберийском мире» (2007) – посвящены во многом истории идей, «богатому и сложному идеологическому климату» в раннемодерной западносефардской общине, вольнодумцам и криптоиудеям by choice, самим выбравшим изобретать традицию предков и погибать за нее, «дискурсам религиозного несогласия», риторике республиканизма у «португальских» евреев и т. п. Выразители этих явлений – отдельные люди или немногочисленные группы, то есть предмет ее изучения, – личность и пусть значимые, но частные случаи, не сефарды en masse. Задачей автора видится выявление вторых планов, неочевидных связей и источников, ревизионизм нормативного еврейского нарратива; к примеру, она показывает, что реиудаизация сефардов Амстердама завершилась гораздо позже и происходила гораздо труднее, чем они сами утверждали; что религия была для них важна, но иберийская «нация» важнее; что криптоиудеи подпитывались не только еврейским духом, но и протестантской антикатолической полемикой, и алумбрадисмо, так что «новые христиане» на кострах инквизиции – это эпизод в истории не только еврейского мученичества, но и религиозных гонений и сопротивления раннего Нового времени. Не то чтобы она дезавуирует еврейский компонент – верность вере отцов, излюбленный традиционной еврейской историографией, но стремится показать, что картина была сложнее и полихромнее, и избежать больших нарративов.
Рене Левин Меламед (урожденная Рене-Клэр Левин) родилась в 1952 году в Нью-Йорке, по-видимому, во франкофонной сефардской семье. Училась в Университете Брандайза, иммигрировала в Израиль и диссертацию о женщинах в испанском криптоиудаизме писала уже в Еврейском университете в Иерусалиме под руководством Хаима Бейнарта. Работала в разных местах, в том числе в Институте Шехтера в Иерусалиме, где сейчас является заслуженным профессором. Первые ее монографии: основанная на диссертации «Еретички или дочери Израиля? Криптоиудейки в Кастилии» (1999) и «Вопрос идентичности: иберийские конверсо в исторической перспективе» (2004) – находятся в русле исследований марранов иерусалимской школой. Первую книгу, утверждающую, что дом конверсо был «бастионом культурного сопротивления, в котором женщины играли ведущие роли», «постились и соблюдали субботу и праздники», демонстрируя «выдающийся уровень соблюдения» и «нерушимую связь с еврейским народом», «идентифицировали себя с народом Израиля и надеялись достичь спасения через Закон Моисея», можно назвать женским вариантом работ Бейнарта, доказывавшего повсеместную преданность марранов иудаизму.
Сохраняя фокус на женщинах и неашкеназских общинах, Левин Меламед дрейфовала хронологически, касаясь сюжетов как более ранних, чем испанский криптоиудаизм, так и более поздних. Так, с 1997 по 2019 год она опубликовала целый ряд статей о женщинах в источниках из Каирской генизы, в том числе «Он сказал, она сказала: учительница в Каире XII века», реконструирующую историю неудачного брака, упорного труда и обретения молодой женщиной экономической независимости. Другая ее героиня – «рабби Аснат», Аснат Баразани, которая де-факто была рош-ешива в Курдистане в XVII веке. Наконец, в 2013 году Левин Меламед добралась и до ХХ столетия, издав книгу «Ода Салоникам: стихи на ладино Буэны Сарфати». Салоникийская сефардка, Буэна после начала нацистской оккупации пошла работать в Красный Крест; она конфликтовала с местными евреями-коллаборантами, которые в отместку убили ее жениха в день свадьбы, была арестована, бежала из тюрьмы и ушла к партизанам, спасала еврейских детей, перевозя их в Турцию или Палестину. Свой опыт она запечатлела в стихах на ладино, а после войны, уехав в Монреаль, написала мемуары; ее литературное наследие стало основным источником в монографии Левин Меламед.
Последовательно разыскивая в источниках разного времени деятельных женщин, расширяющих гендерные границы, исследуя тему женской агентности, Левин Меламед сделалась одной из ведущих фигур в области еврейской женской истории; в 2001 году она выступила редактором сборника «„Возвысь с силою голос твой“: о женских голосах и феминистской интерпретации в иудаике», а впоследствии стала главным редактором «Нашим: журнала еврейских женских исследований и гендерной проблематики». В Институте Шехтера она возглавляет программу женских исследований. Кстати, сам институт, основанный в 1984 году совместно Еврейской теологической семинарией в Нью-Йорке и израильским движением традиционного (масорти) иудаизма как раввинская семинария, назван в честь Соломона Шехтера (1847–1915). Это ключевая фигура в истории американского консервативного иудаизма, а также в открытии Каирской генизы, откуда он привез в Кембридж около 150 тысяч фрагментов – последнюю порцию рукописных документов, оставив там уже только менее ценные печатные материалы, и чье значение для науки впервые внятно сформулировал. Эта аффилиация как нельзя более соответствует научным интересам Рене Левин Меламед: и ее изысканиям в материалах генизы – в области, начало которой положил Шехтер, и исследованию ученых женщин, занимавших традиционно мужские позиции, что обогащает пригодное прошлое (usable past) консервативного иудаизма – движения, в котором в последнее время заметную роль играют женщины-раввины и профессора.
Для сравнения, профессор испанского Университета Хаэна Мария Антония Бель-Браво (р. 1949), по образованию гебраист и историк-новист (лиценциат семитологии и доктор истории Нового времени), не совмещала еврейскую историю с женской проблематикой, а занималась ими последовательно: ее книги 1980–1990-х годов посвящены испанским евреям и конверсо («Аутодафе 1593 года: гранадские конверсо иудейского происхождения», «Католические короли и андалусийские евреи (1474–1492)», «Сефарад: евреи Испании»), а начиная с 2000-х годов выходят ее монографии по гендерной тематике – от истории семьи и испанских женщин в Новое время до экофеминизма. Этих монографий много, рецензии на некоторые весьма критичны и упрекают автора в отсутствии аргументации, ненаучности, бесконечном автоцитировании и публицистичности; на последнее указывает и название новейшей из этих книг: «Женщина в истории. Идеология и реальность, или Как превратить судьбу в возможность». По-видимому, занявшись после истории испанских евреев, оставшейся в прошлом, женскими исследованиями, Бель-Браво увлеклась их актуальностью, связью с социальной реальностью и позволила себе выйти за академические рамки.
Рассмотренные здесь пять научных траекторий не дают материала для каких-либо значительных выводов, но несколько тезисов все же стоит сформулировать.
Эти ученые позже, чем старшее поколение испанистов-гебраистов, пришли в науку, а потому неизбежно либо занимаются ограниченным ревизионизмом, как Бодиан, либо открывают новые регионы, как Новински, либо новых героев, как Левин-Меламед, обогатившая историю конверсо и восточных сефардов описанием женских судеб.
В отличие от ученых мужей из предыдущего поколения, приверженцев метанарративов и общенационального масштаба, эти исследовательницы отдают предпочтение частным и групповым сюжетам: индивидуальным кейсам, семейной истории – и избегают категоричных ответов на «большие» вопросы либо, по крайней мере, несколько сужают вопросы и снабжают ответы оговорками (как Левин Меламед). Даже быстрый взгляд на их творчество показывает, что «большие» и однозначные идеи (инквизиция – это геноцид и предтеча Холокоста; конверсы были верны своему народу; женщины сыграли и играют ключевую роль в изменениях в современном обществе) продвигать проще, чем открытия частного порядка, усложняющие уже известную картину.
Субэтническая приписка оказывается значимее и устойчивее хронологической: несколько исследовательниц переместились из Средних веков в Новое и даже Новейшее время, но не изменили сефардской тематике. Наконец, следует заметить, что проведенное сравнение было сравнением двух выборок не только разных гендеров, но и разных поколений. Если сопоставить работы этих исследовательниц с мужчинами-сефардистами тех же поколений: Йосефом-Хаимом Йерушалми (1932–2009), Дэвидом Гитлицем (1942–2020), Хайме Контрерасом (р. 1947) и др., – различия минимизируются, разве что интерес к женщинам останется стойким признаком женской историографии.
DOI: 10.53953/NLO.SEFER.2025.87.25.004
Георгий Прохоров
Перебирая маски
Игра с идентичностью в литературном наследии Аркадия Ковнера
Аркадий Ковнер, еврейско-русский публицист и литератор XIX века, запомнился как человек с множественной идентичностью. Неслучайно некролог, составленный Василием Розановым, наполнен антиномиями:
Родившись в Вильне, в 1842 г., в бедной, но интеллигентной еврейской семье, А[ркадий] К[овнер] с 1862 г. стал подвизаться на литературном поприще, сначала на древнееврейском языке, а затем главным образом в русских периодических изданиях. С 1866 года Ковнер совсем оставил еврейскую литературу и посвятил себя исключительно русской. <..> Приготовленный родителями в раввины, этот энергичный человек не только не пошел по пути замкнутого еврейства, но на склоне лет принял христианство, поступил на государственную службу и обзавелся русской семьею, ничем не отделяя себя от русских, хотя в то же время много страдал и за положение евреев[18].
Розанов представляет жизнь Ковнера стрелой, направленной из еврейского прошлого в русское настоящее, однако последнее предложение разрушает схему и вопреки ей констатирует незыблемость связи Ковнера с еврейским миром. Еврейское и русское – две половинки личности, которые порой гармонично, а порой проблемно соединялись в этом человеке, что удивляло не только Василия Розанова, но и, например, Абрама Паперну, который оставил такое впечатление:
Чтение длилось около часа. Записка [об улучшении прав евреев на имя министра юстиции Н. В. Муравьева. – Г. П.] составлена была с большим умением. Все в ней было логично обосновано и поражало детальным знакомством с положением евреев. Он читал с большим чувством, ясно было, что слова выходили из горячо любящего, болеющего сердца. И чем дальше он читал, тем он все вырастал в моих глазах, и в тот момент я почти забыл, что предо мной сидит выкрест, доносчик и предатель народа[19].
Удивление Паперны легко понять: на протяжении всей жизни Ковнер поддерживал контакты с персонами, которые трудно заподозрить не то что в юдофилии, но просто в нейтральном отношении – это А. С. Суворин, В. П. Буренин, В. В. Крестовский, Ф. М. Достоевский, да и сам В. В. Розанов… При этом использовал контакт, чтобы рассказывать о евреях и демонстрировать ограниченность юдофобских стереотипов[20]. На склоне лет Ковнер принял православие, но полагал, что, будучи атеистом, не изменил вере и остался евреем. Пламенное выражение атеизма соседствовало у бывшего ешиботника с выражением искреннего уважения к вере других людей, что евреев, что христиан. Двойственность пронизывала не только еврейскую страту. Левый прогрессист, но клерк крупного санкт-петербургского банка; совершил хищение, но отстаивал свою моральную невиновность.
Идентичность Аркадия Ковнера соткана из фрагментов; калейдоскоп масок характерен для его личных текстов. Например, письма к Достоевскому начинаются с отсылки к образу их автора, который отчетливо предстает евреем[21]. Но далее этот образ разворачивается то в атеиста[22], то в социалиста-прогрессиста[23], то в махрового русофила, пишущего почти с христианских позиций[24] или стремящегося к русификации[25]. Схожую игру масками видим и в поздних мемуарах «Из записок еврея» (1903). Вопреки названию, они оставлены уже христианином, но при этом перед нами скорее апология еврейства, а в какой-то мере и традиционного еврейского образа жизни. Нарратив показывает всевозможные некрасивые ситуации из еврейских штетлов, но наряду с утверждениями, что все прогнило в талмудическом мире, автор подчеркивает, насколько успешно этот мир функционирует.
Маски автора сменяют одна другую, и непонятно, какая из этих масок – лицо и есть ли оно вообще. Подобным образом построена не только публицистика этого автора, но и его художественные произведения. Там мозаичность превращается в поэтический прием; автор смешивает, рекомбинирует «национальные черты» и тем самым ставит в центр общечеловеческое, показывает ограниченность национальных предрассудков. Показательна повесть «Около золотого тельца» (1894), с которой начинается возвращение Ковнера в русскую литературу после ссылки в Сибирь, вызванной участием в крупном мошенничестве[26]. Произведение строго выдерживает жанровый канон (тематической или сюжетной уникальностью тексты Ковнера, как принято считать, не обладают[27]), в центре повести – испытание главного героя жизненной катастрофой[28]. Концентрируясь на карьере и стремясь пробиться в высшее общество, он попадает в ситуацию, когда его молодая жена – любовница мужа его собственной дочери, причем пара сбегает из России в Европу. Прохождение через катастрофу меняет приоритеты героя, который осознает, что карьера и богатство – не показатели успеха и счастья. О расчеловечивающей роли капитализма писали в XIX веке и Диккенс, и Золя, и Достоевский… Но перед нами произведение еврейско-русского писателя.
Автор и название повести – «Около золотого тельца» – формируют у читателя ожидание еврейских подтекстов. Золотой телец – эпизод из библейской истории, причем образ заметен в антиеврейских нарративах как религиозного характера (легкость впадения евреев в соблазн), так и экономического (влечение евреев к деньгам). В повести это прозрачная аллегория, отсылающая к главному герою, банкиру и богачу. Однако ожидание не оправдывается, повесть не заключает в себе отсылок к евреям ни на персонажном, ни на сюжетном уровне.
Андрей Петрович Зарецкий – к началу повествования «директор одного из солиднейший банков в Петербурге»[29]. Человек незнатного происхождения[30] и выходец из какой-то окраины; он начал головокружительную карьеру помощником бухгалтера «…в провинциальной конторе одного могущественного в то время откупного светила…»[31] Был толковым сотрудником, а потому оказался переведен в Петербург, как только откупщик превратился в столичного банкира. Шаг за шагом Зарецкий обрел самостоятельность, стал известным «биржевым дельцом»[32], а впоследствии не только директором банка, но и полномочным членом правления. По мере карьерного роста герой теряет человечность: «…уверовал в свою гениальность <..>, стал считать себя выше всего окружающего, третировал всех свысока, кричал на служащих, корчил из себя аристократа…»[33] Становится эгоистом в отношениях и с коллегами[34], и с собственным семейством:
Мария Михайловна [бедная вдова и дальняя родственница. – Г. П.] <..> написала Зарецкому «трогательное» письмо, в котором умоляла о помощи для себя и, главное, для сиротки – Саши, не имеющего возможности окончить курс учения в гимназии. Зарецкий прислал бедной родственнице двести рублей, но не написал ей ни единого слова…[35]
Владимир Сергеевич Роше – другой главный герой повести и по сюжету главный злодей. Непонятного происхождения, вероятно незаконнорожденный[36] ребенок, который благодаря некоему «благодетелю» (биологическому отцу?) получил непрогрессивное, но хорошее образование в Училище правоведения[37]. Роше подает большие надежды как молодой прокурор[38]. Впрочем,
…намеки товарищей, пренебрежение со стороны училищного начальства, редкие ласки «особы», неопределенное настоящее, неизвестная будущность – все это озлобляло его <..>, отравило его жизнь, и он сделался в душе эгоистом и непримиримым врагом не только своего покровителя, но и всего русского, всего человеческого. <..> он решился ждать до поры до времени, когда подвернется случай отомстить всем за один раз…[39]
Из создаваемого повествованием «избытка видения» (М. М. Бахтин) мы знаем (в отличие от героев повести), что Роше делает карьеру, втирается в доверие к важным людям, включая Зарецкого, исключительно из стремления побольнее и посильнее отомстить окружающим.
Надя Нащокина – круглая сирота, которая происходит из поляков Западного края и тяготеет к католицизму[40], однако эту склонность удачно скрывает. Вопреки сложной личной ситуации, умеет прекрасно устраиваться в жизни: «…была идолом всего пансиона; все ее любили, все ее лелеяли, все дарили, и таким образом „бедная сиротка“ имела всё в большем изобилии, чем иногда самые богатые пансионерки»[41]. Надя обворожительна[42], столь же внутренне пуста[43] и эгоистична. Порой декларирует угрызения совести, но непонятно, способна ли в действительности сожалеть о чем-либо[44].
Четвертая героиня повествования – единственная дочь Зарецкого, Лидия Андреевна: «…крошечная, миниатюрная фигурка с большими голубыми глазами, с вьющимися белокурыми волосами, с востреньким носиком, с пунцовыми губами и с ямочками на белоснежных щеках»[45]. Находится в неизменной тени окружающих – отца, который фактически сослал ее в пансион подальше от дома[46], и Нади, тешащей собственную гордыню, будучи защитницей и опекуншей девушки, стоящей гораздо выше по социальному статусу.
Все герои, как мы видим, русского, славянского и европейского происхождения. В повествовании нет ни единого еврея. Однако в каждом из названных героев имеются шаблонно еврейские черты (если принять за шаблон антисемитскую и/или бульварную литературу). Зарецкий – заносчивый и безосновательно чванливый банкир, который обладает единственным умением – делать деньги из воздуха на бирже. Роше умен, но ненавидит приютивший его народ, движим лютой злобой по отношению к ближним[47]. Надя очаровывает мужчин внешностью, обеспечивает себе место в обществе физической притягательностью[48]. Даже Лида – миниатюрная и нервная до болезненности – выглядела бы вполне еврейкой, стоит лишь сменить цвет ее волос и глаз на черный, равно как изменить форму носа. Чтобы связанные с героями аллегории заработали привычным образом, не хватает совсем малого – простого указания на еврейское происхождение героев или более скромно выраженной связи с евреями. Таких деталей, повторимся, нет. И это отсутствие красноречиво. Ковнеру важно показать: если бы перед читателем предстал Ротшильд, Гинцбург или, скажем, Дизраэли, то повествование казалось бы ясным до схематизма. Однако меняется ли характер поступков героев, их оценка только от того, что их совершает не Ротшильд, а Зарецкий или Роше?
Впрочем, еврейские прототипы за спинами героев повести все же найти можно. Влюбленность, кража денежных средств, бегство на поезде, заграница как пространство мечты и избавления, начала новой жизни – представления не только героев повести, Нади и Роше, но и самого Ковнера и его на тот момент возлюбленной – Софьи Кангиссер. Озлобленность Роше на окружающий мир, решение отомстить своему благодетелю путем кражи и удара по репутации – это опять-таки из жизни Ковнера, который после хищения средств писал управляющему банка:
Я не мог простить Вам, что Вы вознаграждали меня вместе с мальчишками, тупыми и безграмотными, что Вы не удостоили меня своего внимания, и я стал думать о мщении. <..> и я отомстил, Вы теперь будете посмешищем, и я торжествую, потому что когда вижу, что такой отвратительный эгоист, как Вы, такой бездушный, тщеславный, безграмотный, оторванный от национальности и человечества, полусумасшедший жидок опозорен и сброшен со своей воображаемой высоты, то это великое торжество для многих истинно мыслящих людей[49].
Злоба Роше проистекает из личного опыта Ковнера. Но даже если перед нами автобиографическое письмо, то оно все-таки «автофикшен», где биографические элементы перестроены в рамках нового сюжета. Вывести судьбы героев повести из биографии Ковнера и Кангиссер не получится. За несколькими общими мотивами и характерными словами обнаруживаются не менее значимые различия. Зарецкий, например, сохраняет свою репутацию в обществе, даже предстает невинной жертвой, причем Роше и Надя заведомо дают ему такую возможность:
Не предпринимайте никаких мер, чтобы воротить меня. Во-первых, вряд ли Вам это удастся; во-вторых, это ни к чему не поведет… Выйдет только скандал. Надеюсь, что Вы предпочтете быть благоразумным[50].
Как они и предполагают, Зарецкий предпочитает не преследовать беглецов, чтобы не допустить скандала и спасти хотя бы репутацию. У Зака – управляющего Петербургским учетным банком – такой возможности не было. Газеты (да и обвинение на публичном процессе) смаковали личное письмо Ковнера к нему. Текст письма Ковнера к Заку и характеристики Зарецкого в повести, действительно, тесно связаны. Однако событийный ряд – не повтор, а скорее альтернатива жизни ее автора. Ковнера быстро принялись искать, о его хищении рассказывала вся пресса (причем не только русская): «В гостинице были газеты и я прочитал, что меня разыскивают. Я упал духом и первым моим желанием было ее [Софью] обеспечить»[51]. Поймали его практически сразу по прибытию в первый крупный город – Киев. В отличие от автора повести, его герои скрываются в Европе, никем не преследуемые. Кангиссер прошла через тюрьму и судебный процесс, была полностью оправдана, но вскоре умерла от туберкулеза. Надя пышет здоровьем, в то время как Роше убит на весьма случайной дуэли. (Вероятно, на старого ешиботника повлиял роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина», где не скрепленные официально отношения принципиально не могут быть ни допустимыми, ни прочными.)
Прокурор и особенно пресса подавали дело Ковнера как еврейское преступление[52]. Но вот перед нами русские герои повести вовлечены в аналогичные деяния. Стали совершенные поступки праведнее? Охарактеризуем ли приписанные этнически русским героям действия заведомо невозможными, поскольку люди их положения так себя никогда не ведут? Единственно возможные ответы на оба вопроса – нет. И действительно, разрушают жизнь и репутацию доверившегося человека, сбегают за границу с любимыми не только Ковнер с Кангиссер, но и Анна Каренина с Вронским.
Еврейское и нееврейское, биографическое и вымышленное переплетены друг с другом у Ковнера теснейшим образом. Автор последовательно одевает своих героев в несвойственные им (по активным в обществе стереотипам) социальные и нравственные одежды. Ковнер, как кажется, продолжает тему, некогда поднятую в письме к Достоевскому: «Чем Губонин лучше Полякова? Чем Овсянников лучше Малькиеля? Чем Ломанский лучше Гинцбурга?»[53] В 1870-х годах Достоевский не нашел серьезных аргументов для ответа на этот вопрос:
…почтенный корреспондент сопоставляет несколько известных русских кулаков с еврейскими в том смысле, что русские не уступят. Но что же это доказывает? Ведь мы нашими кулаками не хвалимся, не выставляем их как примеры подражания и, напротив, в высшей степени соглашаемся, что и те и другие нехороши[54].
Образы и судьбы героев повести «Около золотого тельца» демонстрируют, что национального характера как чего-то устойчивого и непреодолимого нет, а Volksgeist – красивая и удобная концепция для оправдания ксенофобии и дискриминации. Ковнер последовательно отказывается возлагать ответственность за преступления на социальные группы. Зарецкий и Роше совершают дурные поступки, поскольку они лично приняли плохие решения. Выбор того же Зарецкого не проистекает из того, что он – банкир, богач, из глухой провинции, выбрался из грязи в князи и т. д. и т. п. Виноват он в том, что не сумел совладать с собой. На его месте мог бы оказаться любой, конечно, и этнический еврей тоже (большие деньги и неограниченная власть коверкают любого человека). Например, высокомерие, демонстрационная образованность при ее поверхностности, жадность, эгоизм, которые в повести характеризуют русского Зарецкого, в мемуарах Ковнер приписывает родному дяде:
В то время как все евреи в Вильне считали его в высшей степени щедрым и великодушным благотворителем, так как ни одно общественное дело не обходилось без его помощи, – дядя с ближайшими родными был крайне жесток и высокомерен, никогда их у себя не принимал и даже не удостаивал их разговором[55].
Только упомянутые человеческие качества – как и любые другие – не имеют прямого сопряжения с этничностью.
Свойственная Ковнеру «кража идентичности» – присвоение русских культурных масок, ряжение русских героев в еврейские маски – уже отмечалась[56]. Что интересно, подмеченный исследовательницей принцип фактически конституирует всю систему письма этого литератора, художественную, эгодокументальную, публицистическую. С одной стороны, перед нами следствие биографических обстоятельств – травмирующего опыта бегства из своей еврейской семьи в Вильне, ареста и суда на старте литературной карьеры в Петербурге. Ковнер как бы ищет альтернативы, пишет о том, как еще могла бы пойти его жизнь[57]. С другой – воздействие быстро протекавшей модернизации, которая проблематизировала и ломала устойчивые идентичности. Последние распадались вместе со старым миром; Ковнер живет на обломках этого старого мира, тасует и комбинирует оставшиеся от него осколки до бесконечности.
В этом процессе игры с масками присутствует примечательная закономерность. Ковнер не просто использует чужие маски, он совмещает мотивы таким образом, чтобы циркулирующие в обществе «готовые» фабулы не совпали с придуманным им сюжетом. Эгоистичный банкир не оказывается евреем, равно как коварным и скрытным ненавистником русского общества. Культура конца XIX века входит в эпоху модернизма – стиля, который обожал эксперименты над формой и содержанием, который стремился увидеть за привычной историей необычное содержание. Слом, переделка, переосмысление традиционных мотивных схем отсылают к модернизму, но эти же приемы связывают Ковнера с его юностью – миром ешив и жанром мидраша, адаптирующего библейские фрагменты к поворотам истории. В произведениях автора элементы биографии, общественных предрассудков, еврейской и русской истории, литературы ведут себя подобно мидрашу, который обретает светские очертания.
Ковнер перебирает маски и играет с идентичностями, но его игра серьезна. В конечном счете вопрос всегда стоит о границе общечеловеческого на фоне легкости и привычности для людей оценивать всё и вся из готовых стереотипов. Проблема, вероятно, вечная. В жизни мы так делаем, потому что типизация удобна для экономии мышления. Однако подобные обобщения уничтожают индивидуальность, оставляют типизатора с придуманной им самим химерой, напичканной предрассудками и стереотипами. В мире повести Ковнера мы видим, насколько человек ускользает от обобщений, противится растворению в некоем типе.
DOI: 10.53953/NLO.SEFER.2025.76.20.005
«Облака славы»: пастыри, праведники, заступники
Анна Михаловска-Мычельска
Старые и новые взгляды на еврейское самоуправление в Речи Посполитой в XVI–XVIII веках
Может показаться, что вопрос функционирования еврейского самоуправления является политически нейтральной темой, не вызывающей эмоций. Однако оказывается, что в трудах историков различных направлений, писавших на протяжении последних двух веков[58], можно встретить совершенно разные образы еврейского самоуправления в Речи Посполитой, которые во многом зависели от взгляда авторов. В своем тексте я хотела бы показать, каким образом еврейское самоуправление представляли историки трех направлений: интеграционисты, «национальные» историки и «современные» историки, писавшие в межвоенный период, а также как новейшие исследования корректируют этот образ.
Первую хронологически группу историков, активных в 1870–1890-х годах, составляли так называемые интеграционисты, для которых основным ориентиром в истории евреев была их интеграция с нееврейским окружением. Историки этого направления, как еврейские (Даниэль Нойфельд[59], Александр Краушар[60], Хилари Нуссбаум[61]), так и польские (Людвик Гумплович[62], Владислав Смоленский[63], а также активный ранее Вацлав Александр Мацейовский[64]), однозначно отрицательно оценивали институты еврейского самоуправления в Речи Посполитой как анахроничные и вредные, а порой даже как «опухоль, разъедающую тело польского иудаизма» (Нуссбаум). По их мнению, эти институты способствовали сохранению обособленности еврейского населения, что восходило к 1264 году, когда евреи получили привилегию, дающую им свободы и возможность создания собственных самоуправляющихся институтов, что привело к окончательному отделению евреев от «польских дел».
Руководство еврейских общин (кагалов) и раввины представлялись деспотами, безжалостно использующими свою власть для контроля и запугивания населения, в том числе с помощью херема (отлучения от общины). Отрицательно оценивались и высокие расходы на содержание общинной организации, что вело к чрезмерному налоговому бремени и, как следствие, обнищанию польских евреев. Центральные автономные институты – еврейские сеймы (коронный и литовский) – воспринимались как фактор, изолирующий еврейское население от нееврейского мира, поэтому их роспуск в 1764 году рассматривался как начало глубоких и позитивных реформ еврейского самоуправления.
По той же причине отрицательно воспринимались еврейские учебные заведения и использование идиша, а позже также хасидизм (который Смоленский называл «моральной гангреной»), как факторы, способствующие религиозной и социальной изоляции польских евреев. Одновременно интеграционисты возлагали ответственность за сложившуюся ситуацию и на неевреев, которые, по их мнению, способствовали изоляции евреев, что в конечном счете не смогли преодолеть даже реформы времен правления Станислава Августа Понятовского и Четырехлетнего сейма.
Еврейские историки «национального» направления имели иной взгляд на институты еврейского самоуправления в Речи Посполитой. Они продолжали подход, заложенный Генрихом Грецем (1817–1891), автором монументального одиннадцатитомного труда по истории евреев с библейских времен до его современности. Греца считают основателем современной еврейской историографии[65]. В своей работе он предполагал, что именно еврейский народ, а не иудаизм, является главным объектом еврейской истории и составляет связующий элемент для евреев, живших в различных частях диаспоры на протяжении многих веков.
Среди недостатков его труда называли недооценку социально-экономических факторов, роли крупных еврейских общин, а также рассмотрение истории евреев в диаспоре в отрыве от нееврейского окружения. Несмотря на эти недостатки, работа Греца стала величайшим достижением еврейской историографии XIX – начала XX века и оказала огромное влияние на формирование и укрепление еврейской национальной идентичности читателей. Она также способствовала росту интереса к еврейской истории и появлению исследований, посвященных истории отдельных общин, написанных местными авторами, которых часто называют «ивритскими монографистами».
Подход Греца принял также Шимон Дубнов (1860–1941), хотя его исследования имели значительно меньший охват и сосредоточивались на евреях Польши и России. Дубнов предложил совершенно новый взгляд на институты еврейского самоуправления в Речи Посполитой, считая, что они имели первостепенное значение и определяли, что евреи, несмотря на отсутствие политического суверенитета, могли рассматриваться как община. Еврейские институты на протяжении веков формировали еврейскую идентичность и доказывали непрерывное развитие еврейского народа, что, по его мнению, привело к тому, что еврейское сообщество в Российской империи нельзя было считать исключительно религиозной общиной[66]. Однако, как отмечает Исраэль Барталь, Дубнов создал анахроничный образ еврейского общества донациональной эпохи, описывая его в категориях современного понимания нации. Дубнов рассматривал институты самоуправления как выражение безусловной обособленности евреев от народов, среди которых они жили, дополнительно укрепляемой семейными связями и изучением Торы. Вместе с тем он полагал, что еврейская автономия в Польше и Литве была частью политической структуры Речи Посполитой, отмечая явное сходство между функционированием еврейских общин с их центральными органами и шляхетскими сеймами с региональными собраниями шляхты. Однако в своих работах он имел тенденцию преувеличивать власть еврейских самоуправляющихся институтов, приписывая им значительно большую независимость, чем это было в действительности, и однозначно осуждал попытки ослабления или разрушения этих институтов[67]. Оценивая значимость самоуправляющихся институтов, Дубнов также подготовил издание пинкаса сейма литовских евреев, которое является особенно ценным, поскольку основано на ныне утраченных рукописях этой книги[68].
Наибольшее значение для формирования образа еврейского самоуправления в прежней Речи Посполитой имели «современные» историки, начинавшие свою карьеру на рубеже XIX и XX веков и активно работавшие в межвоенный период, прежде всего Мойзес Шорр и Майер Балабан. Первый родом из Пшемысля, второй – из Львова, оба в конечном счете поселились в Варшаве и получили должности профессоров Варшавского университета.
Мойзес Шорр (1874–1941), прежде чем окончательно посвятить себя ассириологии, занимался историей польских евреев. Его докторская диссертация, защищенная в 1898 году в Университете Яна Казимира во Львове, под названием «Организация евреев в Польше – с древнейших времен до 1772 года»[69], была посвящена институтам еврейского самоуправления на местном уровне (кагалы), провинциальном (еврейские сеймики) и центральном (еврейские сеймы), создающим до сих пор функционирующий образ пирамиды. Вторым важным трудом Шорра была монография по истории евреев в Пшемысле до конца XVIII века, состоящая из двух частей: исследования и публикации источниковых материалов (на польском, латинском и иврите)[70]. В этой работе, как и в диссертации об организации евреев, вопросы, связанные с функционированием еврейского самоуправления, занимают центральное место.
Шорр считал автономию «одной из самых важных и одновременно самых интересных страниц восьмивековой истории евреев в Польше»[71] и рассматривал институты самоуправления как форму общественного и национального представительства евреев, которые в Польше развились и действовали интенсивнее, чем в других местах. В Вааде четырех земель он видел воплощение единственного существовавшего на тот момент еврейского парламента и считал, что он лучше представлял интересы еврейского населения, чем аналогичные институты, ранее функционировавшие в других частях Европы. Однако более критично Шорр относился к кагалам, усматривая в их деятельности причину нарастающей задолженности, которая представляла собой общую экономическую проблему, хотя он и признавал их роль в защите общин и отдельных жителей.
При периодизации истории самоуправляющихся институтов Шорр принимал за основной критерий постепенное формирование надобщинных институтов, предпринимающих инициативы в интересах всех евреев страны (разделение на три периода в раннем Новом времени он проводил по рубежам 1500 и 1551 годов). Важно, что Шорр также подчеркивал необходимость целостного подхода к еврейской истории – наряду с еврейскими источниками он использовал и польские, отмечая, что деятельность еврейских автономных институтов базировалась как на талмудическом, так и на польском праве. По мнению Шорра, еврейские институты самоуправления в Речи Посполитой функционировали в условиях полной автономии и имели полную свободу действий. Однако, как отмечает Якуб Гольдберг,
в новаторских концепциях Шорра лишь в небольшой степени была учтена другая сторона деятельности этих институтов, заключавшаяся в выполнении роли звена доминиальной администрации в шляхетских городах и администрации старост в королевских городах[72].
Продолжателем исследований Шорра был Майер Балабан (1877–1942), который, наряду с множеством других тем, занимался и институтами еврейской автономии и оставил после себя монографии о еврейских общинах во Львове[73], Кракове[74] и Люблине[75], а также третий том учебника для еврейских гимназий, в котором вопросам самоуправления уделено значительное внимание[76]. Основным объектом исследований Балабана были крупные центры с разветвленными структурами кагалов и братств, тогда как малым общинам он уделял меньше внимания, хотя и осознавал, что функционирование общинных институтов зависит от размеров центра и его правового статуса. Ученикам он поручал писать работы об общинах средних городов Речи Посполитой, а уже затем должны были появляться исследования, посвященные местечкам, что показывает иерархию важности исследовательской тематики на его семинарах[77].
В своих работах Балабан в большей степени учитывал роль внешних факторов, определявших возникновение и развитие еврейского самоуправления, и созданный им образ уже не является столь идеализированным, как у Шорра. Он описывал, среди прочего, внутренние конфликты в общинах, а также противоречия на надобщинном уровне – борьбу подчиненных кагалов за отделение от материнских общин и конфликты внутри еврейского сейма. Он также искал примеры влияния польских (в первую очередь шляхетских) организационных моделей на функционирование еврейских институтов.
В конечном счете образ, созданный Балабаном, является очень положительным – он демонстрирует солидарность польских евреев, а также относительную независимость и значительную устойчивость еврейских институтов самоуправления на всех уровнях. Эти институты сумели пережить потрясения середины XVII века, войны и разрушения второй половины XVII – начала XVIII века.
Подводя итог, и Шорр, и Балабан, как правило, рассматривали функционирование еврейской общины в прежней Речи Посполитой в явной изоляции от нееврейского мира, исходя из предположения, что знание обеих сторон друг о друге было незначительным. По этой причине изменения в институтах самоуправления они объясняли исключительно внутренними еврейскими факторами. Они также подчеркивали богатую внутреннюю жизнь еврейских общин, расцвет еврейской науки, образования, благотворительности и культуры, то есть всего того, что было специфически еврейским.
Однако этот образ, остатки которого все еще можно найти во многих современных исторических трудах, требует пересмотра в свете новых исследований. Первым, кто предложил новый взгляд на еврейское самоуправление, был уже упомянутый Якуб Гольдберг (1924–2011), автор новаторского утверждения, сделанного в начале 1990-х годов: «Нет истории евреев без истории Польши, и нет истории Польши без истории евреев». В этом же направлении работал Моше Росман, который писал о постмодернистской метаистории мультикультурализма, подчеркивая определяющую роль исторического контекста еврейской жизни и взаимозависимости с нееврейским окружением. В результате он обращал внимание на необходимость написания отдельных историй конкретных еврейских общин, в которых евреи рассматриваются как «местная» группа, органично связанная со странами, в которых они проживали[78]
