О творческих крысах
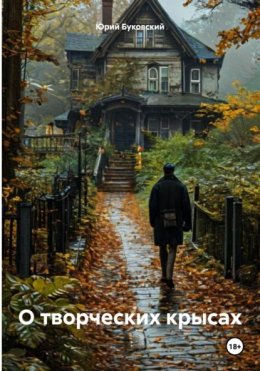
О творческих крысах
В мою бытность слушателем Высших театральных курсов, помнится, посещал я лекции блестящего преподавателя, профессора Симонова. По-моему его звали Павел Васильевич. Позже попытаюсь найти его брошюру в своей библиотеке, чтобы уточнить. Он вёл у нас социальную психологию.
Был ещё один Симонов. И тоже блестящий преподаватель. Армянин, Евгений Рубенович. А психолог был русским. Евгений Рубенович на занятиях и пел, и танцевал, и декламировал стихи, а если было в аудитории пианино, с удовольствием сам себе ещё и аккомпанировал. А мы с удовольствием слушали весь этот блестящий спектакль под названием лекция о режиссуре.
Помню, был такой случай. Идём я и ещё один слушатель по главной улице столицы, тогда она называлась в честь талантливейшего русского писателя Максима Горького. Вдруг у тротуара останавливается Волга с мигалкой, оттуда выходит Евгений Рубенович: «Куда вас подвезти?» И буквально затаскивает нас в машину. И ведь подвёз! А был он тогда ни много, ни мало, не только главным режиссёром театра им. Вахтангова, но ещё и членом Верховного Совета СССР. Это что-то на уровне нынешних чванливых сенаторов. Вот такие были люди!
Так вот рассказывал нам психолог Симонов очень часто про крыс. Наверное, потому что с ними проще проводить всякие социальные и психологические опыты. Суть одной из лекций примерно такова. Весь животный мир устроен одинаково. Все животные разделяются на эгоистов и альтруистов. Соотношению два к одному – 66 процентов эгоистов и 33 – альтруистов. И у тигров, и у оленей, у пингвинов, крыс и у человека тоже, как у представителя животного царства. Всё это конечно спектр: от крайних эгоистов к умеренным, и от умеренных альтруистов к альтруистам в крайней возможной степени. Но граница всё-таки есть, существует, и психологи её выявляют с помощью опытов и экспериментов в каком-нибудь животном виде или человеческом социуме.
Эгоисты животные нужны для выживания вида. И это понятно – если все тигры вдруг начнут отдавать свою добычу другим тиграм, а тигры крайние альтруисты делиться ещё и с какими-нибудь шакалами, то они постепенно вымрут как вид. Животные эгоисты очень нужны.
Ну, а для чего же существуют животные альтруисты? К примеру, альтруисты крысы. А это творческие крысы. В сообществе крыс поведение альтруистов такое: они исследуют новые места обитания, подвергая себя опасности. И найдя подходящее местечко, пытаются там обжиться. Но им не дают там уютно устроиться! К ним тут же являются крысы эгоисты и выгоняют альтруистов на поиски нового места обитания. И они уступают – как-никак, альтруисты. И снова ищут новые места обитания творческие крысы, подвергая себя опасности, и даже гибнут, и снова их выпихивают из обжитых мест крысы эгоисты.
У нас на курсе был такой слушатель, он писал пьесы коммунистической направленности про заводы, цеха, выполнение планов и предначертаний партии и съездов, борьбу за это выполнение членов парткомов, райкомов, обкомов и всё такое прочее. Так вот он слушал, слушал и говорит Симонову: «Что вы нам всё про крыс рассказываете? Расскажите про людей и о творчестве». Симонов очень удивился непонятливости этого драматурга и ответил: «Так я вам про людей и рассказываю. И о творчестве тоже».
Мадам или не мадам?
«Смешивать меня с моими сочинениями —
явное помешательство.»
Андрей Платонов.
Это было в пору моей далёкой юности. Чем только, кроме непременного для меня во все времена спорта, я тогда не занимался! Благо кружки и секции были для подрастающего поколения бесплатны, и можно было бегать из одного кружка в другой, из одной секции в другую.
И вот однажды, после мучительных для меня, семи лет занятий по фортепьяно, я записался в изостудию. Располагалась она на набережной Невы, между Литейным проспектом и Фонтанкой, в старинном особняке на втором этаже. Высокие окна дворца выходили, как и требовалось для студии, на север, и в них видны были ленинградское просторное и серое небо, невская свинцовая вода, и крейсер «Аврора» со зданиями медицинской академии вдали на противоположной стороне реки.
Руководил студией Кирилл Михайлович Петров-Полярный – интеллигентный, вальяжный, с курительной трубкой в руке, и с длинными, зачёсанными назад, как и положено было художникам в те годы, когда не вошли ещё в моду бороды, волосами. Учителем он был достойным, и уж не знаю, кто из его учеников стал известным художником, но на всю жизнь, не только мне, но и всем своим подопечным, привил он, как я полагаю, и любовь к живописи, рисунку, скульптуре, архитектуре, и умение видеть цвет, линию, композицию, и главное – гармонию в искусстве, в природе, да и вообще в повседневной жизни.
На одном из занятий он долго бродил между мольбертами, наблюдая, как его ученики изображают карандашами на своих листах водружённую в драпировке у одной из стен голову Венеры. Затем пригласил всех собраться около моей работы.
Меня это напрягло. Я никогда не любил находиться в центре внимания.
– Вот этот мальчик, – ткнул Кирилл Михайлович рукою с трубкой в мой эскиз, заставив меня сжаться ещё больше, – рисует конечно неважно. Но он рисует Венеру.
– А мы что делаем? – нервно хмыкнула одна талантливая девочка, огорчившаяся, видимо, из-за того, что всех собрали около моей, а не около её треноги.
Такие талантливые девочки или мальчики обязательно присутствуют в каждом творческом объединении. Они обычно умеют и передвигаться, и глядеть, и разговаривать, да и вообще поставить себя так, что с первых мгновений общения любому становится ясно, что он имеет дело с необычайно творчески одарённым субъектом.
– А вы рисуете себя, – ответил Кирилл Михайлович.
Затем он привёл пример из своей поездки в Монголию. Там на картинах вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин изображался азиатом – скуластым и с узенькими глазками-щёлочками. А если в рост, так ещё и маленьким, и кривоногим.
Было ли так заведено во всех изостудиях Ленинграда, или наш руководитель выхлопотал эту льготу только для своих учеников, я не знаю. Но на одном из первых занятий, он вручил нам бесплатные пропуска в музеи города. Благодаря этой бумажке за год, который я выдержал в студии, мне удалось облазить весь Эрмитаж. Вечером после учёбы я ходил туда почти каждый день, как на работу.
Больше всего меня поразили импрессионисты. Сам ли я отыскал, или Кирилл Михайлович подсказал мне, как найти небольшие на отшибе залы с низкими, не музейными потолками на четвёртом этаже, но они стали самыми притягательными для меня во всей художественной громаде музея. Народу в этих залах было мало, экскурсии в советские времена туда не водились, и я мог подолгу простаивать перед картинами с одной-единственной восторженной мыслью: «Неужели так тоже можно рисовать? Откуда в этих кусочках холста, цвета и жизни больше, чем в самой жизни?»
К чему это я? К тому, что, к сожалению, я не могу повторить вслед за французским классиком, что какая-нибудь мадам, или даже какая-нибудь кошечка или собачка из моих опусов – это я.
Не верю!
Как и все здравомыслящие люди, а я конечно же отношу себя к ним (или к нам?) в общем, к здравомыслящим, я никогда не верил во всякую мистику, в потустороннее, передачу мыслей на расстояние, магию, волшебство, чародейство, шаманство, ворожбу, оккультизм, чернокнижие, волхвование, эзотерику, привидения, порчу, в астралы, Йети, лохнесское чудовище, в пришельцев с созвездия Альдебаран и прочую дребедень. Я не читаю гороскопов и никогда не пользовался услугами магов, гадалок, колдунов, ведунов, экстрасенсов и даже гипнотизёров. Как и все здравомыслящие я считаю всё это предрассудками, или хуже того – шарлатанством. И думать так вынуждает меня не только здравомыслие, но ещё и приобретённый багаж знаний – как и всех советских студентов, меня основательно пичкали «Марксистско-ленинской философией», «Историей КПСС», «Политэкономией» и «Научным коммунизмом». И я даже сдавал по всей этой тягомотине экзамены и зачёты. И успешно сдавал. А науки эти – если конечно можно назвать наукой попытку запомнить, что сказал на каком-нибудь съезде какой-нибудь престарелый вождь, который уже и сам ничего не помнил – воспитали во мне материалистический и атеистический подход к жизни. По крайней мере, должны были воспитать…
А вот здесь мне надо бы остановиться, охладить свой обличительный пыл, и не побоявшись прослыть шизиком, чокнутым или на всю голову повёрнутым, вернуться к первому абзацу и смягчить свои же резкие утверждения. И отрицание «никогда не верил» заменить на слова более сдержанные, что-нибудь вроде «сомневаюсь», или «раньше не верил, а теперь даже и не знаю, как быть». А заявление «никогда не пользовался услугами» и вообще убрать. Потому что это враньё. Пользовался. Правда не по своей воле, а по странному стечению обстоятельств.
И вот теперь, после всех этих противоречивых заявлений, я попробую вспомнить хотя бы некоторые события из моей жизни, которые ну никак не объяснить с точки зрения здравомыслия и марксистско-ленинской философии вкупе с диалектическим материализмом, и поведать о них честно, как на духу.
Это было давно. Вспоминается огромный, почти в три этажа машинный зал со стендами. На одном из них авиационный газотурбинный двигатель. Начальник сектора Олег Васильевич А., вместе со мной, молодым специалистом, рабочими и лаборантами, готовит двигатель к испытаниям. К каким – секрет. Потому что предприятие, хоть и завешена его проходная фотографиями тракторов, засекреченное, и трактора для отводу глаз, для маскировки. Могу только поделиться, что газотурбинные двигатели приспосабливали тогда к танкам. Не для того чтобы они летали над полем боя, а для пущей вездеходности и быстроты атак. Но сразу приспособить не удалось, появились загвоздки. И одна из них пыль и грязь, которых под облаками нет, а на земле хоть отбавляй. Поэтому и сыпали на испытаниях в воздухозаборники песок и пыль, чтоб было как в жизни – в полях, в пустынях, в тайге. И наблюдали, как двигатели очень быстро ломаются и выходят из строя.
И вот открывается дверь. А двери в машинном зале тяжёлые, с рукоятями-рычагами, как в бомбоубежищах. И входят два незнакомца. При виде одного из них, меня как будто током ударило. Я даже отпрянул невольно, и вышло так, что в сторону своего начальника, словно под его защиту.
– Что случилось? – удивился тот.
– Кто это? – испуганно показал я на одного из вошедших. И добавил: – Он убийца. Он убил четырёх человек.
– А ты-то откуда знаешь? – рассмеялся мой, довольно циничный начальник.
И рассказал, что вошедший – шофёр, находится под следствием. Он раздавил своим полувоенным КРАЗом «Жигулёнка» и всех четырёх ехавших в нём людей. Но дело закрывают – все погибшие были пьяны и водителя легковушки уже объявили виноватым. А свидетелей, кто и как вёл машину, нет – вечером Лужское шоссе, где произошло ДТП, пустынно.
Я представил себе эти хорошо знакомые мне места. Там, за Рождествено и до Большой Ящеры только пара заброшенных деревушек, и километров на тридцать вокруг леса, топи, болота, кулики да волки. Получалось почти как у барда: «А что ему – кругом пятьсот, и кто кого переживёт, тот и докажет, кто был прав, когда припрут».
Что мне привиделось в вошедшем, непонятно. Возможно моей догадке есть и разумные объяснения. Ну, например. На самом деле, я – это не я, а великий физиономист, сумевший прочесть в чертах шофёра неуловимые для других признаки раскаяния, горечи, страдание из-за случившегося. Но тогда вопрос: откуда этот «я – не я» взял цифру «четыре»? И почему испугался? Если заметил раскаяние. А может быть всё наоборот: «великий физиономист» увидел в лице незнакомца злобу, жестокость, ненависть к людям…
Кстати, это предположение видимо ближе к истине. Потому что начальник упомянул про упорно ползущие откуда-то слухи, что виноват всё-таки шофёр КРАЗа. Что он чуть ли не прицельно, лоб-в-лоб спихнул в кювет вихлявшую по дороге легковушку.
Я потом долго размышлял об этой загадочной истории. И в конце концов, чтобы успокоить себя, даже додумался о некоем ореоле, тёмном облаке, якобы увиденном мной над головой убийцы. Однако, цифру «четыре», представить в ореоле я тогда не смог. Как ни старался, Это я точно помню.
Поделиться этой фантастической историей я решил только потому что всё в ней при желании можно было бы проверить. Представим, что в те времена некто решил бы зафиксировать случившиеся события. Тогда документы выглядели бы так. Первый протокол: один вошёл, другой отпрянул. С подписями. Второй факт: отпрянувший произнёс про убийцу. И тоже автограф: с моих слов записано верно. Третий документ: рассказ начальника. Можно было бы оформить и четвёртое свидетельство: мои показания, что до встречи с шофёром я ничего о нём не слышал и раньше его не встречал. И даже проверить меня, хоть тогда, хоть сейчас, я не боюсь, на детекторе лжи.
Однако случаются у людей, да и со мной бывали, и другие истории, которые зафиксировать невозможно. Это то, что происходит в голове: разные видения, озарения, встречи с духами, общение с барабашками, с космосом, голоса. О некоторых из них рассказывать можно. Даже психиатрам. О других опасно. Народ считает, что особенно рискованно распространяться про голоса. Потому что все остальные байки психиатры ещё как-то терпят, но узнав о голосах, тут же отправляют человека в дурку. А там и в смирительную рубашку могут укутать, если пациенту порядки местные не понравятся, и к кровати примотать. Про уколы я уж не говорю. Это само собой. Всего истыкают. Народ считает, что даже историями про зелёных человечках с психиатрами поделиться вроде как позволительно – там у половины санитаров и врачей у самих перед глазами такие фигурки шныряют – но голоса это сразу диагноз.
Поэтому следующий мой рассказ тоже будет не о том, что роилось когда-то у меня в голове, и что никакими протоколами, свидетельскими показаниями и очными ставками зафиксировать невозможно, а о реальных событиях, которые произошли со мной, но объяснения которым с точки зрения здравомыслия, диалектического материализма и марксистско-ленинской философии нет.
Был май, вторая половина месяца. Наступало и почти наступило уже то благословенное для города время, когда солнце забирается высоко над горизонтом и сверху «льётся прямо с крыш». И заглядывает ненадолго в глубину отсыревших и продрогших дворов-колодцев, чтобы согреть заждавшиеся его лучей гранитные плиты, тумбы, булыжники мостовой, стены домов, асфальт. И они впитывают эти лучики, чтобы хранить потом воспоминание об их тепле до следующего года, когда снова неслышно и осторожно начнёт бродить по улицам и переулкам холодного северного города долгожданное, короткое лето.
В тот день в издательство привезли тираж. Книжка была хорошая, «Царствование императора Николая 11» Ольденбурга, репринт с эмигрантского белградского издания, но тяжёлая, изданная на добротных материалах. И пока не нашли жилконторщика, включившего за подачку узкий, медленный, гудящий и грохочущий железом лифт, мы, издательские, намучались, таская пачки на пятый этаж высокого старинного дома. Подождать подключения лифта не вышло, торопил шофёр. Он поставил фуру вроде бы правильно, где разрешено, но всё-таки центр, Загородный у Пяти углов, рядом с парадной остановка троллейбуса, и шофёр боялся, что гаишники, если увидят, будут привязываться и штрафовать.
Окончание разгрузки, решили отпраздновать. Слегка. Только, чтобы восстановить, как говорится, в организме водно-солевой баланс. Снарядили гонцов. Потом пиво, сухарики, соломка, рыбка, разговоры. И моя рука привычно потянулась за сигаретой. Я курил – средне, пачка в день. Сигареты болгарские: Родопи, Ту-134, Стюардесса, Опал. Они все были похожи.
И вот тут начались чудеса. Я начал подносить сигарету ко рту. И… уткнулся в стенку! В ощутимую стенку между лицом и рукой. Попробовал обойти её справа, слева, потом снизу, от подбородка, затем ото лба, сверху – везде было невидимое, прозрачное, очень крепкое, будто бы бронебойное стекло.
Я растеряно сунул сигарету обратно в пачку. Затем незаметно, чтобы не насмешить людей, опять попробовал закурить. И снова – ноль. Потом уже вечером, дома, в ванной я продолжил попытки, но результат был таким же плачевным.
И вот теперь пришло время рассказать о событии, которое предшествовало появлению этой невидимой бронебойной шторки, событии, которому я не придал вначале никакого значения, но оно само так неожиданно напомнило о себе.
Накануне я был в офисе автора другой книжки, которую готовила к изданию редакция. Общался я там с Павлом З., начальником пресс-службы фирмочки, которую возглавлял автор. Мы обсудили вопросы по тексту, дело он знал, его недавно уволили из милицейской газеты за пьянство, и мы с ним хорошо сработались и даже подружились.
Я уже собрался уходить, но Паша удержал меня:
– Зайди к Александру Яковлевичу. Он просил. Сказал, что хочет тебя немного подлечить.
Автором книги, которую мы готовили к изданию, был известный и модный в те времена экстрасенс Александр Яковлевич И..
Я недовольно сморщился:
– Не пойду. Ты же знаешь моё отношение ко всей этой вашей чертовщине. Тем более сто долларов отдавать за какую-то ерунду.
Сто долларов стоил приём у знаменитого экстрасенса.
– Он разрешил тебе заплатить сколько хочешь.
Я демонстративно отдал один доллар девочке секретарше и прошёл в кабинет.
Экстрасенс был в чёрной толстовке с золотой цепью поверх. Он очень напоминал актёра Быкова – лётчика из фильма «В бой идут одни старики». Такое же простое, задорное лицо. Правда у актёра задорности было побольше, чем у экстрасенса. Мы поговорили о книге. Затем Александр Яковлевич поводил передо мной ладонями и произнёс:
– Вам надо бросить курить. – Сделал ещё несколько пассов, и добавил: – И выпивать нежелательно после шести.
– Александр Яковлевич, – возмутился я, – как же так? Ведь после шести обычно только всё и начинается!
– Ну… – немного помялся экстрасенс. – На сердце может сказаться.
Он разговаривал со мной уважительно, всё-таки издатель его книжки, по-доброму, мягко, но в то же время как будто с каким-то недотёпой.
Когда я вышел из кабинета, мы с Пашей покурили, и я тут же забыл этот, показавшийся мне беспредметным, разговор. И вот на тебе – стенка. Наверное с неделю я ещё пробовал её одолеть, но потом смирился, решив, что это хороший повод, чтобы оставить свою вредную привычку. Правда спустя какое-то время в одной компании надо мной стали подшучивать: ты же раньше курил, раз уж выпил, попробуй хотя бы тоненькую дамскую сигаретку. Тогда мне удалось даже слегка затянуться. Но было бы лучше, если б сработала стенка. Мне стало так плохо! Я тут же побежал в туалет. И больше уже никогда не помышлял о сигаретах. Помнится, правда, что сразу после заговора, я долго ещё заходил в места, где собирались курильщики, и с наслаждением вдыхал табачный дым. Но и это прошло.
Книжка экстрасенса продавалась очень хорошо, и через пару лет он заказал переиздание. И опять через Пашу передал, что хочет мня подлечить. Тут уже я не упрямился. Новый офис был тоже в помещении Ленконцерта, но уже не на Фонтанке, а на Моховой. Здание, в отличие от прежнего, шикарного выглядело обветшалым и снаружи и внутри. Искать офис пришлось где-то на третьем этаже, по коридорам, в закутке.
Секретарши не было, и денег с меня Александр Яковлевич не взял. Он снова махал ладонями передо мной и вынуждал вспомнить, как в юности я ночевал где-то на реке и простудился. Я силился воскресить хоть что-то в голове, тем более, что дача у нас на Оредеже, и конечно же какие-то ночёвки были: и ловля раков, и романтические, наверное, тоже. Но ничего про простуду в картинах прошлого я не нашёл. Потом Александр Яковлевич предложил:
– Давайте-ка я вам немножко печень почищу. – И сделал несколько пассов.
На следующее утро я проснулся с дикой болью с правой стороны. Я буквально корчился от спазмов и готов был лезть от резей на стену. Помню, подошёл к зеркалу – лицо было белым, как лист бумаги. Я еле дотерпел до времени, когда можно было позвонить Александру Яковлевичу.
– Приезжайте, – услышал я в трубку.
Я примчался на Моховую. Несколько движений ладонями и боль утихла.
– Такое могло быть, – будто извиняясь, объяснил Александр Яковлевич. – Я забыл вас об этом предупредить.
Сейчас я думаю, что ничего-то он не забыл, просто видел меня насквозь, моё глупое и высокомерное отношение «ко всей этой бесовщине» и проучил этим сеансом чистки. Словно спросил: «Ну что, и теперь будешь считать меня шарлатаном?».
ПЛОСКОГОРЬЕ
Мистический рассказ
Ёлки Толик пилил без всякого сожаления. И более того: не только угрызения совести не заскреблись на сердце у Толика, но даже наоборот – после каждой упавшей ёлочки, словно детский, воздушный, праздничный шарик от выдоха, раздувалась в его груди гордость. Как будто от сознания верно и с чувством исполненного долга.
Ёлки были посажены три года назад в ровный ряд позади обширного, в царские времена, и по-царски ещё отмеренного дачного участка – там, где он обрывался в глубокий овраг. Посадил их приятель Толика, обожавший приезжать к нему на дачу. В отличие от хозяина, своего ровесника, и в девятнадцать лет казавшегося мальчишкой, он выглядел мужчиной – солидным и рассудительным. И посадил гость ёлки, как сам он объяснял, из-за своей любви к красоте и для укрепления края оврага. Но, как потом выяснилось – от глупости.
Потому что у края оврага всегда росла только трава. Её даже нарочно подкашивали, чтобы она кустилась гуще. Земля под травой переплеталась тысячами живых и мёртвых корней, и многолетний дёрн этот не размывало ни дождями и ливнями летом и осенью, ни талой водой весной.
Но, тронутый штыком лопаты, край оврага начал понемногу оседать, проваливаться небольшим уступом. В густой тени, под разлапистыми ёлками, трава не росла, и корешков не было. Поэтому при каждом дожде и таянье снега земля понемногу смывалась в овраг, и уступ тоже понемногу, совсем по чуть-чуть, но неуклонно оседал всё ниже и ниже. И участок стал почти на полтора метра короче.
Да и красоты, как оказалось, посадка ёлок не прибавила вовсе. Хотя выросли они и впрямь неплохими – стройными пирамидками, как на городских площадях, одни выше, другие короче. Но малахитовая, парадно-аллейная зелень их, начала заслонять другую – жемчужно-зелёную, прозрачную и привычную. Всё детство своё, приезжая летом на дачу, видел Толик, поднимающуюся из оврага, ольховую и черёмуховую шапку. Деревья тянулись вверх со дна оврага и с низу, со склона, противоположный берег был невысоким, и сквозь ажурную вязь ветвей, и причудливый узор листьев, сквозило светлое голубое небо. Справа, соседние сады тоже ниспадали вниз, под горку, к извивам бегущей по равнине реки. Слева, также чуть ниже участка, до черты дальнего леса тянулось просторное, ровное поле, служившее спортсменам-парашютистам для приземления во время прыжков. И с обратной от оврага стороны, перед домом, край этого поля, загибаясь, полого устремлялся вниз, в полукружье речной долины. И сказочной детской фантазией Толик всегда мог представить, что стоит он на маленьком плоскогорье, и облака плывут от него совсем близко.
Пилилась сочная весенняя древесина легко. Ёлки вытянулись примерно в полтора-два Толиковых роста, и чтобы завалить любую из них нужно было всего лишь подрезать ножовкой снизу её тонкий ствол, и, взявшись у верхушки, потянуть за него. Но расправлялся Толик с ёлочками как со взрослыми деревьями: вначале делал надрез ближе к оврагу, затем начинал пилить ствол чуть ниже и с другой стороны – так, чтобы зелёная красавица сама, как на лесоповале, заскрипев ломающейся древесиной, упала в нужную сторону – на участок.
Завалив всех десятерых красавиц, Толик за комли оттащил их к чёрному кострищу за яблонями, у забора, где всегда переводили в пепел всяческий сгораемый хлам. Он спешил. Приятель, вроде бы, в эти дни заявляться не собирался. Но вдруг? Ссоры Толик, по трусоватой доброте своей, не желал.
Пока огонь укреплялся заготовленным заранее сушняком, он отрубил от стволов ветки и макушки. Получилась малахитовая гора елового лапника и десять недлинных жердин. «В хозяйстве сгодятся», – по-крестьянски прикинул Толик, и, подцепляя ногтями, снял с жёрдочек гибкую молодую кору лентами. Оголившаяся древесина была светящегося изнутри янтарного цвета и липла к ладоням. Он лизнул пару раз освежающие язык сладкие стволы и отнёс их в сени дома сохнуть.
На обратном пути в дверях Толик остановился и глянул с заднего крыльца в сторону оврага. Перед ним расстилалась знакомая с детства картина: поднимающиеся из оврага белые черёмуховые купола, и за ними лазурное северное небо.
Были, правда, в этой картине и некоторые, по сравнению с детством, изменения. В дальнем правом углу участка поднимался молодой дубок, да вдоль обрыва взводом торчали высокие, с полметра, тонкие пеньки. Длинными Толик оставил их с умыслом, собираясь соврать приятелю, что погубили посаженные им ёлочки, местные жители, подбираясь к ним в тулупах и валенках, с пилами и топорами по глубокому снегу под новый год.
Толик прошёл в сад к еловым пенёчкам, смёл с них ладонью в траву остатки кремовых опилок, и, чтобы обман выглядел ещё более правдивым, вымазал свежие срезы землёй. Так легче можно было бы убедить приятеля, что его ёлками украсили местные жители свои дома в новогодние праздники, и даже предъявить в доказательство потемневшие, якобы за полгода, высокие пеньки.
Костёр уже пылал вовсю. Толик набросал на огонь лапник и через мелкую сетку иголок повалил густой белый дым. Это был не дым даже, а пар, туман. Толик постоял в нём. Он не ел глаза и запах его был запахом смолы и свежести. Источали туман множество подсыхавших от жара иголок. Они желтели, скрючивались, а затем вспыхивали, потрескивая, высоким пламенем, на которое Толик тут же снова набрасывал тяжесть зелёного лапника.
Молочная пелена, клубясь над костром не поднималась в небо, а стелилась по саду, и, обволакивая одну яблоню, затем другую, уплывала в овраг. Туман не пропадал, не рассеивался – висел в воздухе, покрывая неровным клином, сад и овраг. Слабый ветерок, сдувавший пелену от костра, начал понемногу поворачивать, и туман стал растекаться правее от яблонь, к дубку, и облако стало шире.
Толик, торопясь, всё подбрасывал лапник в огонь. А дуновение ветерка всё разворачивало растекающийся дым. И вот уже четверть горизонта закрылось облаком. Туман заструился вниз по улице, в долину реки, накрывая сады, огороды, цепляясь за ветки деревьев, за трубы, за крыши домов.
Снизу из облака послышались приглушённые женские голоса. Они зазвучали громче, и Толик увидел за забором, близ незатянутой пока пеленой калитки, два бледных женских платка. Входить в посторонний сад женщины не решились. Толик сам по дорожке приблизился к ним. Это были веснушчатая тётя Нина и подруга её, недавно умершая Зоя. Они спросили с тревогой, что горит. Толик объяснил им, что жжёт ёлки с края оврага и женщины, успокоившись, ушли.
А облако всё увеличивалось. С аэродрома за деревней поднялся пожарный, с оранжевым рыбьим брюхом, вертолёт. Надрывно жужжа, он забирался всё выше и выше, пока не превратился в бесцветную муху. Из мухи выпали несколько чёрных точек и устремились вниз. Десант, скорее всего, отрабатывал затяжной прыжок. И когда за парашютистов стало совсем уже страшно, захлопали белые простыни куполов и пожарные поплыли, покачиваясь на лямках, к земле.
Всех их сдуло в долину реки, в казавшееся ватным, наверное, сверху облако. Но один десантник вышел вскоре снизу из мари. Он открыл боковую калитку, и напрямик, прихрамывая и переступая через цветы и грядки, приблизился к костру. Пожарный был молодой, чуть старше Толика, в каске, с топориком на поясе, в брезентовых, вымазанных сажей штанах и куртке. На груди его полосатился углом десантный тельник. Лицо тоже было в саже, и глаза от дыма и огня глядели воспалённо. Он посмотрел, как Толик подкидывает лапник в костёр, и спросил, есть ли у него ведро с водой. Ведро стояло у Толика вверх дном, он на нём сидел, когда отдыхал. Толик насмешливо ткнул в него пальцем, и пожарный, зло сплюнув, поковылял, хромая, обратно через калитку в облако. Толик, опомнившись, кинулся за ним вслед, крикнул, как же они там, внизу, без кислородных масок. Но парень только махнул рукой – не твоё, мол, дело, как-нибудь.
Толик знал уже, что ветер повернёт ещё немного, так, чтобы облако закрыло полгоризонта, и костёр потухнет.
Он вытащил из кармана припасённую тонкую капроновую верёвку, взял ведро и направился в угол сада. Там он поставил ведро рядом с дубком, взобрался на него, накинул верёвку повыше, поверх расходившегося пучка сучьев, затянул вокруг ствола петлю и спрыгнул с подставки. Затем, отойдя от дерева, подёргал за тягу – ствол и верёвка пружинили. Теперь можно было подпиливать и это дерево, и дёрнув за капрон, уложить его на землю точно между кустов смородины, не поломав их.
Пилить дубок, как и ёлки, тоже надо было обязательно. Хотя причина была другая, и приятель, давно советовавший это сделать, похвалил бы его. Длинная тень от дубка на восходе, после прохладной северной ночи, уже сейчас, медленно проползала вначале по жёлтой, редкого сорта малине, затем по кустам чёрной и красной смородины, закрывая ягоды от наливавших их сахаристостью, тёплых лучей. А что будет, когда дубок вырастет? Тень его протянется до огуречного парника, до грядок с земляникой и зеленью.
С ножовкой в руке Толик встал на четвереньки, собираясь спилить деревце под самый корень. Он уже поднёс острые железные зубья к стволу, но представил, как завьётся сейчас в тонкую стружку от одного его движения молодая, серая, нежная кора, и кровь отхлынула у него от щёк и ото лба, как отливала обычно, когда он видел разрез на своей или на чужой коже. Толик отложил ножовку, вернулся с ведром к костру, и уселся на него, уставившись в дым.
Он почувствовал, что кто-то смотрит на него. Толик обернулся и с трудом разглядел, около затуманенной уже немного калитки, льняную детскую головку. Он подошёл ближе и увидел мальчика – сутуловатого, узкоплечего, в синем, выцветшем, вытянутом на локтях и коленях трикотажном костюме, с неровно подстриженной в станционной парикмахерской, чёлкой. Мальчик привычно влез рваным сандаликом на нижнюю перекладину калитки, перегнулся через острые углы штакетника, крутанул на гвозде деревянную задвижку, калитка отворилась, и он въехал на ней в сад. Малыш засмеялся, спрыгнул со своей маленькой карусели, подошёл к Толику, ухватил его потной ладошкой за два пальца и повёл из сада на улицу, в облако.
Старинная, мощёная отглаженным за сотни лет подмётками прохожих булыжником, с высокими деревьями по бокам, улица, из-за тумана выглядела похожей на ту утреннюю, августовскую, которой Толик тащился бывало в детстве, сонный, в лес за грибами. Лишь туман теперь, через много лет, лежал гуще. Да не чувствовалось росистой прохлады. И не слышалось рассветного птичьего и петушиного гомона. И никто не спал: во дворах хлопотали живущие ещё и давно уже умершие люди.
Мальчик привёл его к посеревшей от дождей и холодов избушке, где когда-то, в давние времена, снимали дачу его родители. Загорелые, они пили чай на покосившейся открытой веранде и беседовали о чём-то, смеясь. За верандой, близ сарая, хозяйка дома, седая, замшелая тётя Паша ворошила молодую зелёную траву, скошенную для своей коровы ночью, в болотце, тайком от властей. Толик крикнул ей: «Здравствуйте, тётя Паша!» Звук его голоса завис в пелене. Но тётя Паша расслышала, подняла голову и улыбнулась ему старческим, с одиноко, как у яги торчащим клыком, ртом.
В саду, в гамаке, натянутом меж двух громоздких, уходящих в седую марь дубами, лениво покачивалась женщина. Лишь по светлому, с синими цветами платью, и по огромным, как на иконах, голубым удивлённым глазам, Толик узнал её.
Мальчик провёл его мимо женщины за гамак, за дубы, за сирень, к краю давно непаханого поля. Здесь, посреди лебеды, поднимался росток с резными дубовыми листами. Толик вспомнил его. Вспомнил он и тот слепящий, солнечный и ветреный день в конце лета, когда они вдвоём пересаживали этот росток на его плоскогорье. Тогда кончались каникулы, они уезжали с дачи и боялись, что пересаженный летом, в августе, дубок завянет. Но он вырос.
ЛОГАНЧИК МИША
Повесть
1.
Младший регистратор отдела недвижимости районного городка N Дмитрий Петрович Шапкин услышал краем уха, как отворилась дверь кабинета, и вошедший направился мимо столов других сотрудников в его сторону. Он сердито поднял голову, собираясь дать отповедь посетителю, не заметившему грозное, красными буквами предупреждение «Посторонним вход запрещён», и увидел перед собой высокого, солидного мужчину лет пятидесяти, в дублёнке и ондатровой шапке.
Дмитрий Петрович по заведённым в отделе порядкам открыл было рот, чтобы грозно молвить: «Вы что не видите?», «Запрещено!», «Выйдите немедленно!» или даже «Я сейчас охрану позову!» Но его смутила шапка. С советских времён ещё привык Шапкин, что ондатровые шапки – это что-то вроде погон с золотыми звёздами, но только для гражданских. Где уж этими ушанками-погонами партийное и советское руководство награждало себя, в каком спецраспределителе, за какие заслуги перед народом, и к каким всенародным праздникам, он не ведал. Да и не положено было знать ничего лишнего в те времена простым гражданам о жизни верных ленинцев.
Ко всему прочему посетитель шапку-погоны не снял. И это тоже был верный признак принадлежности к начальству: ломать, мол, тут перед вами шапку я не собираюсь. Волнуясь, мяли в руках головные уборы только простые посетители. Правда и они, по мнению сослуживцев Шапкина, наглели с каждым годом всё больше и больше. И даже пожилые, ещё в советские времена, в плоть и в кровь, казалось бы, впитавшие трепет перед начальством. Что уж говорить о молодёжи, вообще потерявшей всякий стыд. Для них, в основном, и приготовлялась в отделе остужающая их фраза «Сейчас я охрану позову!»
В первый момент, увидев шапку, Дмитрий Петрович даже собрался было вскочить и вытянуться во фрунт, как вытягивался он перед начальником всей регистрационной службы или перед руководителем своего сектора. Но удержался. «Вообще-то, сейчас ондатру каждый может купить. Были б деньги, – мелькало в его голове. – Хотя, с другой стороны, деньги, значит, есть».
Посетитель, тем временем, сверху пристально вглядывался в лицо ёжившегося под его взглядом регистратора.
– Не узнаёшь?
«Кто?.. Неужели мэр?.. Похож… немного… Но что ему делать тут, у моего стола?.. Может из кадастра?.. Нет, я там всех знаю… Наверное, из новых прокурорских, – поднимаясь, на ставшими вдруг ватными ногах, сообразил Шапкин. – Старых-то всех поснимали».
– Н-не… не узнаю… из… вините… – промямлил он.
– Ты Шапкин Дмитрий? – продолжал допрос гость.
– Он… То есть я… Короче… тот самый… И есть…
Посетитель решительно обошёл стол и, наклонившись, приобнял регистратора так, как приобнимали в прежние времена друг друга при встрече генеральные секретари коммунистических и социалистических партий. Но лобызаться, в отличие от генсеков, не стал – ни троекратно, ни в два чмока, ни даже разок. Только похлопал Шапкина панибратски по спине, и, разорвав объятия, всё также громогласно, но уже благосклонно воскликнул:
– И теперь не узнаёшь?
– Никак нет! – по-военному почему-то отчеканил Шапкин. И если б мог, отдал бы, наверное, честь и прищёлкнул бы залихватски шпорами – такая радость прозвучала в его голосе.
У младшего регистратора бывали случаи, когда ему пытались напомнить о себе какие-то, якобы забытые им старые знакомые, или даже знакомые знакомых. Заглядывая в глаза, просили они припомнить, как гуляли они когда-то в одной компании, или загорали на курорте на соседних лежаках, или вместе трудились. Или даже гулял, загорал, или работал регистратор не с ними, а с их приятелями, и те настоятельно советовали обратиться именно к нему. Однако Шапкин в компаниях не бывал, отпуска проводил на даче, а всех, с кем когда-то трудился, помнил наперечёт. Поэтому, со всеми этими, якобы знакомыми, он был строг. К тому же он знал, что все попытки напомнить о себе, ведут к одной простой просьбе: помочь побыстрее оформить документы, так как очереди на регистрацию недвижимости в районе были дикие – люди месяцами ждали в очередях.
Однако порядки на счёт ускорения в отделе были строжайшие: за него надо было платить – много и обязательно начальнику. Для сбора этой ускоряющей процесс дани, вокруг отдела кружились, как мухи, прикормленные риелторы, взимающие дань, и вместе с документами, передававшие её, за вычетом посреднических, руководителю отдела. Бывало и так, что посетители совали деньги напрямую регистраторам. Однако и эта мзда не могла исчезнуть бесследно в их карманах, все ручейки и ручеёчки должны были впадать в одно озеро – сейф в кабинете начальника отдела. Взявший подношение, без утайки обязан был нести его в клювике шефу. А тот уже отстёгивал счастливцу его посредническую часть.
