Ход белой лошадкой
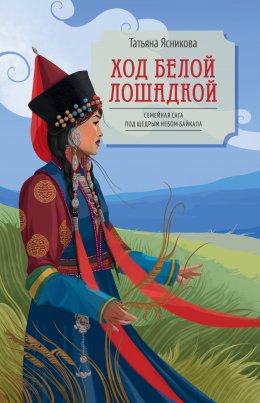
© Ясникова Т., 2025
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025
Издательство АЗБУКА®
Часть первая
Глава первая
Рождение Жимбажамсы. Путь бегства меняет направление
Жимбажамса родился тихим-тихим весенним деньком, ближе к благости летнего травянистого бескрайне-цельного покоя. Он нарушил тишину криком радости, а взрослым показалось – страдания. Потому что взрослые ощущали потерянность и сидели на едва выступавшем степном взгорке; мужчины – в седлах, их пегие кони, два коня (мужчин тоже было двое) отдыхали от вьюков, прежде незнакомые с вьюками; кони клонили голову к сочной цветущей траве и косили глаза в сторону тесной группы сидящих; а женщины сидели на сером войлочном ковре с орнаментом алтан-хээ, чем-то напоминавшим греческий меандр, но для отдыхающих означавшим идею вечного движения, в котором они теперь пребывали; не то вынужденно пребывали, не то как должно. Этого они и не могли понять и больше были потеряны оттого, что не могли понять, а не оттого, что оказались гонимы. Хотя это было понять трудней всего. Как можно быть гонимыми на родной земле? В родной бескрайности? Куда можно гнать людей, когда бескрайность повсюду, круглая, как уютная юрта, только неохватная глазом?
Старуха Цыпелма приняла роды у невестки Лэбримы, потому что семья была одна, бежала из улуса одна, и повитухи не было. Мальчика завернули в кусок далембы, оставшейся от ношеного-переношеного бабушкиного тэрлига, так что от одеяния осталось одно понятие – тэрлиг, летняя одежда, а чем она была, и не понять; в общем, кусок китайской далембы, который по ветхости не без иронии можно было отнести к временам хунну.
Первыми ребенка увидели, конечно, девушки, прыснули в ладошки при объяснении Цыпелмы: «Мальчик». У него еще не было имени. Но вторым его увидел сердитый дедушка Чагдар, Чагдар Булатов, он всегда был сердит и даже грозен, словно отвечая своему имени «с ваджрой в руке», и даже не он бы из мужчин увидел первым ребенка, но отца среди беглецов не было; и вот дедушка Чагдар, тяжело блеснув щелками глаз, словно двумя молниями, выдохнул:
– Жимбажамса.
Цыпелма была его женой, она давно сподобилась перечить мужу, видимо, переняв часть его сложного нрава, и смело, но не нарушая тишины и покоя, спросила:
– Отчего? Отчего Жимбажамса? Где ты видишь океан щедрости посреди бескрайности несчастий?
Дедушка знал по опыту, что старухе лучше ответить, и как можно скорее, чтобы хуже не было. И заметив, что внук Зоригто-смельчак попятился подальше, потихоньку съехав с седла на траву, пояснил:
– Посредине океана несчастий не годится ребенка называть Нохоем, как мы хотели назвать его еще вчера. Ни к чему подобные глупые имена. Рождение мальчика в чистой степи есть щедрость тенгриев. И пусть он ответит им своей щедростью и станет называться Жимбажамса.
Цыпелма, «умножающая жизнь», согласилась. Сама она родила восемь дочерей и восемь сыновей и понимала, что имя что-нибудь да значит. Хотя где они, сыновья? Где дочери? Здесь их две, и обе без мужей, а сына ни одного. На дворе стоял тысяча девятьсот двадцать третий год, двое сыновей ранее ушли с белоказаками и не вернулись. А другие сыновья – не живы точно. Впрочем, не время сейчас говорить об этом.
Зоригто, откинув камни у приметной небольшой горушки со звенящим возле нее младенчески чистым и веселым аршаном-ключом, с помощью знатного и любимого ножа-хутага, злой, что использует его не по назначению, взрезал в песке и гальке углубление, положил в него серебряный рубль и отошел, отвернувшись от неприятных ощущений. Цыпелма положила в углубление послед новорожденного, собранный вместе с кровянистыми сгустками на большом листе лопуха, и присыпала песком и галькой. Старик Чагдар тем временем вырезал на достаточно большом камне свой знак дорчже-ваджры, принес камень, положил на послед знаком вниз и пометил на своей карте местности это место.
Раздался резкий топот копыт. В мыслях о совершаемом и о новорожденном родичи не увидели, как Зоригто вскочил на коня. Он стремительно кинул его куда-то в степь, не спросившись у деда. Чагдар только подавил вздох. Из восьмерых сыновей и шестерых внуков все последнее время рядом был один Зоригтошка, приходилось терпеть его выходки.
Цыпелма понесла омытого в аршане ребенка к матери-роженице, оправлявшейся за ширмой, – впрочем, не ширмой: это был войлочный ковер бесконечного движения алтан-хээ, на котором обычно сидели женщины. Сейчас они все стояли и глядели вслед удалявшемуся Зоригтошке, а сестры Лэбримы Гыма и Номинтуя, сами вызвавшиеся подержать войлок, не могли этого видеть, они смотрели на северо-запад, на клонящееся за Байкал солнце, и были рады только, что Лэбрима разродилась при свете дня и что ночь обещает быть сухой и теплой. В этом все находили благоприятствование, исходящее именно от новорожденного.
Наконец Цыпелма смогла передать его матери, привстав на цыпочки. Лэбрима, Гыма и Номинтуя как на подбор были сильные и рослые.
– Жимбажамса, – сказала старуха невестке.
– Жимбажамса, – повторила невестка за ней еле слышно.
Но и сестры услышали, как наречен младенец, и передали его имя дальше, а там застыли в ожидании доброй вести абга эгэшууд, две тети младенца. В благословенной степи было тихо, шелест звука имени пролетел по ней, словно ее собственное удивление и ее вздох.
Цыпелма вернулась к мужу. Что-то тревожило ее больше, чем океан тревог, с которым они теперь жили.
– Минии нухэр, – вкрадчиво и необычно произнес Чагдар, обращаясь к жене, – друг мой, а кто же отец ребенка? Я так долго не спрашивал об этом, загадав, что, если будет мальчик, не спрошу, ну все же кто?
– Намжил.
Старик нащупал левой рукой заднюю луку седла, словно став вдруг слепцом, и приподнялся.
– Намжил? Какой Намжил?
– Ну отец ребенка!
– Я понимаю, что отец. Какой Намжил?
– Ну отец, – снова повторила Цыпелма, словно лишившаяся дара понимания. – Родной отец.
– Я понимаю, что родной, – медленно произнес Чагдар, словно боясь спугнуть догадку и поэтому не раздражаясь. – Наш, что ли, Намжил? Мой сын Намжил? Наш сын Намжил?
Старуха, довольная, кивнула. Она потеряла дар речи.
– Ну что ты стоишь столбом? Отчего я не знаю? Намжил жив?
Старуха отпила родниковой воды из стоявшего рядом с седлом берестяного сосуда.
– Жив был девять месяцев назад. Он едва показался мне. Я не решалась тебе сказать, что он не предстал пред тобою, а нашел свою Лэбриму. Как ты видишь, результат от этого оказался гораздо большим, чем если бы он повидал тебя. Родился Жимбажамса.
Старик и не знал, что на это сказать.
– Куда же он ушел? – наконец спросил он жену, взяв из ее рук сосуд и испив тоже.
– Я не успела спросить. Лэбрима тоже не успела спросить. И откуда он, она не спросила. Я тоже не спросила. Не успела спросить.
– Так не дух ли это был сына? – словно осенило Чагдара.
– Лэбрима вряд ли скажет, что дух. И мне духом не показался. Конь его вороной был пегим от пыли. И халат его и малгай были в пыли. И он не очистил ни коня, ни халата с малгаем, так и умчался.
– В каком направлении?
– Он поскакал вдоль юрт… Я не помню… Я не думала… Мне было не до того…
Старик опустился на седло. Старуха догадалась, что он погружается в молчание. Она отошла словно бы назад, туда, откуда они пришли.
– Куда же направилась уважаемая Цыпелма? – с тревогой спросила глядевшая в степь Номинтуя; еще в начале их похода баабай велел ей следить за степью и горизонтом.
– Наверное, она беспокоится, где же наша Аяна, – отозвалась нежная Энхэрэл, – и пошла ее встретить.
Энхэрэл была одна из дочерей Чагдара и Цыпелмы. Зоригтошка и Аяна – ее самые младшие дети, теперь единственные. Она очень беспокоилась об Аяне, а теперь и внезапном исчезновении Зоригтошки.
– Мы остановились здесь, чтобы накопить силы для дальнейшего пути, – проговорила старшая сестра Энхэрэл, Бальжима. – А мать растрачивает их. Надо ее вернуть! Мне кажется, что отец мог сказать ей что-нибудь резкое, и она удаляется, не думая о последствиях.
– Прошу тебя, Гыма, верни уважаемую Цыпелму, – попросила сестру Номинтуя. – Я не могу покинуть наш стан, баабай прогневается на меня!
Гыма поднялась с войлочного ковра быстрей испуганной оленихи, словно плетения алтан-хээ произвели над ней свое магическое действие, и помчалась по степному неровному бездорожью, как была, босая, не надев на ноги душные овчинные гуталы. Вскоре она увидела, что Цыпелма остановилась, и остановилась тоже, чтобы разглядеть даль. А там она увидела пыль, и отару, и Аяну на белой чистопородной кобылице.
Цыпелма, ушедшая в степь, чтобы справиться со своими чувствами и спеть очень непростую песню радости, тревоги и тоски одновременно, и успевшая только пропеть приветствие щедрому яркому разнотравью мая, вдруг увидела пыль и точку на горизонте, и смолкла, потому что это приближалась Аяна на Сагаалшан-кобылице, ведя их крошечную отару.
Всего этого не видел старый Чагдар. Он раскачивался на лежащем на земле седле, словно на коне, и негромко пел, как ему казалось, позорную песню:
- Где же вы, мои бесчисленные табуны,
- Мои пестрые тучные стада,
- Мои невероятно пышные отары,
- Мои алмазноструйные Хэрен и Аршан?!
- Все я потерял, изгнанник в родной степи!
- Не спрошу я больше, где вы,
- Я спрашиваю в последний раз!
Тут выкатилась из его прохудившегося старого глаза слезинка, а он утер ее пыльным рукавом, заморгав от попавшей в глаз пыли, и посмотрел на женщин. Впрочем, они сидели в таком отдалении, что и слышать его песни не могли, не то что заметить слезу.
Из Тункинской долины спешили они все в сторону Монд, желая раствориться в монгольских степях, но и сомневаясь в такой возможности. Чагдару было известно, что там правит Дамдин Сухэ Батор, смелый потомок разбойников-сайнэров, но он не знал, что вечное движение за три месяца до рождения Жимбажамсы унесло дыхание великого сайнэра в страну временного покоя, и в немирной Монголии новые волнения.
Чагдар поднялся на ноги, увидев, что женщины поднялись все, кроме забывшейся и отдыхающей от родов Лэбримы, лежащей с Жимбажамсой в их кольце, поднялись и смотрят туда, откуда они все пришли, примяв гуталами травяное бездорожье. Тогда и он посмотрел из-под руки туда же и увидел высоко на Сагаалшан-кобылице внучку Аяну, отару, Цыпелму с Гымой.
«Пел я глупую песню, – укорял Чагдар сам себя, – а надо было петь бесконечное “Ом”, облегчая движение материи по хаосу противоречивых духов! Но, впрочем, Вечное Небо не дало Аяне сбиться с пути. А может быть, это чутье Сагаалшан-кобылицы вело ее… И каким же я путаником стал! То сам дурак, то Небо славлю, то кобылицу. А надо отключить все мысли и гудеть одному, как тысяче лам, “Оммм”». Он натянул гуталы, сделал несколько шагов вперед и остановился, как подобало лицу, исполненному знатностью происхождения и достоинствами древнего рода.
Энхэрэл поспешила встречать дочь Аяну, Гыма поспешила к сестре Номинтуе, а Бальжима, когда-то важная и великолепная, осталась с роженицей и ее дитем и смогла прилечь на ковер, прежде не открыв никому своей усталости и права старшей прогнать всех со своего ковра – единственного, что осталось от ее беловойлочной юрты.
Женщины встретили Аяну, окружили отару, подзывая овец: «Тээгэ, тээгэ» – Энхэрэл взяла под уздцы Сагаалшан-кобылицу, коснувшись босой смуглой ступни дочери. Ехала Аяна без седла.
– Мы уже потеряли тебя, Аяна-басаган, – прошептала Энхэрэл смущенно, не умея упрекнуть и сказать жестко. – Так сильно потеряли нашу Аяну-басаган!
Радостной толпой пошли они, женщины и животные, к стоявшему грозно старцу Чагдару, опустившему потрепанный малгай по самые глаза. От синих гор прилетел белый орел и высоко парил, делая медленные круги, говорящие о штиле воздушного океана.
– Где ж ты была, зээ-басаган? – строго спросил Чагдар, но больше для острастки.
Аяна же в ответ промолчала.
Упрекнуть ее было не за что, и девочка знала это. Ей было доверено важное, второе важное после того, как ее родному брату Зоригтошке, ставшему не слишком давно единственным, была поручена охрана семьи. Аяне была доверена жеребая элитная кобыла, которую старик Чагдар не мог не увести в бегство, дорожа ею. Но кого же можно было посадить на нее, если нельзя было никого сажать? Только легкую и проворную Аяну! Старик раньше не раз замечал, как она с подругой Бадармой и другими девочками-подростками вскакивает на молодых неоседланных коней и носится, таясь, за рекой Хэрэн и порослью ив. И это все наделала революция! Молодежь стала непокорна. А с другой стороны, может быть, однажды Аяна смогла бы спастись бегством на коне, если бы на них напали красные, белые, бандиты или просто чужаки. И Чагдар помалкивал, а когда понадобилось им уйти, он и не нашел никого, кроме Аяны, чтобы посадить на Сагаалшан-кобылицу. И кто бы тогда погнал их крошечную отару, толику от того, что они оставили в улусе людям?
Отара медленно шла, щипая траву, и еще медленнее шла кобылица, дохаживавшая свой одиннадцатимесячный срок. Аяна почти и не садилась на нее, а ступала рядом босыми ногами, которые кололи попадавшиеся проростки чертополоха и острые камешки. Шла и косилась на вымя Сагаалшан-кобылицы. Дед Чагдар сказал ей, что если оно увеличится, то, значит, кобыле скоро жеребиться, и тогда на нее нельзя забираться, а пока лучше ехать верхом, так быстрее, чтобы не остаться один на один с кобыльим выжеребом. Аяна старалась как могла и временами погоняла овец, не давая им кормиться и рискуя, что они выйдут из повиновения и разбегутся. Однако все шло порядком. Баабай выбрал вожаком отобранных им овец такого красавца барана, что тот забывал поесть, лишь бы овцы видели его впереди отары.
– Агууехэ-хуса, – насмехалась Аяна над гордым животным, придумав ему имя, – ты так красив и тучен, поспешай поскорее, порастряси свои жирные туки! Овечки влюбились в тебя!
В этом пути смешил ее еще и Шаала-пес. Он прибился к семье, когда ночью при свете звезд они тронулись в путь, потому что был бездомным. Он спал себе в ложбинке, но, почуяв шестым чувством запах знатного рода, присоединился к шествию. Когда Аяна отстала от всех со своим неповоротливым хозяйством, выяснилось, что Шаала остался с ней. Как может он стережет отару – в общем, выслуживается, желая получить хоть сколько-нибудь сушеного творога или мяса.
Однако при Аяне уже была Булгаша-соболятница, собака ее погибшего на Первой мировой отца, охотника Эрдэни. Булгаше Зоригтошка приказал охранять сестру. Так что девочка не скучала. Булгаша скрадывала и давила степных сусликов, Шаала носился, сердя ведущего овец Агууехэ-хусу, овцы бебекали, а гордая Сагаалшан-кобылица послушно и не спеша, изредка пощипывая травку, шла позади этого разнобоя. Жеребые кобылицы отличаются тем, что охраняют означенную ими самими территорию. Однако Сокровище семьи Сагаалшан терялась в этом просторе, и тревожно поводила ушами, и ложилась в тень от деревьев, потому что не могла понять, где же границы ее неназванной республики.
Что же случилось, что семья стронулась с места, а дед Чагдар шел абы конно, на худом коньке, надвинув малгай по самые глаза, чтобы его не узнали?
Конечно же, сначала в державном Петербурге, где стоял великий дацан Гунзэчойнэй, источник святого учения Всесострадающего, случилась революция, и ламы сообщали недоброе.
В тысяча девятьсот восемнадцатом и девятнадцатом годах среди бурят, знатных и не очень, начались междоусобные стычки, вспоминались старые обиды, порой не от века этого, а неизвестно от какого, из предания, а может быть, и выдуманные своими или же подстрекателями. И в результате этих стычек, а еще и заполыхавшей в Иркутске войны русских с французами, каким-то Жаненом, каким-то Гайдой-чехом, пришли к власти красные в красных штанах. Тут и старший сын Чагдара, могучий хонгодор Арсалан, поссорился с сыном главы рода сойотов Тубшином, поссорился не нарочно, а на охоте в горах, застрелив того белого барса, которого несколько дней уже преследовал Тубшин. У тела барса они подрались, и Арсалан в горячке всадил боевой нож в печень Тубшина.
Арсалан, поостыв, извинялся перед семьей Тубшина, и платил им большие деньги, и давал много овец, но это не помогло. Сын Тубшина призвал на помощь из-за гор родственных ему тувинцев, и они вырезали всю семью Арсалана, застрелили его самого, и его шурина, мужа Бальжимы-великолепной, и всех их детей и пригрозили добраться до старика Чагдара, который в семье был уже почти что святой. Что им, чужим, чужой род, когда кругом хозяйничает революция, правило «отнимай и убивай».
Вот и бежал Чагдар с остатками своей семьи, бежал через землю же сойотскую, прикинувшись бедняком, которым и стал теперь на самом деле, хотя и нес в своей голове, как в огнеупорном глиняном горшке, огонь всезнания и знатности.
Чагдар был купец и воин, он знал язык русских, и монголов, и китайцев, и родную премудрость, но сейчас он, встретив Аяну и кобылицу, которой нужен был покой, чтобы разродиться благородным жеребенком, не мог решить, что делать дальше. А все, кто был с ним, знали это. Они знали, что их дело не перечить баабаю, но выстилать путь перед ним шелковой добродетелью. И тогда случится важное: Великое Небо благословит старика.
Он собирался произнести, что надо возжечь костер, подоить овец, сварить зеленого чая с молоком и салом, но тут прискакал Зоригтошка. Он оглядел всех, не удивившись прибывшим сестре Аяне, Сагаалшан-кобылице, Агууехэ-хусе и овечкам, потому что принес мысль более чем удивительную.
– Простите меня, дедушка Чагдар, – не без важности произнес он. – Вы слишком были заняты мальцом, ничем не показавшим себя, кроме мышиного писка, поэтому я счел, что и спрашивать вас в вашем благородном затмении нечего. Я нашел благоприятный ночлег. Небо подсказало мне кинуться в степь, я скакал бессмысленно, но предо мной предстала брошенная русская деревня с богатыми избами. Все же мы не разбойники, чтобы ночевать в открытой степи, где гуляют бесприютные духи. Так следуйте за мной!
– Так! – произнес Чагдар тоном, не предвещающим ничего хорошего.
Но внук его был его внук, а не безродный бродяга. Он и бровью не повел перед лицом гнева баабая. А конь под Зоригтошкой затанцевал, словно склочный малый, почуявший увлекательную драчку.
– Так! – повторил Чагдар, «имеющий ваджру в руке», и произнес: – ОМ БЕНЗА САТО САМАЯ МАНУПАЛАЯ БЕНЗА САТО ТЕНОПА ТИТА ДРИ ДО МЕ БАВА СУТО КАЁ МЕ БАВА СУПО КАЁ МЕ БАВА АНУ РАКТО МЕ БАВА САРВА СИДДХИ МЕ ТРАЯЦА САРВА КАРМА СУЦА МЕ ЦИТАМ ШРИ Я КУРУ ХУМ ХАХА ХАХА ХО БАГАВЭН САРВА ТАТХАГАТА БЕНЗА МА МЕ МЮНЦА БЕНЗА БАВА МАХА САМАЯ САТО А.
Зоригто спешился и стал похож на ягненка. А Чагдар сел на земле на седло своего захудалого конька и повторил великую мантру Ваджрасатвы сто восемь раз. Все женщины в почтительном и действительном страхе отошли на приличное расстояние к войлочному ковру Бальжимы, а с ними кобылица, и овечки, и Булгаша-соболятница. Агууехэ-хуса остановился на полпути, а Шаала-пес лег на землю у ног Чагдара и пробил хвостом ну точно не меньше ста восьми раз.
После того грозный Чагдар подозвал всех к себе взмахом кисти правой руки и, когда женщины, кобыла, овцы и соболятница приблизились к нему, произнес:
– Я признаю себя союзным внуку своему Зоригто. Я соединяю свое былое могущество с его сегодняшней глупостью. Я полагаю, что между этими вещами есть знак равенства. Что ж, не будем мы сейчас варить чай и вкушать дары земли и неба, а отправимся в пустую русскую деревню, что нашел Зоригто. Ибо древнейшее учение Дао дэ цзин называет пустоту величайшим сокровищем вселенной. Может быть, после пустого и чуждого нам ночлега обретем мы нужную нам дорогу. Слышал я от русских поговорку: «Утро вечера мудренее».
Все вместе они отправились в путь неспешно, с тяжелыми раздумьями о своей печальной участи. Они продвигались с такой горечью во всем теле, что глупые овечки и кобылица с Аяной уже не отставали. Потому что показалось женщинам, что ноша их вдвое тяжелее, чем была утром, коням показалась чрезвычайно тяжелой их поклажа, так что Чагдару и Зоригто пришлось спешиться и идти с ними рядом; Лэбриме показалось, что Жимбажамса стал значительно тяжелее, чем был во чреве. Сосцы Сагаалшан-кобылицы набухли, предвещая приближающийся ожереб. Шаала-пес вообще остался лежать на стоянке, словно сто восемь взмахов хвостом истощили его силы. Один только глупый Агууехэ-хуса продолжал нести свои жирные туки так споро, что возглавил путь уставших.
За час они дошли до огородов русской деревни, заросших травой.
– Давай, дедушка, нагаса аба, запустим овец в ближайший огород, тогда ночью не надо будет караулить их, – предложил Зоригтошка. – Я обшарил всю деревню, ручаюсь, что людей нет.
– Запускайте, – согласился грозный Чагдар.
Шествие остановилось. Зоригто добрел до одного из огородов, увязая в пашне прошлого года с самостийно взошедшим овсом, и нашел калитку, и вождь овечек сам завел в нее отару, словно читал по книге судеб. Оставалось только напоить животных, набрав воды из колодца с возвышающимся над ним стволом журавля.
Через огород и двор Зоригто вывел родичей на широкую улицу. Она была одна, староверческих изб в десятка полтора, стоявших в линию, с плотными заставами заплотов. Грозный Чагдар интуитивно направился к самому богатому, украшенному пропильной резьбой дому. Окна его оказались выбиты, из них сквозило нежилым жутковатым холодком.
– Должно быть, здесь жил русский купец, – объяснил Чагдар всем и стянул малгай с головы, невольно следуя русскому обычаю. – Я, может, и знал его, я многих купцов русских знал и вел с ними мену мехами и лошадьми. Здесь мы не остановимся. Мы теперь бедные люди, мы заночуем в бедном доме.
Так они дошли до конца улицы, дальше которой вилась дорога, видимо, на тракт, и оказались во дворе старенькой избенки, у которой окна оказались целы.
– Надо бы нам под прикрытием стен дождаться ожереба Сагаалшан-кобылицы. Есть здесь и достаток воды, – произнесла Цыпелма.
Гыма и Номинтуя несли на металлическом пруте на плечах тяжелый казан. Они проворно опустили его и стали снимать свои заплечные мешки, а Бальжима и Энхэрэл свои. Никому не хотелось говорить. Баабай замахал руками:
– Костер разведем в огороде, несем казан дальше. Искры могут запалить постройки.
Гыма и Номинтуя снова подняли казан, снова пошли, покорно клоня девичьи неприкрытые головы с богатыми тяжелыми косами черных волос.
– Куда же делись русские люди? – уже за вечерним чаем, держа в изящных пальцах пиалу тонкого фарфора, украшенную угалзой, спросила отца Бальжима.
Чагдар отпил из своей пиалы и ответил:
– Я думаю, их угнали. Они жили хорошо, имели много зерна, скота, коней. А теперь таких преследуют. Всё отнимают у них, а самих угоняют неведомо куда. Или просто расстреливают. Говорили мне знающие люди, что в тамбовских землях было большое народное восстание против власти красных, оно совсем недавно было подавлено чрезвычайно жестоко и кроваво, и многие, получившие там опыт расправы над народом, находят себе применение повсеместно.
– Я не могу понять этого, – прикрыв от ужаса глаза, тихо произнесла Бальжима.
– Это не для людского понимания, – сурово откликнулся Чагдар. – Но я кое-что уразумел. Всё это делают городские политические люди. Теперь превыше всех ценностей фабрики и заводы. Рабочих надо кормить. Для этого всё отнимают у деревенских.
– Зачем же фабрики и заводы? И так хватает всего! А столько людей убили, что и не надо много фабрик и заводов! Объясни, отец! – не могла остановиться Бальжима.
– Я же сказал уже… это не для людского понимания. В наше время надо много производить оружия. Большие страны воюют друг с другом, это требует вооружений, аэропланов, танков, обмундирования, не счесть всего, – терпеливо пояснил Чагдар больше для Зоригтошки, чем для женщин. – Кстати, надо завтра обыскать избы и постройки. Мы совершенно не вооружены. Война и беда отняли у нас все оружие, что было. Мы доверили лук со стрелами Аяне, потому что он девичий и потому что у нее одной нет кинжала. Вооружиться всем не мешает.
– С кем же сможет сразиться наше великое войско? – задала вопрос нежная Энхэрэл.
– Здесь могут бродить одиночные бандиты и целые ватаги. Пусть каждая женщина имеет ночью какой-нибудь металл, чтобы громко застучать и поднять тревогу и пожертвовать собой, если надо. Вы не знаете, что бывает в наши дни, а я очень наслышан. Молитесь перед сном усерднее. Гыма и Номинтуя, отправляйтесь спать к отаре. Я же заночую возле кобылицы. Золотом платил за нее, за наше драгоценное Сокровище, как же теперь сохранить его?!!
Чагдар проснулся рано, едва только под навес, где он устроился на ночь, вкрадчиво заглянуло солнце. И не обнаружил поблизости Зоригтошки, нашедшего ночлег рядом. И немного рассердился. Рассердился потому, что не он, Чагдар, первый проснулся, и на то, что Зоригтошка мог встать так рано. Не иначе как с вечера задумал какую-нибудь проделку. И что можно делать в такую рань? Обыскивать избы и постройки в поисках оружия? Так в них еще темно. Старику вспомнилось, как Зоригто мальчиком стащил у него саблю, вот так же, поутру, и сбежал с ней на луг, а там был медведь, кормившийся земляникой, и одно только то, что в тот год на землянику был невиданный урожай, спасло ребенка. Зверь-сластолюбец слишком увлекся пиршеством. Глянув тогда на Зоригто черными своими глазками, он зачавкал, как поросенок, и даже жалобно простонал, словно ему помешала муха. Впрочем, это рассказал сам Зоригто, а он мог все выдумать. Или только часть. Ведь он дрожал, рассказывая деду о встрече с мохнатым. Пришлось отдать мальчику саблю, которую он вернул, и пойти с ним на луг, и стоять, и смотреть, как тот геройски рубит высокий иван-чай, словно свой недавний страх. Смотреть и жалеть ребенка, отец которого, снайпер Эрдэни, пал смертью храбрых на Первой мировой в тысяча девятьсот шестнадцатом году. Чагдару столько всего пришлось пережить, с того года начиная, что он не мог не измениться нравом. Он стал мягче к своим и беспощадней к недругам и проводил часы, изучая учение Цзонхавы – Ламрим Ченмо, «Большое руководство по этапам пути к пробуждению». Сейчас его рассердило еще и то, что в который раз он начинает утро не с чтения мантр, а с беспокойства о внуке.
Чагдар поднялся, и вышел из-под навеса, и увидел черного Шаала-нохоя, забившего приветливо хвостом, и едва удержался, чтобы не пнуть его. «Надо убить такого негодного пса, – решил он. – Он бросает нас, когда захочет. И может испортить Булгашу-соболятницу, память об Эрдэни, воспитавшем ее для охоты». Но в следующую минуту он понял, что некому поручить убийство собаки: в улусе животных забивал Хасан-татарин. И снова рассердился, и, взвинченный, испуская из глаз молнии, пошел из ворот искать Зоригто, не заходя за коньком, оставленным возле отары.
Старик прошел пол-улицы и тогда только осознал, что не на коне отправился на поиски и что Зоригтошка, возможно, ускакал. Он круто повернул назад, взбив дорожную пыль пятками гутал, и направился к огороду, где под навесом мирно дремала отара. Конек его тихонечко заржал, радуясь, что видит хозяина, а вслед за этим тихонечко откликнулся конек Зоригтошки. Старик облегченно вздохнул, снисходительно махнул им рукой и пошел обратно. «И чего это я взбесился? Может, зээ-хубуун отлучился до ветру? Нет-нет, это не так! Даже для приличного поноса это слишком долго!» Чагдар хмыкнул, поняв, что унизил внука, и пошел менее спешно, успокоенный порядком приземленных мыслей. Вот для чего, оказывается, нужны приземленные мысли! Они приносят покой! Вот отчего простаки так смиренны! Ими владеют приземленные мысли.
Чагдар шел, повесив голову, отдавшись жалости к живым, пока эти живые совсем не видят его, и тут узрел следы гутал внука, так отличающиеся от его следов. У Зоригтошки ступня по-юношески узкая, а ступает он таким широким шагом, что можно сравнить со скоком коня. «Может быть, зээ-хубуун отправился на поиски реки? Русские ставят свои деревни, найдя сперва реку». Однако следы внука привели Чагдара на узкую тропинку, вившуюся по небольшому лесистому всхолмию, а наверху был погост. Старик нахмурился.
Его удивлению не было предела. Зоригтошку он увидел скоро. Его драгоценный зээ-хубуун копал могилу! Старик многое мог ожидать от него, но такое ему бы не привиделось и в кошмарном сне. А такой сон он однажды видел, и не слишком давно.
– Эй! Эй! – замахал Чагдар руками. – Зориг! Зоригто! Остановись!
Юноша подошел к деду, отбросив в сторону лопату с обломком черенка, и склонил голову.
– Ну? – спросил Чагдар.
– Нагаса-аба, выслушайте меня! Вчера я натолкнулся на то, что сразу не заметил в деревне, когда нашел ее. Пока женщины разбирали поклажу, я решил порыскать в поисках оружия. Я подумал, что его нужно искать в самом богатом, как ты сказал, купеческом доме. И обнаружил тело застреленного русского юноши. Судя по всему, оно пролежало с зимы, было присыпано пылью. Рука юноши была откинута, а пальцы сжаты так, словно в них был револьвер и кто-то забрал его. Я не стал никому рассказывать эту страшную сказку вечером и решил утром похоронить юношу по русскому обычаю, чтобы женщины не увидели смерть. Я проснулся и нашел этот погост, а на нем недокопанную могильную яму, и решил чуть удлинить ее.
– Ты меня удивляешь, Зоригто. Пусть я забрал часть твоей глупости, но, видимо, для собственных страданий. С одной стороны, правда есть в твоих словах. Этот парень, верно, купеческий сын, и он сражался, защищаясь. Но мы не погребаем иноверцев, а держать в руках лопату – позор для нашего рода, будь в нем хоть один отщепенец.
– Что делать, нагаса-аба, мы должны дождаться ожереба Сагаалшан-кобылицы здесь, не навредит ли в этот момент чужой непогребенный дух выходящему из материнского лона жеребенку?
– Это не исключено, – невесело откликнулся старик. – Что делать, Зориг, веди меня к раскопу, буду смотреть его.
Юноша подвел деда к могиле. Она была когда-то раскопана вглубь на метр с небольшим, а по длине темнела сырой землей, что было результатом свежих усилий. Чагдар долго стоял молча, а Зоригто ждал, когда он заговорит.
– Сними свой драный халат, зээ-хубуун, я дам тебе другой. И отдай его мне. На нем я приволоку тело погибшего и похороню его. Тебе, чистому юноше, не стоит заниматься таким делом. К тому же я видел, как хоронят русские. Идем, показывай мне тело.
Они быстро пошли с погоста, словно стремясь подальше от позорного осквернения земли рытьем могилы, а еще и торопясь, пока не пробудилась женская половина. Зоригто провел деда задами деревни, а потом нашел нужный огород, и сквозь него они вышли на скотный двор. Там было много построек, а на земле возле конских стойл темнел труп, присыпанный наносами песка, сухим листом, свежей цветочной пыльцой степи, что сдержало его разложение. Мухи тонко пищали над ним.
– Уходи! – с глухим рыком произнес Чагдар. – Убирайся! И присмотри за женщинами, чтобы они не видели моих действий.
– Вот! – Зоригто протянул деду Евангелие в кожаном переплете. – В избе я нашел русскую священную книгу. Положи ее на грудь юноши. На ней вытиснен крест, русские как раз погребают своих под крестами.
Чагдар протянул руку за книгой, взял ее, судя по всему, читанную часто, и сунул в большой карман своего нищенского, с чужого плеча, халата. Зоригто же пошел на речку, чтобы омыться. Он нашел ее еще вчера, но вчера она не понадобилась, в заброшенных колодцах вода была слаще родниковой.
К своим он вышел на дым костра и веселые восклицания женщин. Кажется, их восторг по поводу пачкающего пеленки сосунка Жимбажамсы не имел предела. Где ж найти будет скакуна для такого молодца? Зоригто был уверен, что кобылица принесет отличного белого унагана для него самого.
– Зоригтошка, ты что такой мокрый? – удивилась брату Аяна. – Неужели упал с коня в воду океана щедрости?
В другой раз Зоригто обязательно бы потрепал шуструю сестренку за такую шутку. Но он растерянно улыбнулся, представляя, как в эту минуту нелегко деду Чагдару. И эта растерянность, замеченная женщинами, притушила их смех.
– Зоригтошка, сушись у костра! Похоже, ты еще и продрог! Что случилось? А где дедушка? Спит? – наперебой спрашивали они юношу.
Зоригто мог бы промолчать, надуться, и женщины бы смолкли. Но у него был веселый нрав острого на язык воина-разведчика, и он сказал, простирая ладони над дымом:
– Вы знаете, уважаемые, что такое подводная лодка?
– Нет! – откликнулись удивленные женщины. – А разве такое бывает?!
– Еще как! Есть такая лодка! Называется «Нерпа». Она покорила степи Бурят-Монголии. А степи Бурят-Монголии – от моря до моря. Везде, где степи, там мы.
– И в Африке?! – спросила Аяна.
– В Африке саванна, наши до нее еще не добрались. Если они будут подружнее, то, конечно, доберутся. Их поход возглавит Жимбажамса.
Зоригто хотелось видеть младенца где-нибудь в очень далеких странствиях. Его поведение на настоящий момент очень недостойно!
– Зоригто-хубуун, – сказала ему мать Энхэрэл, – ты бы обошел брошенные избы, и, может быть, тебе бы попалась люлька для нашего Жимбажамсы!
– Я поищу, мама, но знаете ли вы, что колыбели русских чрезвычайно тяжелые, они крепятся к стальному крюку в потолке. Где их удерживает жердь, а где такая толстая веревка, что ее можно сравнить с телом кобры.
– Неужели? – удивилась Лэбрима.
За разговором о невероятном женщины забыли, что Зоригтошка пришел в подмокшей одежде. Они уже сварили зеленый чай, добавив в него надоенного Гымой овечьего молока и крошечную щепотку соли. Но у них не было и ложки сливочного масла, чтобы чай заправить! Припасы, которые они взяли с собой, были невелики. Еще не закончились сыр из сушеного творога – хуруул и шаньги, настряпанные в дорогу старой Долгор, матерью бэри Лэбримы. Если же они вскорости не достигнут Монголии, а, верней всего, не достигнут, то придется резать овец. Но Чагдар Булатов и Зоригто Эрдэнеев не умеют этого! Как же они не догадались взять в путь какого-то из батраков-барлагов? Не успели подумать об этом в невероятной спешке ночных сборов!
Все ждали к завтраку главу семейства.
– Я пойду за отцом, – наконец произнесла Цыпелма, увидев, что ожидание затягивается.
– Подождите, уважаемая Цыпелма, – воскликнул Зоригто, – нагаса-аба сейчас подойдет сам, на запах костра и чая! Он уже покинул место ночлега.
Женщины вспомнили, что Зоригтошка явился к костру в сырой одежде, но на этот раз промолчали. А ведь можно было еще и поинтересоваться, где же его достойный слез старый халатишко. Номинтуя подбросила в костер сосновых поленьев из обнаруженной в дровянике щедрой поленницы. Дрова весело затрещали при всеобщем молчании. Вскрикнула далеко неведомая птица.
Наконец старик Чагдар появился – как и Зоригто, в подмокшей одежде и с несвойственной ему улыбкой.
– Ну что, дорогие женщины, чай готов? И даже остыл дважды или трижды? А я обнаружил речку. Отличную речку, чтобы поить отару и наших коней. И даже сам слегка ополоснулся в ней. Что и вам советую! Видите, ко мне вернулась резвость. Берите пример с меня! Скоро я вообще поменяюсь местом с Зоригтошкой. Я буду скакать по степи лицом к хвосту кобылы, а Зоригтошка будет восседать на подушках и хранить достоинство рода.
Зоригто шумно вздохнул, не решаясь состязаться с дедом в меткости слова. Царственная Бальжима принялась подавать чай, приговаривая, что в самом Пекине обучалась приемам чайной церемонии.
Едва окончился завтрак, как грозный Чагдар заговорил о том, что беспокоило его:
– У нас, у беглецов, жалкая участь, поэтому нам нужно всегда быть настороже. Если неожиданно появятся недруги, пусть женщины измажут щеки пылью, лягут и притворятся больными. Аяна шепнет Сагаалшан-кобылице заветное слово, чтобы та легла в траву. Зоригтошка уложит коньков и натрет им бока грязью. Надо запастись грязью. А я стану вести беседу в образе сумасшедшего и невежественного мангадхая. Да, еще попрошу Аяну побеседовать с вожаком-бараном, чтобы он принял скорбный вид. Мне показалось, что он прислушивается к ее словам. Скорбный вид не помешает и овечкам. Дружное молчание также продлит их дни. – Помолчав, он добавил: – Я уже столько наговорил всего мне несвойственного, что прошу всех отнестись к моим речам снисходительно.
Однако же не прошло и часа, как слова Чагдара начали сбываться. Говорят же люди: не стоит разрисовывать будущее в таких красках, какие не понравятся тебе самому!
Сначала на Вечное Синее Небо набежала тучка. Потом она заслонила сияющее солнце. Потом раздался топот копыт – и сразу рядом с их избушкой, крайней с конца. Чагдар, как безумец, выскочил на широкую улицу. Не въезжая в деревню, близ ее распахнутых и сломанных ворот, остановились два всадника на двух жирных пестрых кобылах, что говорило о том, что они за кавалеристы. Один был хонгодор с оспяным корявым лицом, а второй видом грузин из бывших уголовников. Таких после гибели Нестора Каландаришвили, случившейся в прошлом году, разбросало по всей Восточной Сибири. Надо полагать, что и отдельные хонгодоры были в анархистском войске Нестора. Чагдар поспешил к всадникам, чтобы задержать их подольше. Винтовки, патронташи крест-накрест на груди, сабельки на перевязях – это были видимые признаки их воинственности.
– Эй, – закричал грузин своему спутнику по-русски, – Балтай, пэрэвэди-ка старикану, что я хочу эсть!
Чагдар не знал имени «Балтай», но приготовился слушать перевод.
– Уважаемый, – лениво произнес Балтай по-бурятски, – мы хотим есть!
– Я беднейший бедняк, – начал Чагдар, утирая лицо рукавом халата и мелко моргая, – а вы военные люди. Неужели еще не нашли пропитания?
– Нашли, сейчас тебя шерстить будем. Веди к своей кухне!
– Не отнимайте последнее, будьте добры!
Балтай перевел его слова грузину, назвав его Важей, и тот хмыкнул:
– Ага, значит, у них эсть послэднее, и зря он назвал сэбя бэдняком! Пусть вэдет, я хочу мяса! Я хочу мцвади, пусть приготовит!
Грузин захохотал и, подъехав к Чагдару, снял с его головы малгай:
– Позвол нэсти шапку за тэбэ!
Чагдар медленно и сокрушенно пошел вперед, надеясь, что женщины выполнили его распоряжение, а Аяна и Зоригто исчезли. Он открыл ворота, и бандиты въехали. Они спешились и быстро рванули дверь в избу. Чагдар последовал за ними. На широких лавках, едва прикрывшись тряпьем, лежали измазанные пылью Цыпелма, Бальжима и Энхэрэл.
– Чэрт! – сказал Важа. – Куда нэ приды, бабы балные. А у нас в Грузыи красавицы, вах-вах! Вэди к своим баранам! Хочу мцвади!
Чагдар дождался перевода и спросил Балтая:
– Мцвади – это что?
– Это что, Важа? Мцвади? – переспросил Балтай грузина.
– Шашлык барана с баклажан.
– А что такое баклажан? – это заинтересовало уже самого Балтая.
Видимо, сумасбродную идею насчет шашлыка с баклажанами в степной глуши Важа излагал впервые.
– Ты нэ знаешь?! – Важа захохотал довольно. – Веди, старик, к баран.
Он сам открыл ворота в огород, увидел казан и помчался к нему:
– Вах-вах!
– Чай, – воскликнул Балтай, заглянув в казан. – Грей, старик, чай, корми нас! А к баранам вернемся потом. Это так хрансузы говорят.
Чагдар послушно запалил костер наново, достал из мешка последние шаньги и хуруул. Гости сами зачерпнули себе чая, не дожидаясь, пока он согреется, имевшимися в их заплечных торбах оловянными кружками.
– Веди сюда овец, быстро-быстро, – смачно чавкая, приказал Балтай.
Чагдар покорно, мелко-мелко переступая и клоня голову, чтобы не выдать своей грозной стати, побрел к краю изгороди и перелез через нее, упав на землю с верхней жердины. Он услышал, как Важа жирно захохотал, и заметил лежащего в невысокой траве Зоригто. Внук наблюдал за чаепитием бандитов на огороде и отполз, когда дедушка направился в его сторону.
– Беги, зээ-хубуун, к отаре, найди две самых грязных и захудалых овцы.
Надо сказать, такие овцы всегда находятся из числа ленивых. Они часто ложатся, отчего становятся грязными, не могут нагулять бока, оттого что мало едят, и заканчивается это тем, что отара сторонится их и оттесняет куда похуже.
Чагдар почти уже сам дошел до огорода, где стесненно, плотным комком лежали овцы, присмотренные Агууехэ-хусой; тут увидел Зоригтошку, тащившего под бока двух грязных овец, за которых вожак не нашел нужным заступиться. Чагдар взвалил одну овцу себе на левое плечо, а вторую взвалил на свое плечо Зоригтошка. Чуть не задохнувшись от животной вони, старик сказал внуку:
– Ступай за мной скрытно, взвалишь мне вторую грязнуху на правое плечо, как мы окажемся поближе к бандитам.
Так Зоригто и сделал. Едва стал виден дымок костра, как он резво перевалил смердящую животину на правое плечо любимого дедушки.
– Эй-эй, – закричал Чагдар Балтаю, – прими, что просил, иначе, если я их сброшу вниз, потом ловить придется долго.
– А я это просил? – удивился Балтай, увидев, как грязны и запашисты овцы. – Пусть Важа и принимает их. Важа!
Грузин подошел недовольный.
– Вах! Какой отвратительный баран! Я всэгда говорил, что надо брать у богатых. А у этих – болной жэнщин и худой баран. Нэ хочу я жить в рэспублике бэдных. Пошлы, Балтай, в Кытай. Скажи старику, что мы нэ бэром!
Чагдар сбросил овец и перелез через изгородь. Ему хотелось снять запачканный овцами халат, но нельзя было этого сделать. Под халатом был у него новейший самовзводный револьвер системы Нагана.
Бандиты уже сидели на войлочных ковриках у костра и, почти не жуя, проглатывали последнюю шаньгу, когда старик добрел до них, мелко семеня, как китайская заводная игрушка.
– И что мы будэм дэлать? – спрашивал Важа Балтая. – Дабычи нэ дабыл, радосты нэт. Давай, заколэм младэнца, что ли? Я слышал, пыщыт младэнэц.
– Ну, – отозвался Балтай, – езжай в Грузию и там коли грузинского младенца.
– Ха-ха, – согласился Важа, – голос кровы в тэбэ загаварыл? Я нэ вэру в классовую борбу, а я вэру в голос кровы.
– Какие новости есть? – дрожащим голосом спросил Балтая Чагдар, невольно смягчаясь к этому парню, пресекшему желание Важи убить Жимбажамсу.
– В Монголии убили Сухого. В Новониколаевске расстреляли барона Унгерна. В Якутии погиб батька Нестор. Везде война без конца и края, – ответил, утирая рот, Балтай, Важа напомнил ему о голосе крови явно не вовремя.
Повернувшись к Важе, он произнес уже по-русски:
– Валим отсюда. Плохое, чего ты так хотел, мы уже сделали. Съели у этих бедняков последнюю пищу.
– Ладно, – согласился Важа, – кладем их пытатэльный сыр в наши мэшки, и айда по коням.
Они собрали сыр, потом скатали трубочкой войлочные коврики, на которых сидели, и тоже сунули их в свои торбы, и, едва двигаясь от тяжелого переедания, покинули усадьбу и деревню.
Женщины омыли лица под висевшим во дворе рукомойником.
– Чагдар-убгэн, – обратилась Цыпелма к мужу, – сними халат, я постираю. И ты, зээ-хубуун, сними тоже. Вы спасли нас!
– Я сама постираю халаты отца и сына, – откликнулась нежная Энхэрэл. – Я сделаю это в первый раз в жизни и с большой радостью, молясь Великому Небу.
Чагдар снял легкий летний халат, под которым обнаружилась перевязь с револьвером в мягком войлочном чехле. Все знали, что в револьвере всего три пули. Четыре ушло во время последней перестрелки с мстительными родичами сойотов.
– Бандиты съели последние шаньги и унесли весь сыр. Наши припасы близки к истощению, – произнесла Бальжима, взявшая на себя обязанность следить за кухней.
– Будем искать человека, который умеет резать овец, – сказал Чагдар. – Я на коне обскачу окрестности.
– Не спеши, отец! – воскликнула Бальжима. – Тебе нужен отдых после стольких волнений.
– И то правда, – устало согласился Чагдар, садясь на сосновую чурку, в ворохе которых у него был припрятан шелковый кисет с табаком и китайская трубка, оправленная серебром. – Наша Сагаалшан-кобылица принесет приплод предположительно завтра. Надо неотлучно дежурить при ней. Я сам прослежу за ожеребом. Смотри, зээ-хубуун, будь поблизости!
– Ага! – согласился Зоригто и исчез буквально через мгновение.
– Зоригтошка, он такой, – успокоила отца Энхэрэл не без гордости. – Он непоседа, но результаты у него всегда хорошие.
И ушла с халатами туда, где, по утреннему рассказу отца, находилась речка.
Энхэрэл быстро нашла ее, пройдя в проулке между двумя усадьбами. Нашла она и мостки, и яму под ними, где, верно, деревенские когда-то полоскали белье. Энхэрэл положила первый халат на мостки, набрала прибрежного песка и стала растирать им грязные овечьи пятна. А потом принялась полоскать халат в холодной воде. Слезы закапали из ее глаз, смешиваясь с речной водой, спешащей на восток к восходу солнца. Она вспоминала мужа своего Эрдэни, не вернувшегося в родной улус с Первой мировой, сына Самбуу, умершего мальчиком после падения с коня, сыновей Доржо и Баатара, павших в схватке с сойотами еще неженатыми, дочь Дариму, ушедшую с мужем Галданом в Китай и там с ним погибшую. Она плакала, пока стирала первый халат и когда принялась за второй, сыновий, более грязный, потому что Зоригто сначала ловил грязнух, потом нес их под мышками, а потом одну на плече. «Это какой-то другой халат, – подумала она, натирая его песком. – У него же был синий, а этот – серый, и он чуть новее». И следом она осознала, что плачет, что все увидят ее красные опухшие глаза, и поэтому пора прекращать это занятие. Энхэрэл наплескала в глаза холодной воды, потом расплела косу и вымыла волосы и осталась довольна собой и твердостью своего духа.
Но, возвращаясь, она услышала женские вопли и плач, в тревоге прибавила ходу, и слезы, недавно торившие путь, хлынули из ее глаз снова. «Неужели что-то случилось с белой кобылой отца?» – была первая ее мысль. «Да есть кто-то счастливый в наши дни?!» – это была вторая. «Жимбажамса! – была третья. – Он счастлив в этом мире». И четвертая: «А что, если что-то случилось именно с ним? Упал? Лэбрима – неопытная мать».
А случилось вот что. Зоригтошка, отправившийся по избам в поисках оружия, в одной из них нашел кое-какие вещи. Это были мальчишеские льняные платьица с вышивкой крестиком по вороту, крошечные красные сафьяновые сапожки и игрушки: деревянная лошадка-каталка, металлический паровозик со стеклянными фарами, куколка в сарафане. Конечно, он не мог не прихватить этого для сосунка двоюродного брата, да еще пару книжек на русском языке, чтобы попрактиковаться в русской речи.
Но, едва он высыпал свою невольную добычу перед собравшимися во дворе усадьбы женщинами, а подошли и Гыма с Номинтуей, и Аяна, чтобы узнать про нашествие двух бандитов, – как совершенно неожиданно из их глаз хлынули горячие слезы, и раздались вскрики:
– Сколько еще это все будет продолжаться! Убивать детей! Нашего новорожденного тоже чуть не убили! Что делать всем нам!
Зоригто не знал, как тут быть. А тут еще подошла Энхэрэл с постиранными халатами и с готовыми слезами. Но именно она и смогла прекратить этот вселенский плач.
– Вы что, женщины! – воскликнула Энхэрэл так громко, как могла, в первый раз в жизни повысив голос. – Вы бы подумали о моем Зоригто. Что должен он сделать, глядя на вас? Убежать? Утешить? А что, если он окаменеет на месте? Смотрите, он не может сказать ни слова и не может сдвинуться с места! Вы хотите, чтобы он лишился дара речи?!
Женщинам стало стыдно перед Зоригто, которого они совсем не хотели обидеть. Они и плакать не думали. Эти слезы взялись неведомо откуда, из недр Гражданской войны, принесшей столько потрясений. Они замолчали разом и, как им показалось, вовремя. Они увидели баабая в калитке ворот. Он пришел за своим халатом.
– Чего же вы все так испугались? – удивился он. – Что вздрагиваете при виде меня? Может быть, я стал похож на шайтана?
Энхэрэл поспешила к нему с халатом:
– Отец, он еще не высох. Я так задержалась, стирая! Простите меня.
– Так повесь сушиться, а не стой посреди двора, – снова удивился Чагдар. – Вы, женщины, какие-то странные! А, Зоригтошка нашел и принес детские вещи? Ну так приберите их! Бедняки никогда не гнушаются подаянием. Разве вы сами никогда не подавали беднякам? В прошлой, невозвратно погибшей жизни?
Тут у женщин снова закапали слезы, которые они остановили так внезапно перед приходом баабая. Страшась его хорошо известного им гнева, они разбежались кто куда. Одна Энхэрэл осталась развешивать постиранное на протянутой по двору пеньковой веревке. Но слезы мокрым не утереть!
Чагдар и сам вдруг сильно запечалился. По верху энгэра его халата шли полосы желтого и черного цвета. Желтая напоминала о поездке в Тибет, где он прикоснулся к просветленным, но черная была цветом тоонто – родины, которую он терял с каждым новым скоком конька на юг, в Монголию и Китай. Не желая отдаваться печали, когда он сам есть бесконечный источник мужества, Чагдар кашлянул и сердито обратился к Зоригто:
– Что же ты застыл посреди двора, зээ-хубуун? Не превратись в дерево! Что за книги у тебя в руке?
– Я нашел. Это русские. Я хочу повторить русские слова. На всякий случай. Если еще понаедут бандиты.
– Что ж, пойдем со мной! – обрадовался Чагдар, которому всегда нравилось изучать понятия чужой речи. – Ты будешь читать мне вслух, а я смотреть за правильностью произношения.
И они удалились во двор очень пострадавшей от пуль избы, в огороде которой прятали свою драгоценную кобылицу.
– Там было много книг, – рассказал Зоригто деду, – но я взял две. Посмотри, вот это совсем новая, Солбонэ, он пишет на русском языке. Разве возможно такое? Называется «Цветостепь».
– Это есть такой в Иркутске, его зовут на самом деле Николай Дамбинов. На западе много крещеных. Их деды намудрили, принимая крещение, чтобы не платить русским албан. Новокрещеных русские освобождали от албана. Этот Дамбинов из боханских, они по-другому выговаривают слова, глядишь, ты бы и не понял его речи или высмеял его, что он невежа. Вот он и ударился писать на русском. Он из очень бедной семьи, но учился в русской школе, а потом в Жердовке в училище. Там и перешел на русский язык. У бедных всегда есть одно сокровище – это ум, и, если его в достатке, они выходят из бедности. Это сокровище, к нашей радости, у тебя, Зоригтошка, тоже есть. Ты не станешь ходить в бедняках. Твои затруднения преходящие.
– Но почему же книга Солбонэ оказалась в русской избе? – поинтересовался Зоригто, как всегда напитываясь от осведомленности деда.
– Я могу предположить, что русский крестьянин, который в ней жил, или сам был метис, или был женат на бурятке. Такое издавна водится у русских. Дочери степей красивы, разве ты не заметил этого?
– Заметил, – смущаясь, согласился юноша.
– И может быть, у этой четы был сын, который учился в Иркутске в военном училище, куда во время Первой мировой войны стали принимать лучших из простолюдинов, или учился он в иркутской гимназии. Вот и познакомился с Дамбиновым. А после разгрома белых ему, очевидно, удалось спастись, он навестил родителей и привез новую книгу домой. А вторая книга – это что?
– «Учебник тактики. Кавалерия для военных и юнкерских училищ», – прочел на корочке Зоригто.
– Вот видишь, я оказался прав. Сын хозяев разоренного дома был юнкер. Эта книга полезна для тебя. Мне видится, что война еще не закончилась. Однако изучай мирность тоже. Здесь, в Тункинской долине, много чудного. Здесь живет настоящий народный гений и богатырь Магай. Я с ним знаком давно. Мать его бурятка, отец русский. Он собирает слушателей, рассказывает им сказки и предания, бесплатно лечит народ и домашнюю скотину. Он загадочно неутомим. Ты учился в городе и потому не видел его. Магая знают всюду по нашей земле.
Так, беседуя, они дошли до места и открыли висевшие на одной петле ворота. Они нарочно выбрали для кобылицы полуразрушенную убогую усадьбу, которую ни у кого не будет настроения посещать. Они заглянули к кобылице, лежавшей на хорошем прошлогоднем сене. Перед ее мордой высилась большая охапка свежей душистой травы, нарезанной Гымой и Номинтуей при помощи их девичьих кинжалов. Убедившись, что в их коневодческом хозяйстве полный порядок, старик и юноша вернулись во двор и присели на ступени затененного крыльца.
– Читай мне книгу Солбонэ, – приказал Чагдар внуку.
– Вот, слушай, дед, – «В родимой степи»:
- Здесь, вдали от шума, пыли, воплей, стона,
- В вечной неге простоты,
- Под синеющим узором небосклона
- Юрты юртятся в степи[1].
– Ты, зээ-хубуун, читаешь стихи не слишком плавно и с задержками. Юнкерский учебник показался бы тебе трудным. У русских есть модный поэт Игорь Северянин. Солбонэ, похоже, пишет в его духе, и не без настроения. А пыль, вопли и стон – это где, по-твоему?
– В тюрьме, наверное.
– В городе! – убежденно сказал Чагдар. – Город – это настоящая тюрьма для таких, как мы.
– Вот смотри, нагаса-аба, в стихотворении «Сын степей» этот Солбонэ подтверждает твои слова:
- Да что мне город многошумный,
- Где только злобит злоба лжи?
- Где редко встретишь простодушных,
- Простых и близких, для души![2]
– Достаточно, зээ-хубуун! У меня возникла мысль: ты бы поучил русскому языку свою сестренку. Ты видишь, как мало вокруг мужчин. Поэтому женщин надо образовывать. Может быть, Аяне доведется давать уроки Жимбажамсе.
– В Монголии не понадобится русский язык! А лучше еще двинуть в Китай!
– Везде война и руины, – откликнулся Чагдар. – Где лучше? Говорят, там, где нас нет, в великой пустоте и простоте Дао. Лучше всего никуда не стремиться, а жить в простоте. Вот сейчас мы никуда не стремимся, поскольку ждем ожереба Сагаалшан. В ее чреве происходят удивительные вещи, о которых мы не имеем представления. И в глубине вселенной происходит что-то удивительное, что нам, невежам, никогда не откроется.
Так, в суете кругового движения сансары, минул день. Женщины, как трудолюбивые ласточки, вили хрупкое гнездо в самом центре мирового вихря непостоянства, укрываясь за его упругими волнами и делясь друг с дружкой покоем надежд и крохами оставшейся пищи.
В закромах русских изб мужчины ничего не нашли, кто-то выгреб все до последней крошки. Сусеки пахли зерновой пылью, пустые рассохшиеся кадки – солеными огурцами, капустой, салом, черемшой, груздями; ранами краснели чаны, в которых хозяева десятилетиями запасали бруснику и клюкву. Разорение и гибель пронеслись здесь минувшей зимой.
На другой день Чагдар оставил у кобылицы Зоригто и Аяну, а сам испил чая из пиал Бальжимы, так как, хотя и ожидал ожереб только вечером, не пожелал присоединиться к общей трапезе. Не оставшись у костра ни на одно лишнее мгновение, он пошел обратно и на полпути услышал за спиной резвый и звонкий топот копыт. Огорченный новым нашествием, он понурил голову и почти остановился.
– Здорово, дед! – услышал он зычный молодой голос за спиной. – Мы будем с тобой говорить!
Чагдар повернулся, на ходу вспоминая, что не стоит выдавать знание русского. Он увидел троих бодрых кавалеристов на одинаковых буланых конях. На них были новые бурые буденовки с красными звездами, новые зеленые гимнастерки и новые красные сатиновые шаровары, такие, про которые он говорил своим, что они пропитались кровью. «Ваньки-встаньки, – пронеслось в голове у Чагдара. – Посмотрим, чего они потребуют».
Средний держал красное знамя, уперев древко в колено, а тот, что справа, достал потрепанную бумажку и прочел:
– Мэндэ, хундэтэ угытэй хун!
Лоб у него вспотел, пока он шевелил губами по бумажке, готовясь произнести следующую фразу, и он буркнул:
– Дед, а дед, говоришь по-нашему?
– Малехо, – согласился Чагдар, которого, как человека делового, купца именитого, интересовала суть дела, а ее легче понять без переводчика. – Батрачил я на русских, вот и знаю малехо.
– Смотри, смотри, Степка, – возбудился правый красноармеец, обращаясь к левому, видимо старшому, – он батрачил на мироедов и кровососов! Это наш, рабоче-крестьянский дед! Как тебя зовут, хундэтэ угытэй хун?
– Балта зовут, по-вашему Молот.
– Балта? Это здорово звучит! – теперь возбудился тот, что назван был Степкой. – Молот – это по-пролетарски. Балта – это напоминает Балтику, где зародилась великая мировая пролетарская революция. Я буду звать тебя, старик, Балтикой!
– Чего ты, – заспорил с ним правый, – велено же нам – к местным с полным уважением и без фантазий. Балта – значит, Балта.
Теперь заговорил знаменосец:
– Уважаемый Балта! Мы объезжаем тункинские улусы и стойбища с великой миссией. Три года назад красные партизаны подняли красный рабоче-крестьянский флаг над городом Верхнеудинском. Потом красные партизаны очистили от белых банд Дальний Восток. И вот великое свершилось! Хотя не сразу. Сначала появился великий… – тут знаменосец сделал паузу, и красноармеец с бумажкой прочел:
– «Союз Советских Социалистических Республик».
– Вот, – продолжил знаменосец, – появился великий, – он снова замялся, и красноармеец с бумажкой прочел:
– «Союз Советских Социалистических Республик».
Левый красноармеец Степка поднял руку и сказал правому с бумажкой:
– Пожалуйста, яснее и короче! Я сам ничего не понял из твоей речи, а что поймет бурят-монгольский дед?
Чагдар стоял понуро, но ему уже становилось смешно от стараний красноармейцев, и он решил, что, когда они закончат свое провозглашение, он радостно захохочет, иначе помрет от распиравшего его кишки смеха.
– Итак, – сказал знаменосец, учтя Степкину критику, – два дня назад, тридцатого мая тысяча девятьсот двадцать третьего года, в городе Верхнеудинске провозглашена Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. А Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика вошла в Союз Советских Социалистических Республик!
– Теперь мы можем спешиться, – сказал старшой Степка, – негоже возвышаться над бедняком! Слишком долго над ним возвышались буржуи и мироеды! Делай, как я!
Красноармейцы спешились и мгновенно сделали из трех своих винтовок трехгранную пирамидку. В это время Чагдару удалось подавить смех, клокотавший в кишках, и из его глаз вытекли невольные слезы.
– Ты плачешь, бурят-монгольский дед, – заметил Степка растроганно. – Такая великая радость случилась у ваших! У них будет теперь свое рабоче-крестьянское правительство! Собирай своих, мы исполним для них рабоче-крестьянские песни! Мы – агитационная ячейка.
Красноармейцы оправили гимнастерки и ремни и стали в строгую линию. Чагдар искоса взглянул в их серьезные лица с ярким блеском голубых и серых глаз, прорывающимся сквозь коричневатость и обветренность загорелых лиц, и сказал дрогнувшим голосом:
– Сейчас приглашу, уважаемые товарищи!
Он пошел к усадьбе, где выдавал присутствие людей дымок костра, и услышал, как за его спиной красноармейцы выполнили поворот направо, пошли за ним и снова встали в линию у ворот, которые он открыл. Чагдар вывел на улицу Цыпелму, Бальжиму, Энхэрэл, Гыму и Зоригто, шепнув им:
– Молчите и слушайте, не забывайте, что вы бедняки! И тогда все обойдется!
– Мэндэ! – сказали хором красноармейцы, а знаменосец (Чагдар услышал его имя Антонаш) добавил:
– Мы исполним вам новые песни.
И красноармейцы заорали зычными и грубыми голосами:
- Мы на горе всем буржуям
- Мировой пожар раздуем!
- Всюду будет знамя реять,
- Знамя мая и труда!
- И да сгинут буржуины
- Раз и навсегда! Раз и навсегда-а-а![3]
А потом они посовещались, и Степка сказал:
– Мы решили, что великий «Интернационал» вы не поймете, и мы исполним для вас «Авиамарш». Может быть, ваш парень захочет стать пролетарским летчиком. Это самое новое.
Они замаршировали на месте, их тяжелые сабли подергивались ровно и единообразно, и сапоги на ногах были новые и начищенные.
- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
- Преодолеть пространство и простор,
- Нам разум дал стальные руки-крылья,
- А вместо сердца – пламенный мотор[4].
– На месте стой, раз-два! – скомандовал Степка и обратился к Чагдару: – Уважаемый бурят-монгольский дед! Теперь скажите, какую исполнить для вас работу? Красная армия – главный друг и помощник бедняков.
Чагдар не ожидал такого вопроса. Раньше с таким вопросом к нему приходили голодные батраки-барлаги, и он нанимал их на какие-нибудь работы, если находил. Его озарило:
– Уважаемые красноармейцы! Мы голодаем уже несколько дней. Неизвестные люди отняли у нас последнюю пищу. У нас есть небольшая отара, мы ее нашли в степи, блуждающую, и она пошла за нами. Но я не умею резать овцу. И внук мой тоже не умеет. Помогите нам зарезать овцу. Мы угостим вас свежим бухлеором, если вы будете добры откушать нашу пищу.
Степка резко выхватил острую саблю из ножен, напугав женщин.
– Я снесу голову любому противнику! Что там баранья башка!
– Я чабан, я пас овец на молдавских полонинах, – перебил его знаменосец и сунул знамя красноармейцу с бумажкой.
Он кинулся к Чагдару и обнял его.
– Уважаемый бедняк Балта! Я тоже наголодался когда-то, пася чужие отары. Я помогу вам и зарежу столько овец, сколько скажете!
Чагдар подумал, задыхаясь от сильных объятий: «Похоже, у этих Ванек-встанек во всем гигантские мировые масштабы». И сказал:
– Пойдемте, я понял, что вас зовут Антонаш.
– Дедушка Балта, мне нужен острый нож и таз, чтобы выпустить кровь, – сказал Антонаш. – Саблей я не умею. А есть ли у вас подготовленные животные? Которых вы не кормили?
– Есть, – ответил Чагдар, – мы вчера отделили трех овец и давали им только воду. Мы молились Великому Небу, чтобы найти забойщика.
– И он приехал к вам из Молдавии на горячем буланом скакуне! – воскликнул Антонаш довольно и добавил: – У нас режут овец не так, как я видел у бурят-монголов. У нас овцу связывают, укладывают на стол или лавку, острым ножом перерезают артерию на шее и подставляют таз под поток крови. И затем можно приступать к разделке. А буряты связывают ноги, укладывают овцу на спину, придерживают за ноги, делают надрез в середине живота, в это отверстие осторожно засовывают руку, продвигают ее в сторону сердца и находят там главную артерию. Одним сильным рывком ее обрывают. Потом разрезают шкуру на брюхе. Достают внутренности, большой ложкой убирают кровь в чан. Шкуру отсоединяют. Отрезают ножки и голову, разделывают мясо. Вы будете согласны, Балта, если я забью овцу по-своему, как я умею?
– Зубшээнэб, согласен, – сказал Чагдар, выслушав красноармейца. Он убеждался, что перед ним вполне нормальный человек. Не стоит сейчас рассуждать о том, сколько он мог пролить человеческой крови.
– Ваши заготавливают сушеное мясо – борсо и мясную муку, – дружелюбно продолжил разговор на ходу Антонаш. – Нам такое выдавали в рацион. Вы можете третью овцу высушить. Если бы вы подготовили к забою больше овец, я бы забил. А так мы в походе, не можем ждать.
– Ага, ага, – кивал красноармейцу Чагдар. – Овец и коней у нас ценят и относят к животным с горячим дыханием халуун хушуута. Уважаемым гостям мы поднесем вареные бараньи лопатки.
Пока Антонаш резал овец, красноармейцы Степан и Егорий, так звали второго, с бумажкой, взялись за Зоригтошку.
– Ну, паренек, как тебя зовут? Зоригто? Ты понимаешь по-русски? Тогда тебе надо в летчики! Великому Советскому Союзу нужно осваивать самую современную технику. Девятого февраля этого года зародилась наша авиация. Строится двухместный учебно-тренировочный самолет «Конек-Горбунок». Их будет много-много. Все красноармейцы будут летать на самолетах. Скоро будет запущен первый советский истребитель И-1, пассажирский самолет «Синяя птица». Пойдем с нами! Мы держим путь в Кырен и затем в Верхнеудинск.
– Честное бедняцкое, – отвечал им не без искреннего удивления Зоригто, которому мысль об авиации никогда не приходила в голову, – вы рассказываете очень интересные вещи, но дедушка Балта не может отпустить меня. Мы с ним вдвоем мужчины, кто же будет охранять наших женщин, если я уйду?
– А где же твой отец? – спросил юношу Степан.
– Мой отец Эрдэни погиб на Первой мировой войне. Где-то в Галиции. Это было в шестнадцатом году.
– Вот-вот, – возбудился Степан, – проклятые буржуи! Мой отец тоже погиб на Первой мировой. И я, его старший сын, решил отомстить буржуям всего мира и ответить им мировой революцией.
Егорий, видимо имеющий свою инструкцию относиться к местным без фантазий, остановил агитацию Степана:
– Поможем этим беднякам. Пойдем спросим у женщин, в какой помощи они нуждаются.
Красноармейцы откушали вместе с семьей Чагдара Булатова бараний бухлеор, напились сытного и жирного бульона, отдали с десяток сухарей, что, как выяснилось, было их единственным пайком, и ускакали, оставив Чагдара в большой задумчивости.
– В какой же день родился наш Жимбажамса? В день провозглашения новой Бурят-Монгольской Республики, тридцатого мая по григорианскому календарю, – сказал он, раскурив трубку у костра в наступающих сумерках и собираясь на ночлег к Сагаалшан-кобылице. Но тут он увидел мчащуюся радостной птицей Аяну.
– Кобылица родила здорового жеребенка! – закричала Аяна издалека. – Я сама приняла роды!!!
– Унаган сааган, – закружился Зоригтошка, раскинув руки, – унаган сааган!
Все они взялись за руки и станцевали вокруг костра ёохор по вытоптанному за два дня земляному кругу, захватив в середину пытающегося убежать к кобылице баабая. Это было так легкомысленно – танцевать ёохор сейчас, но всем хотелось стряхнуть с себя оцепенение, вызванное недавними событиями, скрыть радость в ритме танца.
А позже Чагдар, оставив у кобылицы и жеребенка Гыму и вернувшись, объявил еще одну новость минувшего странного и удивительного дня:
– Мы не пойдем в Монголию. Мы пойдем в Верхнеудинск. Всюду, как я понял, революция. Всюду творится непонятное. Зоригтошка знает, что я был дружен с Овше Норзуновым. Это знаменитый фотограф, друг Гомбожаба Цыбикова. Я покупал у него большой альбом фотографий и журнал «Нэшнл джиогрэфик», ведущий свою историю с публикации этих снимков. В Верхнеудинске я, надеюсь, встречу Овше и буду держать с ним совет, как смотреть на нынешнюю власть и что предпринять дальше. Я подарю новой республике Сагаалшан-кобылицу. Так республика станет ближе мне, и я стану ближе ей. И тогда мы заживем мирно и неплохо.
Женщины молчали, пораженные решением Чагдара, один Зоригто решился задать ему вопрос:
– Нагаса-аба, путь отсюда в Верхнеудинск сложен и долог, это сколько же мы будем идти? Год?! А жеребенка ты не отдашь республике?
– Сейчас мы находимся в районе Кырена, – начал старик, видимо, успев обдумать путь. – Откуда и появились красноармейцы. Прямому походу на Верхнеудинск мешает Уругудеевский голец. Слышите, внезапно потянуло холодом? Это оттуда. Проход через гольцы есть там, где их рассекает река Зун-Мурэн. Мы пройдем путь, по которому уже шли, и от Зун-Мурэна выйдем к железнодорожной станции Слюдянка. Сколько у нас останется овец, я не знаю, но перед выходом на станцию, если нас никто не ограбит, о чем мы будем молиться Вечному Синему Небу и всем великим Буддам, мы забьем оставшихся и высушим мясо. Женщин в Слюдянке мы посадим на поезд, с Зоригтошкой мы сядем на коней и приведем Сагаалшан с жеребенком в Верхнеудинск.
– Это так опасно – разлучаться, – заспорила с мужем Цыпелма. – К тому же мы не знаем русского языка. Надо идти в Верхнеудинск пешком, с отарой.
– Наступит зима, и нас съедят волки, – рассердился Чагдар. – Язык учите. Я поручил Зоригто давать уроки сестренке Аяне, пожалуйста, присоединитесь к этим занятиям. Теперь женщины равны по правам с мужчинами. Мне, конечно, это трудно принять, так что сами расскажете мне, что понимаете под этим. Меня заботит больше другое. Что это значит – власть бедноты? Неужели такое возможно? Однажды старик Манзар из улуса Хойтогол рассказал при мне такую сказку. Одному хану, жившему в богатом дворце и имевшему несметные богатства, захотелось узнать себе цену. Но никто из его придворных не брался высчитать ее. Они боялись ошибиться и поплатиться за это жизнью. Они поехали на поиски мудреца, и им попался бедный старик, угытэй хун, как недавно выразился красноармеец. Он вызвался разрешить затруднения придворных, и его представили хану. И он сказал: «Ты, хан, гроша не стоишь. Если заставить тебя что-то сделать своими руками, то ты ничего не заработаешь, потому что не умеешь. А простым людям нет цены. Они работают всю жизнь не покладая рук и не знают отдыха». Хан отпустил старика и больше никому не задавал такого вопроса. В самом деле, возьмите меня. Если я останусь без всего, я ничего не умею руками. Не сумею заработать на хлеб. Вот в каком положении мы оказались.
– Нагаса-аба, – не выдержав наступившего молчания, сказал Зоригто, – ты можешь учительствовать. Учить языкам – китайскому, русскому и монгольскому. Географии и счету. Может быть, вернется кто-то из твоих сыновей и будет помогать тебе. И я найду себе дело и буду помогать тебе. Стану военным. Ты сам говорил, что воины всегда нужны.
– Хорошо, – не сразу согласился Чагдар. – А сейчас я пошел ночевать к кобылице. Утром, если будет благоприятствование, покажу вам жеребенка. Зоригто, пока еще довольно светло, но не покидай женщин до самой темноты, чтобы они чувствовали себя спокойно.
Последнее Чагдар приказал внуку неспроста. Помимо плана дальнейшего похода у него созрел еще один план, в его собственных глазах отдававший безумным молодечеством.
– До чего же мне все надоело. – Он шел и пускал молнии из своих узких азиатских глаз. – Моя кобылица – выставочный образец орловской породы, я боролся за нее на Варшавском аукционе. Ее отец Рослан, тринадцатого года рождения, от знаменитых Ермы и Милады, а мать родилась от Ядрана и Борисфены! И я дарю ее Бурят-Монгольской Республике, сойдя с ума от красноармейских песен!
Чагдар хлопнул висящими на одной петле воротами, вошел на скотный двор и затем под навес с лежанкой, где его поджидала Гыма.
– Раздевайся! – резко сказал он ей и снизил голос до шепота: – Быстро.
Гыма покорно сняла заношенный желтый тэрлиг, под ним обнаружилась длинная рубашка китайского кремового шелка с богатой вышивкой оранжевыми дракончиками. Она разделась, отползла в угол лежанки с навалом сена и смотрела молча, как Чагдар снимает кушак, халат и штаны и обнажает смуглый и страшный раздувшийся шодой. Она встала на колени, повернувшись к нему задом, а он нагнул ее голову, и она опустила плечи.
– Вот так, – сказал он после. – В городе я сниму тебе жилье, и ты родишь мне сына, а может, девчонку, а пока молчи, я буду приходить к тебе, когда захочу. Купеческое слово тверже закона, так что во всем положись на меня.
Он достал из кармана штанов заготовленный заранее царский золотой рубль и положил его на лежанку.
– Возьми рубль обратно, Чагдар. – Голос Гымы прозвучал ясно и спокойно. – Храни его и отдашь мне в Урге.
Чагдар подумал, что не успел он приложиться к девушке, как она заспорила с ним и стала командовать, как спорит и командует старая Цыпелма.
– Мы не в Ургу идем. Мы идем в Верхнеудинск, – сообщил он ей то, что уже знали другие, и взял золотой обратно.
Глава вторая
Очир-улигершин и славное местечко Онтохоной
Старый Очир, пыля ичигами, брел по степи, и в его заплечной котомке был морин хуур. Это значит, что он не бродяга, не потерянный человек, а сказитель, улигершин. Древний. О своем возрасте он говорил, что ему не то сто, не то двести лет, он забыл. Забыл, потому что не хотел помнить то, что для него не имело значения. А помнил он множество древних улигеров, вдобавок к этому и сам сочинил немало, и они тоже уже стали древними. Он еще знал предание об Абай Гэсэре и исполнял его повсюду, хоть одному человеку, хоть степному миражу, сколько-нибудь напоминающему человека. По словам Очира, он помнил время, когда в степь пришли первые ламы, а это и вправду было очень давно. Еще у Очира в котомке был ножичек с костяной ручкой. Сталь его сильно поистерлась от постоянного употребления. Это был подарок прадеда, которого Очир застал мальчиком. Этим ножичком прадед, а потом и он сам вырезали из дерева фигурки и оставляли их детям. Фигурки были простые – кони, быки, козы, овечки, человечки. Если где-нибудь Очира задерживала непогода, дождь или снег, то он мог вырезать лошадку, запрячь ее в крошечную кибитку, и в этой кибитке всегда оказывались крошечные семья, утварь, кошка и мышка. Оказавшись в юрте, куда его приглашали гостеприимные хозяева, он мог увидеть какое-нибудь собственное произведение, вырезанное давно-давно, когда его ножичек еще не поистерся и он мог изображать патлы шерсти на барашке или узорное седло на коньке. Очир замечал, что для хозяев эта вещь реликвия, доставшаяся от их стариков, и иногда говорил, что это его работа, вызывая удивление и даже страх, а иногда не говорил, чтобы не вызвать удивления и страха.
В одной юрте он увидел деревянную куколку в тэрлиге и босиком, с раскрашенным цветком-жарком в руке, и вспомнил, что вырезал это все юношей и подарил девушке, а она посмеялась над ним весело. Он не понял, чего она смеется, родители женили его на этой девушке, а он взял и отправился странствовать и странствует до сих пор. Он ни о чем не спросил обладателей куколки и ничего им не рассказал, его словно не было для самого себя, как не было для него и течения времени. Одно круговое движение от юрты к юрте, вокруг юрты, ёохор на лугу.
Очир заметил, что в степи много что переменилось. Больше стало голодных. Нойоны, которые держали былой порядок, исчезли, ушли со своими стадами куда-то. И сейчас, в июне, в пору цветения красных саранок всюду к цветам кидались дети и женщины, выкапывали и съедали их сладковатые мучнистые и питательные луковицы, напоминая саранчу. Саранка и саранча – как похожи эти слова! Очир и сам время от времени садился на землю, доставал ножичек, выкапывал луковицу, очищал и съедал, не рассчитывая, что нынче его накормят там, где он будет священнодействовать со своими песнопениями, вырезать и дарить игрушки детям.
Так он шел по своей тропе и наткнулся на женщин и детей, собирающих луковицы саранки в тряпичный мешочек.
– Дедушка Очир, – закричали ему дети и замахали руками. – Иди к нам, мы тебя угостим вкусными саранками!
Это была баргузинская тропа старика Очира, и люди знали и ждали его. Он поклонился им, и сел, и достал морин хуур и смычок, и заиграл, по его словам, чтобы корни трав наливались силой. Иногда извлекаемые им из струн звуки напоминали энергичный всхрап жеребца, а порой нежное подзывание кобылицей жеребенка. А потом Очир несвойственным ему в повседневности громовым голосом сказал:
– Я неспроста зовусь Очиром. Я дружу с бурханом Очирвани, громовержцем, держащим дорчже-ваджру в руке. Произношу мантру: «Ом бенза сато самая манупалая бенза сато тенопа тита дри до ме бава суто каё ме бава супо каё ме бава ану ракто ме бава сарва сиддхи ме траяца сарва карма суца ме цитам шри я куру хум хаха хаха хо багавэн сарва татхагата бенза ма ме мюнца бенза бава маха самая сато а» – и с этого мгновения с вами будет благоволение неба.
Нищий странник Очир произнес мантру, которую произносил именитый купец Чагдар Булатов, и в этом обнаружилось их сходство. Великий Будда приходит ко всем сословиям. И мы помним, что именитый купец теперь тоже странник. Правда, в заботах о семье и роде не потерявший всего нажитого. У него есть овечья отара, несколько лошадей, собака Булгаша-соболятница, револьвер системы Нагана и царские золотые рубли.
– Убгэн эсэгэ, расскажите нам про Очирвани! – попросили его женщины. В своих семьях они почти все остались без мужей и отцов и понимали, что теперь им надо знать побольше.
– О, – сказал Очир, не останавливая игры на морин хууре, ставшем от времени почти невесомым, как и он, древний старик. – У Очирвани есть очир, иначе именуемый дорчже. Это священный предмет могущества. Очир помогает Очирвани забрасывать по утрам на небо огонь солнца, а вечером месяц. Очирвани – божество дождя и покровитель змеевидных драконов, шепчущих земле каноны плодородия…
Женщины и дети слушали Очира, почтительно перестав работать, очарованные его игрой на морин хууре, и рассказом, и красным разливом саранок, так напоминающим утренний разлив восхода. Слово «Очирвани» для русского слуха похоже на «очарование», ведь все языки происходят от одного древнейшего алтайского корня. Степнячки спросили Очира:
– Мы слышали, убгэн эсэгэ, что русского царя победил Ленин, он бурят-монгол и обещал всем простым людям процветание. Каждой семье тружеников дадут по два коня, по две коровы, отару овец, козочек, а еще – по беловойлочной юрте. Вы слышали об этом, убгэн эсэгэ?
В этих местах Очир был еще и разносчиком новостей, и он ответил:
– Уважаемые, я тоже слышал такое. Да где же он возьмет столько животных и столько юрт? Разве будь он бурханом. Я видел многое и много чудес. Надеюсь, что сказанное вами окажется правдой.
– Что же вас всего больше поразило за вашу жизнь? – спросили его женщины.
Они всегда были молчаливы прежде, скрывая любопытство в тонких ощущениях. Прежде – это пока не случилась революция, не пришел голод.
– О, – сказал Очир, – еще как поразило, чуть не убило! Я видел, как камни падали с неба, вся земля сотрясалась в гуле и стоне и огонь пожирал огромные деревья, рождая нашу степь.
Он и раньше рассказывал это. Но тогда люди почему-то не верили ему, и он облек свое воспоминание в форму предания. А сейчас его слушатели поверили ему и были потрясены его рассказом, словно это всё пережили они сами. Поверили, поскольку едва закончившиеся война и разруха были подобны камнепаду с неба, молниям и беспощадному огню.
– Да как же ты спасся сам, убгэн эсэгэ? – спросили его теперь, а раньше никто его об этом не спрашивал, и тогда ему было немного обидно.
– А вот я-то сам оказался по воле Неба на священном Алханае и укрылся под нависшей скалой. И один небесный камень ударил по скале, но она выстояла. Потом еще и еще камни били по скале, но она потеряла лишь малые свои шероховатости.
– Как же уцелели тогда другие люди, убгэн эсэгэ, и было ли это только у наших или повсеместно? – снова спросили его слушатели.
– В годы моей юности я слушал улигеры от десятков улигершинов. Была богата ими наша земля. Богата дарханами и бесчисленными мастерами искусными. После этого камнепада не встречал я никого из них. Я не один год тогда скрывался на Алханае, не в силах отойти душой от увиденного. А потом, много позже, узнал я, что некоторые предки спаслись в горах Алтая, и, возвращаясь, пришли на равнины к западу от Байкала, ведомые промыслом Великого Неба, и поселились там. От их древности пошли нынешние улигершины Пёохон и Папа. Я встречался с ними в Торах на реке Иркут, и мы пели вместе, и состязались, и я многое передал им. И слушал нас тогда могучий мальчик по прозванию Магай, и внимал он нашим улигерам с великим чувством. Степняки, пришедшие с Алтая, сеют зерно и выращивают хлеб, этим они овладели в алтайской древности, чем сильно отличаются от нас, хоринцев. А были ли эти камнепад и бедствие только у нас или повсеместно? Что широко это было, такие сведения я получал от одного китайца, пропевшего мне китайские сказания.
– Так вы знаете китайский язык, почтенный Очир? – спросили его слушатели.
– Не знаю я китайского, – отвечал им Очир. – Понимал я китайца ум в ум, однако повторить бы его сказания не смог. А до названного мною бедствия понимал я язык птиц, и животных, и воды, и деревьев, но тогда я полностью оглох, а когда слух ко мне возвратился, их нежнозвучного языка я уже не слышал.
Встретился древний Очир со степняками недалеко от Хурамхаана, что в Баргузинской долине, а название это происходит от имени древнейшего хана Хурама, огнепоклонника, откуда и пошло название музыкального инструмента Очира – морин хуур. Хур – это «солнечный» у древнейших, что тоже некогда кочевали у Байкала, а морин, как всем известно, – это бурятский конь, голова его украшает навершие шейки инструмента. И слово «морин» тоже древнейшее и прославленное, оно идет от древнейшего названия множества «море» и «more», потому что морин берется от бесчисленного табуна и сам есть порождение сотен предшественников и обещание сотен потомков, олон тоото.
Очир заметил, что один парнишка вертится рядом с ним, и ему очень хочется подержать морин хуур в руках. Он знал имя этого мальчишки – Мунхэбаяр, потому что был в этих местах два года назад, и мальчишка так же вертелся рядом, и Очир спросил у него его имя. Сейчас он стал подростком, и в его желании дотронуться до инструмента уже выказывались дрожь и настырность.
– Подержи-ка, – протянул ему морин хуур Очир. – Я был в Могойто, и там люди поднесли мне зеленого чая, сушеного творога и немного соли. Давайте будем варить чай, уважаемые! Я сам напрашиваюсь к вам, простите меня.
– Почтенный Очир, – откликнулась женщина, признаваемая за старшую, Аюрзана, – мы не предлагали вам откушать с нами, потому что до такой степени обеднели. Нет у нас чая и белой пищи, все последнее время мы питаемся дымом нашего очага. Однако сохранили мы одну дойную козу. Нам будет чем забелить предложенный вами чай. Мы сейчас пойдем вперед к нашему летнику и приготовим чаепитие, а Мунхэбаяшка сопроводит вас и донесет ваш морин хуур и котомку.
Морин хууры обычно имеют длину в пределах одного метра, но инструмент Очира будто бы стал чуть короче от времени, как и его хозяин, словно поистерся, проходя сквозь тверди невидимых препятствий. Четыре угла его корпуса стали мягче, кожа верхней деки сперва потемнела, потом побелела, потом стала пятнистой, словно в этом проявлялись ее изменчивые мысли, а нижняя деревянная дека словно навощилась и стала бархатистой. Может быть, это звуки, извлекаемые Очиром при помощи дугообразного смычка из неизвестного черного дерева, так изменили корпус инструмента? Шейка его с головкой лошади блестела, словно отполированная, и напоминала обработанный гагат. Струны у морин хуура две, и можно было быть уверенным, что у чтящего традиции Очира мужская струна именно с хвоста резвого азарга-скакуна, и столь же бодро звучит, и в ней сто тридцать волосков; и что женская струна взята от нежной гуун-кобылы, вылизывающей своего недельного жеребенка, и у нее сто пять волосков.
Юный Мунхэбаяр понес инструмент, привстав на цыпочки и вытянув шею. Он был совершенно деревенский подросток и думал, что таким образом он выражает уважение и благодарность за оказанное ему доверие. Котомку Очир ему не отдал, смычок понес сам и спросил Мунхэбаяра, одетого в огромный солдатский френч, подпоясанный неплохим ремнем с ножом в ножнах:
– Отец твой, хубуун, верно, на войне?
– Вернулся, убгэн эсэгэ, – сказал Мунхэбаяр простодушно. – Без ноги и без другой ноги. Он выделывает кожи, но сейчас к нему их редко приносят.
Они шли довольно споро. Легкого как перышко Очира словно вели под руки невидимые духи. А Мунхэбаяшка был легок как другое перышко.
– Убгэн эсэгэ, – решился поддержать разговор мальчик, – расскажите, а далеко ли простираются улусы?
– Они везде, – откликнулся старик. – Везде, куда бы я ни шел, улусы и юрты. Не встречались мне другие места. Здесь ведь главное – всегда идти по кругу, сансарын хурдэ, и ощущать родное.
– Я бы так хотел отправиться путешествовать! – воскликнул Мунхэбаяр. – Когда я иду один по степи, я всегда пою, и петь мне бы хотелось бесконечно!
– Бесконечна только песня про Абая Гэсэра. Но ты, должно быть, еще не выучил ее… – Старик почувствовал в мальчике родственную душу. – Спой мне, что умеешь!
– Чтобы петь, мне нужно только Вечное Синее Небо, я не умею петь при людях, – огорченно сказал Мунхэбаяр, но, помолчав, добавил: – Я не могу отказать вам в вашей просьбе, убгэн эсэгэ.
Он вздохнул и запел, и Очир поразился его глубокому чистому голосу, едва не задохнувшись от наплыва радости.
- У моего Отца бессчетные табуны,
- Но холю я Саха-жеребенка.
- Ночью я ищу не заблудившуюся овечку,
- А Большую Медведицу на Небе.
- Когда идет волнение на море,
- Прошу я ясности, чтобы видеть в его зеркале
- Великое Вечное Синее Небо…
– У тебя необыкновенный голос, хубушка! Я же много лет слышу только свои песни. Мой голос никуда не годится. Пора мне расставаться со своим телом и обретать новое. Я так находился по пыльным и снежным дорогам и без дорог, что мечтаю стать маленькой сосенкой, захватившей корнями комок земли и стоящей среди затаившегося таежного подроста. Но и тогда, наверное, я бы стал напевать предания. Мне кажется, деревья всегда напевают предания. Недаром у моего морин хуура почти все сделано из дерева.
То, что женщины назвали летником, было им лишь отчасти, здесь теперь они жили и зимой, и летом. Посреди большой поляны, затененной березами, стояла старая-престарая изба, сложенная в виде восьмиугольной юрты из обрезанных коротко сосновых бревешек, а вокруг нее на отдалении располагались бревенчатые стайки и навесы, сейчас пустующие. К коновязи была привязана для дойки крупная коза с красиво лежащей серовато-белой шерстью, словно ее каждый день расчесывали, и не по одному разу. А у юрты на низкой скамеечке сидел безногий исхудавший мужчина в выцветшей солдатской гимнастерке и курил трубку.
Женщины уже раскочегарили шаявший потихоньку костер и вскипятили родниковую воду. Очир передал им мешочек с чаем, и соль, и высушенный творог, что они приняли со смущением бедняков. В одной большой деревянной чаше у них лежали очищенные луковицы саранки, в другой – сочные зеленые сосновые веточки-подросты, очищенные от иголок, в третьей – малиновые цветы багульника, словно это была подготовка к ужину древних собирателей палеолита. В здешних окрестностях степь граничит с тайгой, и порой степняков выручают ее дары. Тут появилась стайка подростков, сверстников Мунхэбаяра. Довольные и разгоряченные бегом, дети показали всем попавшегося в петлю вылинявшего и успевшего отъесться лохматого пегого зайца, накрепко связанного ими веревкой из конского волоса. Они заметили улигершина, о котором много слышали и помнили его по прежнему приходу, и дружно поклонились ему. Аюрзана велела им пока выпустить зайца в клетку и сказала, что сейчас будет приготовлен настоящий чай. Под навесами висели пучки трав и пахло ая-гангой, и уже давно здесь вместо привычного зеленого чая с молоком, солью и сливочным маслом готовились целебные травяные отвары.
Очир увидел большую клетку, сплетенную из ивовых прутьев. Конечно, в ней зайца нельзя держать долго, ива для него лакомство. Старику захотелось остаться среди этих людей. Он давно уже носил мысль, где бы остаться. И все не находил себе преемника, кого бы мог научить древним улигерам. У него был такой молодой ученик, но он погиб в Маньчжурии, на Русско-японской войне. И еще раньше был ученик, но его унесла оспа. Очир всегда находил учеников, они у него были еще сто лет назад, но тяжелая жизнь и пренебрежение к таким людям накатывавшей цивилизации не давали им устояться. Старик за недолгий путь и недлинную беседу проникся симпатией к мальчишке Мунхэбаяшке и решил, что передаст улигеры и морин хуур ему. Вместе они сделают новый морин хуур. Однако… где же найти резвого скакуна и родившую кобылицу для его струн?
Старик подсел к безногому солдату и спросил, как его зовут. Безногого звали Ринчин, и его привезли к своим миновавшей зимой. Ноги Ринчин потерял на Первой мировой, долго лежал в лазарете под Петроградом и еще дольше добирался домой. Он рассказал Очиру, что видел в лазарете прекрасных царевен Ольгу и Анастасию. Они раздавали тяжелораненным воинам подарки – шоколад, печенье, книги, конверты и письменные принадлежности. Они вручали каждому по православному Евангелию, но, видимо, были предупреждены, что Ринчин буддист, и вручили ему свиток с мантрами. Он же был безутешен: ноги-то не вернешь. Пока он воевал, он немного подучился русскому языку и понял из слов своего доктора, что его доставят домой волонтеры.
Но потом царь отрекся от престола, весь порядок был нарушен, и Ринчин уже решил, что никогда не достигнет родных кочевий. Он видел, как раненых и не ходящих офицеров выкидывали из палат, пинали и расстреливали, и равнодушно ждал расстрела, считая это для себя лучшей участью. Но сосед по палате сказал, что теперь власть солдатская и его не тронут. И что офицеры получили по заслугам, потому что это они вели солдат на бойню войны. Такое злое настроение соседа было непонятно Ринчину, как и многое другое, но он осознал, что его отправят домой, и долго ждал этого часа, наблюдая и слыша странные очень грубые и злые вещи. Домой ему не хотелось, как безнадежному калеке, но наконец, не спрашивая, его посадили на телегу, потом на поезд и повезли в Верхнеудинск. А там уже были все свои, они понимали его речь, они расспросили его, кто он такой, и доставили к остаткам рода, порушенного Гражданской войной.
– Мунхэбаяшка – твой сын? – спросил Ринчина Очир.
Он уже знал это, но ему хотелось отвлечь внимание собеседника от прошлых переживаний и вернуть к действительности. А тот не мог отвлечься.
– Мунхэбаяшка – мой единственный сын. Когда привезли меня сюда, я не нашел ни жены, ни родителей, ни подросших дочерей. Нашел одного сына, которого я оставил пятилетним. Теперь ему почти четырнадцать. Девять лет я провел на чужбине. И теперь перед моими глазами стоит увиденное и мешает мне видеть сегодняшнее. В голове постоянный туман. Если бы у меня были ноги, я бы быстро забылся в труде, а так я без конца предан размышлениям.
Аюрзана пригласила мужчин к чаепитию. Ее зутараан сай был приготовлен по всем правилам, хотя и не нашлось муки, чтобы пережарить ее и добавить в напиток, и не было масла. Вкус чая со всеми добавками здесь и не помнили. Зато размешали его в котле по очереди девять женщин и девочек по сто восемь раз. И от этого он приобрел изысканно тонкий вкус.
Очир обратил внимание, что присутствующих за чаем было два раза по девять, и это было благоприятно. Аюрзана сама разлила чай по аянга-пиалам и сказала, что от имени всех преподнесет полную аянгу бурхану. Из половника она угостила огонь, а потом отошла от собравшихся и побрызгала хозяевам земли, прося благополучия всему живому, от человека до муравья. Затем семья приступила к чаепитию, передавая друг другу чашку с сушеным творогом, чтобы каждому достался свой комочек. У костра, рассеивающего легкий едковатый дымок и избавляющего чаевничающих от назойливых комаров, совсем не было маленьких детей. Очир хотел было приступить к игре на морин хууре, но Аюрзана сказала ему:
– Почтенный Очир, мы помним, что вы умело проводите обряд магического гадания. У нас есть один важный назревший вопрос. Умоляем вас, обратитесь к духам с нашей просьбой разрешить его.
– Каков же ваш вопрос? – откликнулся Очир, убирая морин хуур с колен и проводя правой рукой по длинной своей истончавшей белой бороде, словно это некий обряд.
– Вы, наверное, заметили, что в нашей семье нет маленьких детей. Нашему единственному мужчине Ринчину симпатизирует одна молодая бездетная женщина. Он же замкнут на мыслях о трудных былых днях. Мы много раз обсуждали все это в своем кругу, но, страшась неизвестности будущих дней, не смогли составить мнения, нужно ли нам сводить их вместе для создания пары.
Ринчин, подъехавший к чаепитию на маленькой деревянной тележке с двумя пешнями для отталкивания от земли, не реагировал на эти слова Аюрзаны. Видимо, он уже знал о намерении женщин женить его. Аюрзана продолжила:
– Нам сообщили, что в Верхнеудинске создана на века Бурят-Монгольская Республика. Раньше все думали, что царь у нас на века. И что-то не верится нам в эту республику. Спросите и об этом у духов, почтенный Очир!
Очир, не переставая в задумчивости поглаживать бороду, произнес, улыбнувшись:
– Духам можно задать три вопроса, спрашивайте еще, уважаемые!
– Тогда спросите еще у духов, убгэн эсэгэ, как бы нам разжиться скотинкой.
– Задам духам все три вопроса ночью, а утром сообщу ответ. А вы все крепко спите. Найдется ли у вас для моего ночлега какой-нибудь шалашик? – Очир все поглаживал бороду и улыбался.
Зубы у него были все целехоньки, и он еще в прошлый свой приход сюда объяснил, что они выросли вторично, появившись после его трехдневной почти непрерывной игры на морин хууре и пения сказания об Абае Гэсэре. Ему верили и не верили, а верить хотели больше.
– Мы вам в один миг построим шалаш! – воскликнули дружно женщины и дети.
– Вам придется отпустить зайца обратно в лес, – сказал еще Очир, – иначе его дух будет смущать мое гадание. Убьете его – будет смущать мертвый дух, а не убьете – живой.
Среди подростков пронесся недовольный шепот. Аюрзана приказала им:
– Выпустите зайца. Нам очень нужно знать правду. И как разжиться доброй скотиной в том числе.
Суета вокруг туулашки-зайца расстроила желание присутствующих слушать улигеры. Дедушкин концерт решено было перенести на завтра. А ему это и было нужно. Он очень хотел задержаться здесь, чтобы продолжить беседу с Мунхэбаяром. А пока он повел разговор с его отцом об изготовлении нового морин хуура, начав с того, что Ринчин – кожевник и сможет выделать из кожи верхнюю деку инструмента.
Мужчины остались вдвоем у костерка, испускавшего дымок по ветру вслед заходящему за Байкал солнцу. Женщины и дети почтительно удалились. И, кажется, все вместе взялись возводить шалаш для Очира в том месте, куда он указал. Подростки выловили зайца, резво бегавшего по клетке с душистой травой. В крепких их объятиях зверек расстроенно притих. Женщинам и детям хотелось дотронуться до него, и они гладили длинные дрожащие уши, а потом под крики «гуй, гуй» заяц был выпущен.
История молодой женщины Долгеон, которую хотели выдать за безногого Ринчина, была такова. Лет пять назад у нее был жених, сын Аюрзаны. Он ушел с зимним обозом в Верхнеудинск и не вернулся. Аюрзана поселила невесту сына рядом с собой, она все надеялась, что сын вернется, невеста надеялась на возвращение жениха. Но шаманы, которых тогда было много в Баргузинской долине, поведали Аюрзане о пропаже всего обоза, расхищенного бандитами. «Твой сын уже переродился в новом облике», – утешили шаманы мать.
Долгеон, грустя, привязалась к осиротевшему внуку Аюрзаны Мунхэбаяшке. Она стала следить за его одеждой, чтобы она не была рваной и была теплой зимой. Из каких-то неведомых лоскуточков Долгеон ставила заплаты на его халат и штаны и раздобыла неведомо где утепленные мужские гуталы. Постепенно нога мальчика доросла до их размера. Долгеон пела Мунхэбаяшке старинные песни и стала для него незаменимой. Аюрзана и другие женщины незаметно поощряли эту привязанность. Им всем было нелегко, все они потеряли мужей и близких, они понимали Долгеон и даже подражали ей, занимаясь своими детьми.
И тут привезли Ринчина. Невольно Долгеон оказалась вблизи него. Подбрасывая дрова в очаг деревянной юрты или растирая случайно доставшееся ей зерно на зернотерке, она скрытно наблюдала за отношениями отца и сына, девять лет не видевших друг друга. Поначалу Мунхэбаяр садился рядом с Ринчином, как почтительный сын, и беззвучно плакал в полутьме жилища. Плакал от ужаса, что у отца нет ног, и представляя, как он их потерял, словно это произошло с ним самим. Ринчин не замечал его слез, он сам находился в напряжении, считая свое беспомощное положение позором для мужчины. Он видел в глазах женщин и детей плохо скрываемый ужас. Так было в первые дни. Потом к нему стали привыкать, звуков мужского голоса всем так не хватало! Ужас перед его искалеченным телом отошел на задний план. Ринчин замечал тонкий такт женщин и детей по отношению к нему, но это вряд ли его успокаивало, хотя вскоре он смог отшучиваться, рассказывать о тех краях, в которых побывал с винтовкой в руках. Тогда только он заметил, что глаза сына мокры от слез, когда тот часами сидит рядом, и довольно грубо отослал мальчика подальше. Дескать, нечего бездельничать. Мунхэбаяр обиделся на него и ушел, ведь он сидел рядом из чувства долга. Долгеон как могла объяснила мальчику, что отец обошелся с ним грубо по растерянности, он отвык от своих, девять лет был совсем одинок, больше одинок, чем сын.
Ринчин рассказывал, как они воевали:
– Больше, чем сидели в седлах, мы прятались окопах в царстве Польском, грязные и голодные, пищу нам привозили такую, что нельзя было есть ее без злости. Как только немец начинал атаку, мы шли и стреляли в него с невероятным гневом, считая, что он повинен в наших бедах. Мы словно расстреливали все пространство впереди, и из него выпадали вражеские трупы. А если убивали наших, мы мстили еще сильнее, не считаясь с собственными жизнями. Когда убивали наших командиров, мальчишек в чистых аккуратных мундирах, с чистыми белыми лицами, нам бывало их очень жалко, потому что они походили на невинных детей. Мы сражались и часто побеждали, постепенно попадали в число убитых или тяжелораненых, и вместо нас появлялись другие. Они рассказывали своим о том, что происходит там, за линией фронта, но я мало что в русской речи понимал. Они делились рассказами со своими в часы затишья, а я наслаждался тишиной и воспоминаниями о родных кочевьях. Поначалу в нашем подразделении было немало земляков. Но потом они все выбыли из строя. Мне кажется, я из них остался последним, потому что мой конь ловко уворачивался от пуль. Но потом его убили, я решил добыть нового коня у врага и ступил на заминированное поле…
Как вы помните, купец Чагдар Булатов покупал Сагаалшан-кобылицу в Польше, но было это много позднее, чем там сражался Ринчин, и встретиться они не могли. Когда Долгеон объясняла Мунхэбаяру, что нужно простить отцу обиду, она впервые подумала о Ринчине не как о непонятном герое войны, внушающем ужас своими ранами, а как о сильно пострадавшем человеке. Она стала думать о нем еще, и он вошел в ее мысли. За ним ухаживал сын, она стала спрашивать сына, чем ему помочь, и так, помогая Мунхэбаяру, Долгеон сделала еще один шаг навстречу Ринчину. А потом как-то раз подала ему сама миску с бухлеором из добытой подростками таежной дичины, и Ринчин стал ей еще ближе, потому что от него шло такое же родственное ощущение, какое она испытывала к Мунхэбаяру, совершенно привыкнув к мальчишке. Долгеон тревожилась за него, когда он надолго уходил в степь. Она ведь не знала, что он уходит сочинять и петь песни. И ей захотелось, чтобы между отцом и сыном не было отчуждения. Тогда сын меньше будет пропадать где-то. Если Мунхэбаяр под ее влиянием совсем размяк, то Ринчин сохранял отчужденность. Но вот он выделал сколько-то заячьих шкур, и матери сшили из них своим детям малгаи и рукавицы. А Мунхэбаяр избегал таежной охоты, и Долгеон сама отправилась с подростками добывать зайцев. Ринчин укорил Мунхэбаяра и впервые произнес имя Долгеон, сказав, что она хорошая женщина. Сын все равно не пошел на охоту, он сказал, что будет пасти козу и отвечать за нее, и с этим все согласились, потому что были уверены, что Мунхэбаяр справится с таким ответственным делом. Ответственным, поскольку кроме козы неоткуда взять молока, да и пух у нее очень обильный.
Долгеон принесла зайца, потом другого. Ринчин выделал шкурки, и Мунхэбаяр предложил ему сшить малгай для Долгеон – это было справедливо. Женщины украдкой наблюдали, как Ринчин шьет малгай, вытирая испарину со лба тряпицей, и, когда он неведомо откуда извлек красную бусину дэнзэ и пришил ее по верху шапки, они зашептались о том, что надо выдать Долгеон за Ринчина.
В этот летний вечер Очир и Ринчин долго сидели у сближающего их костерка, и Очир рассказал Ринчину, что Мунхэбаяр имеет редкий певческий талант и сочиняет песни. И что это его тайна, он очень стесняется. И Ринчин понял Очира. Он сказал:
– Давайте, убгэн эсэгэ, сделаем ему морин хуур при вашей помощи. А вы научите его петь улигеры. Я заметил, что он парень с нежной душой. Даже зайца или суслика не может убить. Куда же это годится! А я сошью вам что-нибудь из одежды, когда насобираю шкурок.
Ринчин вспомнил, что петли на зайцев ставит Долгеон, и замолчал, потому что здесь нужна была ее помощь.
Тут прибежали дети, приглашая Очира в сделанный для него шалаш, и Ринчин остался один. Надо сказать, что Мунхэбаяр не принимал участия в подготовке шалаша, а сидел на почтительном расстоянии от отца и Очира, с молчаливого согласия родичей. А иначе они бы окликнули его и позвали работать. У Мунхэбаяра было особое положение: у него одного был отец, и отец нуждался в его помощи.
Он наблюдал за дымком костра, в который отец время от времени подбрасывал валежник. Он сидел очень тихо, слившись с вечером, его негромкими звуками и тускнеющими красками. А когда отец остался один, Мунхэбаяр вскочил и приблизился к нему.
– Присаживайся, хубушка. – Ринчин показал ему место напротив себя. – Рассказывай отцу, что ты хотел бы делать для своего рода?
Мунхэбаяр замялся. Он еще раньше понял, что ничего не хочет, кроме того, чтобы уходить в степь и петь для нее и Неба. Но разве это дело?
– Не козу же пасти. – В его голосе прозвучала обида.
– Мы долго говорили с почтенным Очиром. Я хочу сделать тебе морин хуур и чтобы ты обучился у Очира улигерам, сказанию об Абае Гэсэре, гаданию «Шагай». Но для инструмента пока нет у нас телячьей кожи, нет конского волоса для струн.
– Как же нам быть? – в голосе Мунхэбаяра прозвучала заинтересованность.
– Я думал, но не придумал. Многое зависит от гадания убгэн эсэгэ. Если он скажет, что новая республика на века, то я отправлю тебя в город учиться.
– Как? – удивился Мунхэбаяр.
– А если республика – на год, о чем говорят приметы непостоянства в пространстве и времени, то я не смогу отпустить тебя. Это опасно. Без большой власти бандиты непобедимы.
– Ну да, – согласился Мунхэбаяр, помнящий историю с женихом Долгеон.
Он не решался произнести ее имя в присутствии отца, а отец не приводил этот случай, потому что не решался произнести ее имя в присутствии сына.
– Я расскажу тебе вот что, хубушка, – начал Ринчин. – Я повидал много мест и городов и сделал свои выводы. Степь наделяет людей силой, а в городах они проявляют свои способности к искусным занятиям, к которым лежит душа. Занятия постигаются через обучение. Тебе надо учиться. Если бы не старик Очир, я бы пребывал во тьме относительно твоего будущего. Но теперь я вижу, что убгэн эсэгэ может преподать тебе начала. Но только начала! Почему я так говорю? Когда я лежал в лазарете, я видел не только прекрасных великих царевен, принесших нам подарки. Для нас пел Федор Шаляпин. Это великий улигершин. Ты можешь себе представить, он пел для нас, раненых солдат, простофиль и невежд! Он столько зарабатывает своим голосом, что даже смог открыть на свои деньги два лазарета для таких, как я, и деньги его лились рекой для тех, кто нуждался. Теперь ты представляешь, сколько можно заработать, если у тебя есть голос? – И добавил, помня, что Очир рассказал ему о редком голосе сына как о тайне: – Правда, я не знаю, есть ли у тебя хоть какой-нибудь голосишко. Одно дело, что я предлагаю тебе у Очира научиться петь улигеры. Город – это совсем другое дело. Там людей много, кто заметит тебя?
– Этот человек, Шаляпин, видно, знатного рода. Мне не возвыситься до царей, – задумчиво произнес Мунхэбаяр.
– В чем и дело, что нет! Мой сосед по палате, русский, ему тоже отняли ноги, как и мне, рассказал мне, что Шаляпин из наибеднейшей несчастнейшей семьи. Ему помогло Великое Синее Небо. Если бы оно и тебе что-то дало, оно бы и тебе помогло.
– Положим, дало, – снова приобиделся Мунхэбаяр. – Убгэн эсэгэ сказал мне, что у меня красивый редкий голос.
– Ну, – откликнулся Ринчин, выбивая трубку, – никогда не слышал твоего голоса, по моему мнению, ты, Мунхэбаяшка, настоящий тихоня.
Табак, которым его снабдили в Верхнеудинске в числе выданного красноармейского пайка, давно закончился, и Ринчен курил приятную смесь толокнянки с полынью, мятой и шлемником, заготовленную Аюрзаной прошлым летом. Она тоже любила подымить трубкой, доставшейся ей от бабушки ее Рэгзэмы.
Улигершин Очир укладывался спать в своем шалаше, воздвигнутом с большим старанием. У женщин нашлись для шалаша готовые рогатины и жердины, а свежие березовые ветви, покрывающие его, были наломаны в колке неподалеку. Их запах способствовал ровному дыханию и сну. На пол было постелено высохшее сено, а солдатское одеяло отдал Ринчин. Очиру доводилось ночевать и в беловойлочных юртах, и в купеческих каменных домах Верхнеудинска и Кяхты, но и на земле доводилось ночевать тоже, и сейчас он был очень доволен своим спальным местом.
Такими, как Очир, скреплялся народ в старые времена. Шагая с котомкой от хотона к хотону, от улуса к улусу, а по молодости и верхом проезжая, он нес свет отточенной веками мудрой культуры, его знали и его ждали, от его мелодий и слов ярче горели огни очагов, его сказания перенимали люди. Культура по-бурят-монгольски «соёл», и любое ухо в России уловит смысл этого слова: солнечная, солнце, соло. «Соло» – от единственности солнца в небе, и всякий солист есть солнце культуры, каким и был Очир с его морин хууром, солнцем-инструментом. Морин, конь – у многих народов – это знак солнца, а о том, что «хур» означает «солнечный», мы уже говорили. Таким образом, и слегка переиначенное слово «культура» будет звучать как «культ хуура».
Укрывшись суконным солдатским одеялом, привезенным Ринчином из петроградского госпиталя, Очир мгновенно уснул, настолько он был частью засыпающего сущего, природы и мира ближайших духов. Ему снились холмы Улгэн-земли и сам Абай Гэсэр мальчиком, сон был желанным и радостным.
Очир проснулся перед восходом солнца и потянулся к котомке, вынул мешочек с костяшками Шагая. Потом он вышел, вдохнул предутреннюю прохладу, навестил костер. Тот тихонько шаял, уголь светился красно, и Очир решил, что подкормит огонь после совершения гадания. Он испил воды из просмоленного большого туеса и вернулся в шалаш. Он попросил Аюрзану выход шалаша сделать на север, сказав, что по самому старинному способу молиться и гадать надо на север, на Полярную звезду.
Хотя Очир откинул полог, в шалаше было сумрачно, так что цвет костяшек был неразличим. Но их цвет был скорее украшением, а что выпадет, можно было различить на ощупь, шарком, как говорили в старину. Костяшки для гадания берут из лодыжек овец, маленьких и аккуратных. В русских домах Баргузина, да и во всех по побережью Байкала, хранятся мешочки с такими раскрашенными лодыжками, в них играют русские дети и обмениваются ими, не догадываясь об их истинном предназначении. У Очира они были новешенькие. Совсем недавно он побывал в родной Иволге и гостил у одной уважаемой старухи-гадальщицы, Танжимы. Она красила костяшки для людей, славясь тем, что костяшки ее работы производили правильное гадание. С Очиром они обменялись мешочками в знак большой старинной дружбы, хотя обычно в знак дружбы меняют лодыжку на лодыжку. Танжима представляла, какие старые и полустершиеся костяшки-лодыжки носит Очир в своем мешочке, им не менее пятидесяти лет, и она давно приготовила ему мешочек новых, а он все не шел и не шел, хотя молва говорила, что он жив и обязательно появится на тоонто-родине, месте, где зарыт его послед.
Танжима любила окрашивать костяшки отваром травы зверобоя, дающим красный цвет, цветами ириса, дающими фиолетовый, и крапивой – зеленоватый, но в нынешнее военное время она разжилась зеленкой, йодом, марганцовкой, и теперь вышедшие из ее рук изделия выглядели новомодно. Мы все время пишем «время», «во времена», забывая, что для Очира не существует понятия времени, новое он воспринимает не в качестве приметы времени, а как-то совсем по-другому, что не поддается обыденному толкованию.
Очир свернул солдатское одеяло так, чтобы оно образовало ровный квадрат, заменяющий стол, взял из мешочка четыре костяшки, подержал их в ладонях и прошептал первую загадку-желание. На первое место он поставил гадание о республике, поскольку народу хотелось, чтобы власть, а не безвластие, стояла вечно; тогда и можно будет глядеть в дальнюю даль и задавать себе задачи. В гадании есть четыре позиции, сколько сторон у лодыжек. Выпуклые стороны – лошадь и овца – считаются счастливыми, а вогнутые – коза и верблюд – не слишком, у коз зачастую скверный характер, а верблюд – это путешествие по неблагоприятной местности, хотя это великое животное.
Шепча в ладони, Очир невероятно взволновался, чего не ожидал от себя. Однако, ощутив волнение и даже трепет, он только тогда понял, какую громадную задачу задал сущему. И после этого осознания он взмолился Абаю Гэсэру, прося его помощи, и снова повторил загадку-желание своих друзей. Очир зажмурился, бросил костяшки на одеяло и открыл глаза. Свет уже понемногу стал проникать сквозь откинутый полог, и ему показалось, что костяшки легли выпуклой стороной. Он боялся дотронуться до них, чтобы нечаянно не перевернуть, и, сидя перед ними на коленях, подождал, когда света станет побольше. Ему показалось, что выпало четыре коня – самый благоприятный знак. Он и не помнил, когда так выпадало в его гаданиях, насколько редко выпадает людям счастье. Наконец, света стало еще больше, и он уверенно произнес:
– Четыре коня помчат республику бурят-монголов сквозь века!
Очиру очень хотелось, чтобы исполнилось и его желание передать свои знания Мунхэбаяру, чтобы подросток стал его преемником, и ему выпали три коня и один верблюд, в чем старик увидел подвох; вероятно, нынешнее местопребывание не есть конец его путешествия. Однако думать над этим было некогда, надо было завершить гадание до того, как люди проснутся и спугнут тонких духов промыслительного мира, как сказали бы мы – ноосферы. Очир загадал на соединение Ринчина и Долгеон, выпали два коня и две козы, что означало некоторые препятствия, и об этом тоже надо было ему подумать – какие. А на вопрос о том, чтобы разжиться домашним скотом, о чем Очир думал, что такое желание неисполнимо, ведь он многие местности обошел и видел, что скота у людей совсем нет, костяшки неожиданно показали два коня, одного верблюда и одну козу, что было очень хорошо. Верблюд означал, что домашний скот прибудет издалека.
Очир долго сидел в раздумьях, что же он скажет людям, а они тем временем просыпались, уютно потянуло дымом костра и запахом крепкого травяного отвара, сдобренного козьим молоком, отвар настаивался, заменяя завтрак. Очир бы еще сидел и думал, но вдруг вспомнил, что Мунхэбаяр уведет козу пастись и он не увидит мальчишку, и отправился к костру. И сидящие пропустили его поближе к огню, и Аюрзана стала разливать отвар по аянга-пиалам. Завтрак прошел в полном молчании, присутствующие волновались о том, что может сказать им Очир, и вздыхали, что неведение все-таки лучше и хорошего, и плохого.
– Я расскажу вам о подвигах Абая Гэсэра вечером, – начал Очир. – Сейчас трудно, но он вернется, и наступит Царство справедливости, так предсказано преданием. Как оказалось, как сказало мне гадание Шагай, новая республика бурят-монголов на долгие века, ее колесницу повезет четверка дружных волшебных коней, и Абай Гэсэр этому пути покровительствует. Встанем и станцуем ёохор, приветствуя эту невероятно благую весть.
Женщины и дети заулыбались, и поднялись, и подали друг другу руки для дружного танца, такие исхудавшие, что это им далось легко, словно ветерок и духи подтолкнули. Мунхэбаяр взял за руку приятеля Ниму с одной стороны, а с другой взял за руку девушку Саруул, довольный больше всех других, а ведь никто еще не знал, что он задумал отправиться в Верхнеудинск. Мунхэбаяр посмотрел в сторону отца, – а удобно ли ему будет, пока они танцуют ёохор? Но тут оказалось, что все присутствующие об этом подумали тоже, и заключили его в кольцо, и танцевали ёохор вокруг костра и вокруг Ринчина. И когда остановились, сели, глядя на Очира, что же он скажет еще. А он долго молчал, и все снова пили отвар, и наконец он сказал:
– А сейчас мы еще будем танцевать ёохор. Гадание показало, что скоро у вас появится домашний скот.
Тут раздались более чем удивленные восклицания:
– Как! Да откуда! Не может быть! С какой стороны света ждать нам его?
На это Очир не мог ответить. Все не в лад закружились снова, потом веселее, чем поначалу, так как теперь радовались не только сердце и ум, но и желудки, в которых булькал отвар.
– И вот теперь я отвечу на самый тонкий вопрос – о соединении пары. – Очир посмотрел в небо, потом на остановившийся танец и пояснил: – Выполнимо, но есть некоторые препятствия.
Все прошлись еще вокруг костра и Ринчина, глаза которого слезились от дыма, и сели, и Аюрзана на радостях разлила всем еще по пиале отвара. Надо сказать, в этом году они еще ни разу не танцевали – так были слабы и унылы. Когда пиалы опустели, неожиданно раздался голос Мунхэбаяра:
– Я не буду больше пасти козу! Пусть пасут ее девчонки! Надо же – коза! Я буду учиться у почтенного Очира сказаниям, игре на морин хууре и всему, что он сочтет возможным преподать мне.
– Конечно, конечно, – согласилась Аюрзана, – пусть козу пасут девчонки! Подумаешь, коза!
И она заговорщицки посмотрела на Очира и остальных.
И вскоре все разошлись по работам, а Мунхэбаяр стал тихонько повторять вслед за Очиром:
- У священного желтого дерева
- На каждой ветви горящие свечи,
- Девять сказаний древних,
- В каждом сказании сеча[5].
Что же Долгеон? Как отозвалось ее страдающее сердце на сообщение древнего гадания Шагай?
Долгеон, по-своему истолковавшая гадание Очира о препятствиях на пути ее и Ринчина, сделалась грустна и забывчива. Все валилось из ее рук. И когда она уронила и разбила одну из драгоценных фарфоровых аянга-пиал, напоминавших о счастливых днях семьи, прабабушках и бабушке Рэгзэме, пивших чай из нее, женщины зашептались с Аюрзаной. Было, наконец, решено оставить Ринчина и Долгеон одних на летнике.
Аюрзана потеряла любимую дочь – жену Ринчина и любимого сына – жениха Долгеон. И теперь ей оставалось только соединить Ринчина и Долгеон, не родственных между собой по крови, подняться над тем, что было больше принято традицией, подняться, подобно степной орлице, видящей далеко и всех сразу. Аюрзане пришлось взять в союзники Очира, пошептавшись с ним, чтобы он в назначенный день удалился с учеником куда-нибудь в степь пособирать редкие травы, о назначении которых он столько знал.
И вот на следующее утро после того, как пиала была разбита и теперь пиал не хватало на всех, Аюрзана закричала на Долгеон, наливая молоко козы в травяной отвар:
– Что ты натворила, Долгеон! С разбитой пиалой словно разбилось мое сердце! У нее был особенный угалза-узор! Это была пиала бабушки Рэгзэмы! Как ты могла так поступить! Сегодня я оставляю тебя сделать уборку в нашем летнике, все перемыть и вычистить. Попробуй только еще что-то уронить и разбить! Я тогда всем скажу, что ты приносишь несчастья!
Долгеон опустила голову.
– Хорошо, – сказала она и отошла от костра, не посмев участвовать в чаепитии.
Мунхэбаяр тоже опустил голову. Он поставил свою пиалу с горячим отваром перед Аюрзаной и отошел к Долгеон, жалея ее. Конечно, еще вчера вечером тетя поговорила с ним, что надо бы сделать опеку Долгеон над Ринчином более близкой, ведь юному сыну трудно будет усидеть возле отца-калеки.
– Дело не в этом, – сказал Мунхэбаяр. – Я скоро разучу много улигеров, и у меня будет свой морин хуур, я буду радовать отца. Но мне бы не хотелось, чтобы Долгеон ушла из нашего рода. Она ведь может захотеть отправиться к своей родне, и мы ее не удержим. Она так расположена к моему отцу, что лучшей помощницы для него и не найти.
Мунхэбаяр таил пока от бабушки, что собирается уйти в город, чтобы учиться там. Отец сказал ему, что, если в городе не обнаружат у него большого голоса, он сможет стать учителем игры на морин хууре. А если же Царство Абая Гэсэра действительно близко и придет, то тогда инструменты сами запоют стройнее и слаще, а люди станут такими радостными и способными, что смогут осуществить все свои самые заветные желания.
Аюрзана была довольна ответом внука и пояснила ему:
– Для того чтобы сблизить твоего отца и Долгеон, надо оставить их одних на летнике, и они тогда невольно поговорят друг с другом. Люди всегда находят возможность остаться наедине и поговорить друг с другом, но твой отец стеснен в движениях и не может отдалиться от общей площадки. Поэтому мы все должны покинуть их у костра под благовидным предлогом на целый день.
– Убгэн эсэгэ говорил мне, что мы надолго пойдем в степь собирать редкие травы, которые знает он и не знаем мы. Я смогу поступить как необходимо.
– Имей в виду, зээ-хубуун, – добавила довольная бабушка, – чтобы оставить Долгеон и Ринчина вдвоем как бы нечаянно, мне надо упрекнуть ее за разбитую пиалу. Надеюсь, ты не будешь после этого считать меня слишком мелочной и грубой.
– Конечно, конечно, – согласился с бабушкой Мунхэбаяр.
И вот теперь он все же обиделся на нее, словно забыв про уговор. И все вышло так естественно!
Ринчин промолчал, но понял, что, если бы Долгеон была его женой, он бы мог сказать, что отдаст деньги за разбитую пиалу. А деньги здесь были только у него одного. Увы, их было достаточно, чтобы купить дюжину-другую чашек, но никак не хватило бы на худенького конька или остриженных овечек. И все же – деньги здесь были у него одного!
Быстро покончив с нехитрым скудным завтраком, женщины и дети ушли на поиски пропитания в степь и тайгу, Очир с Мунхэбаяром побрели собирать травы, беседуя о преданиях старины, а расстроенные Ринчин и Долгеон остались неподалеку друг от друга.
Ринчин набил старенькую трубку смесью душистых трав и долго курил, находя в этом утешение и думая о том, как было бы хорошо, если бы Долгеон сидела рядом и тоже курила трубку и рассказывала ему о хозяйственных заботах, а он бы соглашался с ней, давал бы ей советы. И отдал бы ей ассигнации, что вручили ему в Верхнеудинске красноармейцы вместе с продуктовым пайком и махоркой. И тогда бы Аюрзана простила Долгеон. Мунхэбаяр отправился бы в город, а они с Долгеон сели бы на коней и уехали к ее родне. Только коней не было, а ассигнации Ринчин еще вчера собирался вручить сыну для задуманного им путешествия в город.
А Долгеон зашла в деревянную юрту, которая действительно нуждалась уже в хорошей уборке, но до этого не доходили руки. Кто же будет возиться с уборкой в солнечный день, зовущий в степь? И какой смысл делать ее в дождь?!
Зашла и присела на низенькую скамеечку у входа. Ей так было грустно, что сил что-то делать совсем не находилось. «Надо налить себе травяного отвара, пока все ушли, – решила она, – иначе я упаду без сил». Но у костра сидел Ринчин и курил трубку, она помнила это. Ей сделалось страшно. «Как я одинока, – подумала она. – Если бы не эти беды, свалившиеся на нашу землю, сейчас был бы у меня муж, двое-трое ребятишек, внуков Аюрзаны, и я бы не разбила аянги-пиалы, которую выронила от растерянности и горя. Пора мне податься на поиск своей родни… но как я это сделаю, не имея коня! И как опасен путь одиноких теперь! Может быть, убгэн эсэгэ мне что-то посоветует? Даст мне самую сильную на свете защитную мантру?»
На самом донышке заплескались силы. Долгеон поднялась и вышла, но потом долго возилась с матерчатым пологом жилища, поднимая его повыше. Возилась, пока ее не окликнул от костра Ринчин.
– Долгеон, – позвал он негромко. – Иди сюда, попей отвара! На дне он самый крепкий! – И, недовольный тем, что говорит так тихо, а сам герой войны с солдатским Георгиевским крестом, проговорил громко те же слова: – Долгеон! Иди сюда, попей отвара, на дне он самый крепкий! И вкусный.
Когда Долгеон все же приблизилась, помедлив у поднятого полога, он, смелея, повторил те же слова более решительно и добавил:
– Я на германской войне получил Георгиевский крест за храбрость. Неужели ты не можешь попить чаю рядом со мной? Я могу рассказать много интересных историй.
Долгеон показалось, что молчать будет неправильно, хотя она так провинилась. Но, кажется, прабабушка Аюрзаны имела родство с Ринчином только по линии его умершей жены, и провинность Долгеон перед ним не так велика? Или… она еще больше? Ведь из этой пиалы пила чай бабушка его умершей жены.
Долгеон сделала первый робкий шаг – взяла половник Аюрзаны и спросила Ринчина:
– Я налью тебе?
И взяла его солдатскую оловянную кружку, и налила ему полную, а с самого дна насобирала жидкости себе.
– Вот, забрала себе всю силу рода, – пошутил Ринчин. – Теперь сердитая Аюрзана захочет присесть на траву, потом полежать и скажет сама себе: «Какая я бессильная лентяйка! Как бы я сама вскорости не разбила нечаянно пиалы и не опозорилась перед своими! Что они тогда подумают обо мне?!»
Долгеон взглянула на него непроизвольно, удивившись его смелым словам и поняв, что он не очень сердится на нее или совсем не сердится.
– А так может быть?! – воскликнула она негромко. – Аюрзана может уронить пиалу тоже?!
– Конечно может, – уверенно сказал Ринчин. – Она сделает это завтра.
– Не надо так говорить, – возразила Долгеон. – Из чего же она будет пить чай? У нас не осталось ни одной запасной чашки или посудины.
– Она будет пить из своих ладоней. И сильно обожжется, – продолжал развивать свою мысль Ринчин.
– Но ведь я разбила пиалу не совсем случайно, – пояснила Долгеон. – Аюрзана никогда не сделает так нехорошо, как я.
– Не случайно? – удивился Ринчин. – Ты хотела навредить памяти Аюрзаны о бабушке Рэгзэме?
Он закачал головой и, чтобы справиться с осенившей его догадкой, подбросил в костер сосновую валежину, хотя в этом не было необходимости. Кривоватая и сучковатая валежина громко затрещала смолистыми натеками, словно возмущаясь вместе с ним. «Вы меня сжигаете, такую замечательную, а надо бы сжечь какую-то другую».
– Да нет же, – совсем растерялась Долгеон и вынужденно добавила: – У меня было плохое настроение. От этого не совсем случайно. У меня почему-то все валится из рук.
– Почему же? – заинтересовался Ринчин и добавил в оправдание своего любопытства: – Ты сама понимаешь, что я интересуюсь женскими делами вынужденно, потому что не могу отправиться на охоту. Хотя у меня есть отличный револьвер и немало самых лучших патронов.
Ринчин не удержался от хвастовства, не понимая, что именно женихи любят похвастаться, будто баргузинские глухари на весеннем токовище. А Долгеон поделилась с ним своим горем, увязая в откровенности все больше:
– Я здесь всем чужая, Ринчин! Когда я подружилась с маленьким Мунхэбаяшкой и стала присматривать за ним, его бабушка невольно терпела меня. А теперь, когда твой сын вырос и совсем не нуждается во мне, я поняла, что я здесь лишняя. Я хочу уйти отсюда, но не знаю дорог.
– Я знаю, что именно ты сберегла мне сына. – Ринчин тоже начал погружаться в откровенность, невольно становясь для Долгеон ближе. – И я очень благодарен тебе. Он вырос очень воспитанным парнем и все делает правильно. Конечно, он слишком нежен для мальчика, но это точно не твоя вина, Долгеон. Это я был на германской войне и не приучил его к седлу и нашей борьбе бухэ барилдаан. А сколько я способов борьбы узнал за годы битв! Кое-чему я сына уже научил! – горделиво добавил он и, незаметно для себя самого, подчиняясь своей мужской природе, вкрадчиво продолжил: – Зато я знаю дороги отсюда.
Долгеон посмотрела на него ласково:
– Это вряд ли поможет мне, Ринчин! Ведь я еще и очень боюсь бандитов. Наверное, ты бы не отказал мне в моей просьбе и рассказал, как я могу найти род моих предков… А может быть, остановимся на этом? Ты расскажешь мне, как найти моих родных, и я уйду, а ты ведь не выдашь меня? Да и, наверное, я могу уйти не тайно? Я ведь чужая, кто меня удержит?
– По правде, я и сам здесь чужой, я впитал в свои легкие столько горького дыма войны, – не без горечи произнес Ринчин. – И я не понимаю, как из-за какой-то пиалки можно так жестоко ругать и наказывать! На войне я видел, как в обломки превращаются величественные дворцы и самые прочные мосты, как гибнут могучие воины и невинные мирные жители. На моих глазах умирали от ран мои боевые товарищи, не раз прикрывавшие меня во время схваток и спасавшие мне жизнь. А тут – пиалка разбилась! Надо же! И будто бы Аюрзана не видела, как погибло большинство людей в ее улусе, и не лишилась она сама нажитого! А тут – пиалка!
– Горько терять последнее, напоминающее о других днях, – защитила Аюрзану Долгеон.
– Вот теперь ты понимаешь, что у Аюрзаны достаточно было в жизни несчастий, чтобы не начало все валиться из ее рук. Однако же не валится. Это значит, Долгеон, дело у тебя совсем в другом. Не в былых твоих несчастиях и горестях. Отчего же все-таки столь драгоценная пиала выпала из твоих рук?
– Я чужая, – снова начала Долгеон, – я здесь всем чужая.
– До сегодняшнего дня я что-то не замечал этого, – резонно возразил Ринчин. – Еще вчера, когда пиала стукнулась о плоский камень, на который пиалы всегда расставлялись с чем-нибудь горячим, и многие из них вообще-то имеют уже трещины, Аюрзана вздрогнула, однако ничего не сказала тебе, не желая упрекнуть. Да и позавчера, и ранее все были приветливы к Долгеон.
– Тем не менее все изменилось, – вздохнула молодая женщина. – Аюрзана не смогла забыть моего проступка. А теперь и все остальные рассержены на меня. Ты видел, с каким молчаливым укором отзавтракавшие поднялись и как быстро исчезли в степи и меж деревьев? Мой вид стал всем слишком неприятен.
– Так уедем вместе! – воскликнул Ринчин, добравшись до сути того, что он хотел давно и все не решался признаться в своем желании даже самому себе.
В этот момент он совершенно забыл, что у них нет коней, и уже успел вообразить себе, как они скачут рядом на резвых буланых лощадях. Долгеон, конечно, на самой резвой и красивой.
– Вместе? – эхом откликнулась Долгеон и не смогла произнести ничего более, словно из ее рук выскользнула и со звоном разбилась еще одна пиала.
– Конечно, вместе! – В голосе Ринчина прозвучали горечь и надежда, и они словно рухнули с небес на землю, но уже вдвоем.
Долгеон наконец-то опустила половник в котел и присела напротив Ринчина, больше не возвышаясь над ним.
Она стала пить уже остывший напиток, заметив, что он чуть-чуть солоноват; странно, ведь соль старого улигершина у них закончилась.
– Тебе не кажется, Долгеон, что чай немного посолен? – подал голос Ринчин.
– Значит, он и в самом деле посолен, – согласилась она, – двоим не может казаться одно и то же.
– А еще что тебе кажется? – не успокаивался Ринчин.
Долгеон должна была сказать, что ей давно пора взяться за уборку. Но она совершенно забыла об этом и произнесла:
– Что нам надо уехать отсюда вместе. Вдвоем. Но на чем же? Где наши кони?
– В этом-то все и дело! – выдохнул Ринчин. – Нам надо быть вдвоем здесь. В настоящее время – здесь. Если бы у меня были ноги, я бы женился на тебе. А ты, Долгеон, пошла бы за меня замуж, если бы у меня были ноги?
– Ну ты и хитрец! – воскликнула Долгеон, смелея.
Она хотела встать, убежать и где-нибудь спрятаться, чтобы Ринчин долго искал ее и не находил и выкрикивал ее имя с большой тревогой, но у него нет ног, германская война обрезала их слишком коротко.
– Отвечай же! – повелительно воскликнул Ринчин, ведь он был храбрый воин, георгиевский кавалер.
И потом, он ведь спросил не о действительном, а о том, что было бы возможно, если бы он не стал калекой. Он привык на войне настаивать на чем-то в бою, рискуя собой и поднимая к плечу винтовку. Тут он вспомнил про свой семизарядник и хотел было добавить: «Иначе сейчас буду стрелять, пробью пулей этот котел, к примеру». Но жаль стало и котла, и патрона, а потом жаль всего родного, то есть Долгеон и степной тишины с перекличкой птиц и стрекотом кузнечиков.
Долгеон посмотрела в его мужественное и обветренное лицо, в раскосые и родные глаза, смущаясь смотреть, не решаясь произнести что-то действительно важное для нее самой. Если бы это было так просто и важно для одного Ринчина, она бы не затруднилась с ответом. А тут звучала ее доля, которой никогда не было, ничего личного. Ну разве чуть было своего в далекой дали и чуть – в Вечном Синем Небе.
– Отвечай, – уже потребовал Ринчин, не услышавший немедленного «нет, нет и нет!».
– Да, – согласилась Долгеон. – Мне остается только выйти за тебя замуж, потому что ты такой решительный и смелый, что мочи нет, куда деваться.
– Попалась, куропатка, – произнес Ринчин, не сводя с нее глаз, так как он теперь только мог наглядеться, как она красива, с нежным румянцем, проступающим сквозь смуглость щек, и заманчивым блеском черных глаз, черных очей, как поется в русской песне, что он слышал на войне. – Набей мне трубку! – приказал он.
Долгеон потянулась за трубкой, а он привлек ее к себе, и поцеловал, и отстранился.
– Я тебя перехитрил, – сказал.
– Я и говорю: хитрец! – довольная, произнесла Долгеон и снова потянулась за трубкой.
Но на этот раз Ринчин не потянулся за ней, он ведь был не юноша, а взрослый мужчина. Он нахмурился, и Долгеон стала набивать трубку.
– Ай, – заметил Ринчин, – сейчас трубка выпадет из твоих непослушных рук и разобьется! Что же мне тогда делать? Придется нажаловаться злой Аюрзане!
– Не получается, разве ты не видишь? – вздохнула горестно Долгеон. – Я ни разу в жизни не набивала трубку, и потом, мне кажется, что ты меня обманываешь. Ты решил посмеяться надо мной вдобавок к моему сегодняшнему несчастью. Ты заодно со всеми.
– Встань и посмотри, нет ли кого поблизости, – потребовал Ринчин.
Он решил побороться за себя и уже не слышал, что она говорила. И не понимал. Ветерок, родной друг и старый товарищ, шевелил его черные волосы. Долгеон поднялась и пригладила их, а потом растрепала.
К вечеру постепенно вернулись все женщины и дети с разнообразной добычей, немного сердитые оттого, что пришлось отсутствовать намеренно долго, и к концу дня уже совсем утомленные заданной Аюрзаной задачей. Но на летнике было теперь невероятно чисто, невиданный порядок везде, и восьмиугольная юрта выглядела круглой, сверкала чистотой и пахла свежестью родниковой воды, а земляной ее пол пах разбросанными по нему душистыми травами.
Все получилось, что было задумано, поняла Аюрзана и шепотом сообщала женщинам, подходящим к ней пошептаться:
– Все получилось, что было задумано. Вы видите, что здесь потрудились двое и с бодрым настроением? Ринчин и Долгеон договорились о супружеском союзе. Объявят ли они нам это?
Однако их не было видно. Долгеон не была обнаружена на летнике совсем, а Ринчин отдыхал у себя на лежанке в сарайчике, зарывшись в сено. В этот июльский день выскочили в сосняке маслята, они и стали главной добычей дня. Полные ими тэрлиги принесли дети, им пришлось снять одежку, словно грибы сами лезли за шиворот. В котле над веселым костром кипел бульон с отваренными Ринчином тетеревом и диким чесноком. Ужин ожидался на славу.
К тому же один парнишка, Нимашка, забравшийся из удали на высокий кедр, обнаружил на нем старинный охотничий лук в полной сохранности и с гордостью принес его. Вот как позаботились о потомках предки! Оставалось самим изготовить стрелы с костяными наконечниками. Ну где же задерживаются почтенный Очир и Мунхэбаяр? Наверняка старый улигершин знает, как сделать стрелы. Родившийся двести лет назад, он не мог не видеть тучи стрел, летающих по Вечному Синему Небу, и туго набитые ими кожаные колчаны.
Ринчин задремал и увидел сон. По небу плывут пышнотелые облака, а на них восседает некто Великий с синим и грозно нахмуренным лицом в украшенном золотыми сверкающими молниями черном тэрлиге. И этот Великий сбрасывает Ринчину аркан и приказывает заарканить необъезженного белого жеребца с серебряными копытами. А пасется тот жеребец – найди где. Ринчин хотел поклониться Великому и взять аркан, а потом подумал, что небесным ни к чему людские поклоны – на задницы, что ли, им смотреть? Помахал рукой и прокричал: «Эй-эй, назови свое имя!» Ему, солдату, вообще не пристало быть трусом.
Ринчин проснулся, потянулся за арканом и снова впал в полузабытье. Но теперь он задумался о многом. «Вот почему же, как я заметил на западе и на востоке, каждый человек придает такое значение своему “я”, из чего вытекают разрушительные войны? Почему человек осмеливается считать себя через это “я” центром юртэмс-вселенной? Слово “би” как раз всё объясняет. Ведь для европейца “би” означает “два”: например, биплан с двумя крыльями мечет бомбы на землю. Когда бурят говорит “би”, “я”, он имеет в виду и себя, и юртэмс во всей его обширности сразу. И это придает ощущениям степняков значимость. В древности все говорили на одном языке, и “би” – это древнее “я” всех». Ринчин слышал, как плененные германцы говорят «я-я», что у них означает «да-да».
Ринчин вздохнул и уснул так глубоко, что даже появившийся наконец хубушка не смог разбудить его. Он приговаривал: «Эсэгэ, эсэгэ!» А отец во сне видел себя в окружении детей-малюток, дочек, и не мог понять – те ли это, что умерли уже, или это те, что родятся у них с Долгеон? Надо только уехать с ней от всех далеко-далеко, к жаркому очагу юртэмс.
Мунхэбаяр не добудился до отца, не нашел Долгеон, и вкусный ужин прошел в долгом молчании. Но в завершение ужина Нима, осмелевший оттого, что стал владельцем охотничьего лука, посмел упрекнуть Аюрзану, свою родную тетку:
– Тетя Аюрзана, ну зачем вы так жестоко поступили с Долгеон? Ведь посуда бьется в любых руках. А если Долгеон обиделась и ушла в тайгу, где ее съедят волки?
Все посмотрели на Аюрзану. Только Очир сидел в стороне и чертил прутиком на земле древние знаки.
– Я была очень не права, Нима, – согласилась Аюрзана, которую обеспокоило отсутствие Долгеон. – Но мне кажется, что она не могла уйти куда-то. Ведь она так дружна с Ринчином и Мунхэбаяром, что не сможет оставить их из-за обиды на какую-то старуху, на меня, утратившую разум от старости.
Ринчин проснулся рано. «Долгеон!» – был его первый мыслеобраз. А до этого ему всегда снились война и госпиталь, и цвет утра был окрашен в цвет крови. Когда Очир сказал, что гадание сообщило ему о препятствиях на пути их союза с молодой женщиной, Ринчин не стал таить раздумья внутри себя, как это сделала она, а спросил убгэн эсэгэ, в чем же они могут выражаться. И Очир пояснил: «Ты был на войне, она до сих пор занимает твое воображение. Тебе надо очиститься от ее воспоминаний. Они и есть главное твое препятствие на пути к людям, к любому из них и к любой. Ты еще не вернулся с войны».
Ринчин, произнеся: «Долгеон», еще не знал, что размышления и сон минувшей ночи очистили его от воспоминаний войны и ее ран. Он выбрался на улицу. Солнце еще не встало, все вокруг было серым, как пепел костра. Он подъехал на своей деревянной тележке к костру, чтобы подбросить валежника, как делал всегда, просыпаясь раньше других, и замер. Черные угли напомнили ему о глубокой ночи. «Однако умершие становятся таким же черным углем, – подумал он, – они же не хотят, чтобы их кто-то видел, и глубоко погружаются в отсутствие своего “эго”. А потом от них остается пепел, такой же пепел, как это утро, и они рождаются к новой жизни. Мне кажется, что я тоже родился заново. И мне совсем не нужны ноги. Это другие думают, будто они мне нужны. И поэтому я хочу уехать с Долгеон далеко от всех, чтобы меня никто не видел. Но где же она?»
Только он подумал об этом, как Долгеон с легким смехом подобралась сзади и закрыла его глаза ладошками.
– Где же ты была? – спросил он строго и показал на коновязь, сэргэ. – Может, ты провела ночь с этим Сергеем? Или с тем Сергеем?
Он указал рукой на другую сэргэ, а Долгеон показала на высокую траву коровяк с желтыми красивыми цветами и продолжила его вопрос шутливо:
– А может быть, это ты провел ночь с девушкой Коровяк? Смотри у меня! Я таких вещей не прощаю! А вон там тоже цветущая девушка Коровяк. Не заблудись!
Утро было сереньким и несолнечным, прохладным, и Ринчину удалось удержать Долгеон у разгоревшегося костра.
– Что же, ты теперь будешь всегда прятаться от людей, как дух? Так и останешься тогда в компании духов. Я сейчас со всеми поговорю строго. Залей воды в котел, подои козу и всех угости чаем.
Ринчин, прибывший оттуда, с петроградской пролетарской революции, где все дела решал заряженный наган, им и хотел потрясти сегодня перед родичами.
Аюрзана увидела их у костра, и все другие увидели их, и горячий чайный отвар источал сегодня особый тонкий запах. Это Долгеон сунула в него траву коровяк, которая, как известно, в числе других примешивается и к табаку для хорошего духа. Аюрзана хотела произнести речь, содержащую многочисленные намеки и извинения. Что делать, не только Ринчин и Долгеон, но и молодняк не слишком понял, что суровую сцену осуждения она устроила нарочно. Однако Ринчин опередил ее. Он поднял сильную уверенную руку, чтобы привлечь внимание, и заговорил:
– Вы все так осудили вчера Долгеон из-за разбившейся бестолковой посудины, которая и разбилась-то из-за того, что этого захотела чья-то бабушка. И я тогда решил взять молодую женщину, сделавшую нам всем столько добра, под свое покровительство. Кто ее обидит, будет иметь дело со мной. Я военный и шутить не стану. И вообще, я не безногий, а газарлиг – коренастый. Я решил жениться на Долгеон и принудил ее вчера к согласию. Она вынужденно согласилась, потому что со мной шутки плохи. А так она бы нашла жениха куда лучше. Вон того Серегу, к примеру. – Ринчин указал рукой на сэргэ, коновязь, к которой еще была привязана их драгоценная бодливая молочная коза, но никто не понял, что он имеет в виду, потому что по-здешнему «сэрэгэй» – это военный, и в глуши баргузинской не знали, что это имя и что у солдата был однополчанин Серега, Сергей.
Ринчин продолжил:
– Это все непросто, потому что у нас нет теперь самых близких родных, и я не знаю, по какому обычаю мне брать жену. Я решил, что раздобуду вскорости коня, хотя пока не знаю, каким образом, и на нем отправлюсь в тайгу на водопой, куда приходят изюбри. Это место нашел мой хубушка, и я держу его пока в тайне. В августе, когда изюбри нагуляют побольше веса и ценного жира, я застрелю нескольких животных, угощу всех. И это будет наша свадьба. После этого мы с Долгеон вдвоем сядем на моего коня и отправимся искать счастья в самой глухой степной глуши. А хубушка отправится учиться в Верхнеудинск-хото.
Воцарилось продолжительное молчание, вызванное неожиданностью услышанного. Наконец Аюрзана смогла сказать свои слова.
– Я прошу прощения у Долгеон, – начала она. – Какой-то хорхой, безмозглый червяк, заполз мне, беззубой старухе, в рот и заставил сказать то, что я не хотела. Чтобы Долгеон не сердилась, я подарю ей этот отрез далембы на новый дэгэл, который подарила бы ей, когда она вышла бы за моего сына.
Аюрзана не могла сказать, что на самом деле этот отрез ткани хотел когда-то подарить Долгеон ее пропавший без вести жених и отдал ей, его матери, на недолгое хранение. Ей не хотелось, чтобы сейчас молодая женщина вспоминала о своем былом несчастье. Иначе какое же это перед ней извинение? Какое?
Летник теперь решили громко называть улусом, чтобы оно так вскорости и стало, и начали строить там еще одну деревянную юрту и всерьез готовиться к зиме. Изменилось немногое. Стеснительная Долгеон не выказывала своих чувств к Ринчину и на людях избегала его, и он был отдален и сдержан, хотя и забыл будто про свое увечье и твердил: «Какой же я мужчина, если до сих пор не раздобыл себе коня? Вот на коне я буду ого-го! – И добавлял в шутку: – Или иго-го». Стали заготавливать бревна на вторую юрту, из жердей подростки смастерили загон для будущих овец и коров. Откуда возьмутся животные, никто не думал. Улигершин Очир привязал мышление своих новых друзей к сказочному, фантастическому началу, поэтому скот мог спуститься на крыльях прямо с неба. «Правда, придется потом эти крылышки срезать», – будто всерьез размышляла Аюрзана за вечерними чаепитиями, и уже кому-то снился сон со всем этим делом обретения небесных животных и отрезания их необыкновенно широких крыльев.
Женщины тихонечко выспрашивали у Долгеон: «Ну когда же будет конь у Ринчина? Он тебе говорил?» А она тихонечко отвечала: «Я сама не понимаю ничего. Он курит себе трубку и утверждает, что конь сам найдет его. Мне кажется, это влияние сказок убгэн эсэгэ». Очира зауважали еще больше, когда Нима с его помощью изготовил несколько стрел, нарезав для их наконечников легкую кость зайца, и добыл первых лесных голубей, раскормленных и наваристых.
Прежде ничем не выделявшийся среди подростков, разве большей нескладностью и неспокойностью, Нима приобрел теперь уважение и известность и совершенно переменился. Он мгновенно преобразился в юношу, в молодого мужчину. На его широком скуластом лице со щелочками едва заметных глаз теперь читались сосредоточенность и важность. Его имя теперь произносилось много чаще, чем имя Мунхэбаяра, и тот заметил эту перемену и незаметно для других вздыхал, еще не зная, что ревность к славе – это черта больших артистов. Вскоре получилось так, что в скитаниях по тайге Нима перестал находить время для изготовления стрел, и именно Мунхэбаяру досталось заниматься этим, получая советы улигершина. «Мое ли это дело? – спрашивал себя Мунхэбаяр. – Надо скорее подаваться на учебу в город». Он видел себя знаменитым и богатым, каким был в рассказах отца Федор Шаляпин.
Однажды Нима прибежал к костру раскрасневшимся и возбужденным. Это было днем, и близ костра Ринчин, Очир и Мунхэбаяр занимались изготовлением стрел. Нима бежал и кричал:
– Я забрался на кедр, чтобы проверить спелость шишек, на самую вершину забрался я! И увидел, как далеко в степи пылит отара. В сопровождении двух чабанов об одном навьюченном коне. И они движутся в нашем направлении. Если они не потеряют направления, то завтра после ночевки будут совсем близко.
Ринчин услышал эти слова, прикатился на своей тележке к костру и поманил рукой Ниму.
– Это все так, как ты сказал? Тебе не привиделось?
– Да нет же! – горячо воскликнул Нима.
Он так давно не видел такого сладостного зрелища, когда по степи плывет тучей большая отара, поднимая пыль.
– Тогда надо жечь костер беспрестанно, – сказал Ринчин. – Дым будет подниматься высоко, и чабаны увидят его. Может быть, они заблудились и найдут приют у нас. Мы договоримся с ними и возьмем у них в долг несколько овец и хусу. И рассчитаемся с ними при первой же возможности. Жизнь стала так сложна, что надо объединяться для взаимной выручки. В армии это так и делается, это называеытся тактика. Неси к костру побольше дров, Нима!
– Все верно, – сказал Очир, – это все сказано верно. Давай, Мунхэбаяшка, неси к костру побольше дровишек. Сбудется мое гадание на обретение домашнего скота, кости, раскрашенные почтенной Танжимой, никогда не врут.
Они запалили большой костер, какого еще никогда не запаливали, рискуя, что искры в разлете могут попасть на деревянные навесы с сеном. Увидев большой дым, стали прибегать разбредшиеся по степи в поисках трав и кореньев женщины и дети.
Первой примчалась встревоженная Аюрзана.
– Если не потеряют направление, то будут завтра, – повторила она слова Нимы в задумчивости. – Я останусь завтра здесь, чтобы встретить их. Похоже, эти люди заблудились. А может быть, спасаются от преследования? Мы накормим их и приютим в любом случае. Они смогут спрятаться в тайге, если им что-то угрожает. А мы попасем отару. И в награду получим пару овечек и хусу. Вот так я размечталась.
В этот день никто уже не покинул площадку у костра. Тревога и надежда позвали жечь дрова и слушать улигеры Очира и конские всхрапы его умного морин хуура.
Утром, едва только солнце чуть приподнялось над степью, Нима отправился в кедрач на западе от летника. Он забрался на тот же кедр, что вчера, со звериной ловкостью нащупывая ногами и руками ветки и сучки. Он убедился, что отара, навьюченный конь и двое мужчин приближаются. Дым костра вздымался высоко. Вчера если и отлучались от него, то затем, чтобы насобирать дровишек в благодатной тайге. Ниме подумалось: «А как же воспримут эти люди такой чрезмерный дым? Не отвернут ли они в сторону от него, вместо того чтобы идти прямо?» Он быстро спустился и поделился своими сомнениями с Аюрзаной, уже разливавшей отвар по пиалам и чашкам.
– Мы сейчас приуменьшили огонь, готовя напиток. Хорошо, не будем его разводить до неба. Пусть все отправятся наблюдать за степью, не показываясь на глаза этим людям. И в самом деле, мы не знаем, кто они. А если это бандиты, что угнали чужих овец?
Так и было решено. Костер больше не полыхал так обильно. Ниму никуда не отпускали. Если это бандиты, то лук со стрелами тоже оружие. И Нима с Мунхэбаяром, мастером стрел, стали упражняться в меткости стрельбы на площадке перед юртой. От стрелы с легким костяным наконечником будет толк, если она попадет врагу в глаз, а для этого нужно быть настоящим мэргэном. По первости Нима стрелял лучше товарища, но честолюбие последнего и его страсть к победе привели к тому, что выстрела с двадцатого Мунхэбаяр стал попадать точно в яблочко. Нима добродушно похвалил мастера стрел, не сомневаясь при этом в своем исключительном превосходстве.
– Меня бы взял в свое войско Абай Гэсэр, я это знаю! Но теперь думаю, что, может быть, в нем найдется местечко и для тебя, – сказал он Мунхэбаяру.
Прошло полдня тревожного ожидания. Наконец примчалась одна быстроногая девчонка, Сэсэг, и сообщила, что ее отправили остальные наблюдатели.
– Эти люди, двое мужчин, старый и молодой, подошли к нам справа от лога с водой. Они загнали овец пить воду, а сами не двигаются, стоят с навьюченным вороным жеребцом наверху и глядят в сторону нашего дыма. У них есть охотничье ружье. Они выглядят не злыми, а усталыми. Один из них, если бы хотел, мог доскакать до нашего костра, но почему-то они стоят и стоят. У них есть опытная собака, она следит за овцами и не дает им разбегаться. А сейчас они бы и не разбежались никуда, утоляя жажду. Коню молодой поднес котелок с водой, но не ослабил подпруг.
– Немного странно то, что ты рассказываешь, – сказала Аюрзана. – Беги обратно, и пусть кто-нибудь принесет мне следующие новости.
Прошло чуть больше часа, и вернулась взрослая женщина Сэндэгма. Она сообщила, что мужчины так и остаются на месте в напряжении. «Видимо, это обычные чабаны, которые заблудились. Они сами боятся нас», – добавила она. А Ринчин сказал, что, если бы у него был конь, он бы на этом коне выехал незнакомцам навстречу.
– Я пойду и поговорю с ними, – решила Аюрзана, – только оденусь получше. Надену малгай главы рода, чтобы они отнеслись ко мне соответственно.
– Возьмите мой револьвер, – предложил Ринчин. – Он стреляет вот так!
Ринчин мгновенно вынул револьвер из-под тэрлига и ловко подготовил его к бою.
– О нет-нет, – воскликнула Аюрзана, – надо было учить меня раньше. Боюсь, если я его достану, они отнимут его у меня, если это бандиты.
Она зашла в юрту и вышла из нее статной величественной красавицей в расшитом шелками тэрлиге и праздничном малгае, подбитом баргузинским соболем и с малиновым бархатом навершия. Нима и Мунхэбаяр взялись было проводить ее, но у них не нашлось соответствующей одежды.
– Пусть парни следят за Аюрзаной издали, – распорядился Ринчин, – и, если будет что-то тревожное, Нима запустит стрелу вверх. Я готов потратить на этих двух незнакомцев два патрона из своего боезапаса.
В это время пришлецы переговаривались между собой.
– Пахнет жилым, – сказал старший, Тумэн, – но совсем не тянет людским запахом сытной пищи. Это могли быть охотники, но что же им делать в таком отдалении от леса? И не лают собаки. Вот они бы давно учуяли нас.
– Много странностей сейчас, – вторил ему младший, Солбон. – Может быть, это и не люди, и не драконы, а нечто среднее? А может, это военные или бандиты?
– Вчера я был удивлен густотой дыма, исходящего оттуда. Я даже думал, что это людоеды варят людей в больших котлах. Но совсем не пахнет мясом, ни сырым, ни вареным. И сейчас дым намного поредел, – поделился снова старший, Тумэн.
А младший, Солбон, добавил:
– Постоим еще. Великое Синее Небо все видит и всем движет на земле. Положимся на него.
Они еще постояли и без настроения пожевали борсо, запив его водой. Тумэн сел на коня, чтобы видеть дальше, и вскоре произнес:
– Я вижу величественную женщину в красивом наряде. Она одна важной поступью идет прямо к нам. Это значит, что за нами следят. Иначе почему бы она шла прямо к нам?
– А если это призрак? – спросил Солбон. – Обман зрения?
– Хотя я не юноша, но глаз у меня острый, – обиделся Тумэн. – И я отлично вижу, что это красивая женщина.
– Берегись, отец, от поспешных выводов, – предостерег Тумэна Солбон.
– В нашем положении, да и в любом положении, лучше встретить красивую женщину, чем кого-то иного.
Солбон невесело вздохнул:
– Знал бы, что увижу красивую женщину, рожу бы умыл.
– Так умой! И я следом за тобой успею.
Так они и сделали: по очереди вымыли в логушке грязноватые руки и запыленные лица, оправили тэрлиги и пояса с хутага-ножнами, а тут к ним и приблизилась Аюрзана.
– Удэшын баяраар! – произнесла она, так как начинался вечер. – Добрый вечер!
– Хайниие хусэхэ, – пожелал ей добра Тумэн.
– Что привело вас к нам, уважаемые? – спросила Аюр зана.
– Мы не знали, что идем к вам, добрая женщина, – пояснил Тумэн. – Я Тумэн, а это мой сын Солбон. Мы шли в поисках Очира Модонова, улигершина. Нам сказали, что он отправился в сторону Баргузинской долины. Мы шли от дыма к дыму много дней.
– Зачем же вам Очир Модонов? – спросила Аюрзана, успокаиваясь, отчего ее голос прозвучал глубоко и заманчиво, ведь она совсем не была беззубой старухой, как это прозвучало в ее извинениях перед Долгеон.
Тумэн и Солбон оба были очарованы ею.
– Мы сами Модоновы, мы его родня. Но убгэн аба нас не знает. Сейчас, увы, людьми больше движут случившиеся с ними несчастья, и нами тоже, но мы хотим развернуть колесо сансары в обратную сторону.
– Что же случилось с вами? – спросила с заботливой тревогой Аюрзана.
Она сама себе сейчас нравилась. Да и видеть приличных людей ей давно не приходилось. Было заметно невооруженным глазом, что отара и конь принадлежат этим людям, а не украдены ими у кого-то, как теперь стало чуть ли не правилом.
– Мы остались одни, наши близкие внезапно умерли, – рассказал Тумэн. – Нас было немного – мы двое, моя мать, две моих жены да жена сына и его двое маленьких. И мы приютили у себя цонгольского парня из уважаемого знатного рода. Он остался жив в перестрелке с бандитами и, раненый, дополз до нашего летника. Моя мать перевязала его. У него были жар и лихорадка. Тем временем мы с сыном отогнали овец подальше, как и собирались сделать до его появления, пасли их две недели в отдалении и косили сено литовками. А когда вернулись, то увидели, что все наши умерли от неизвестной болезни. Мы поняли, что они заразились от цонгольца, поскольку лица и руки всех – и женщин, и наших маленьких – были в одинаковых синеватых пятнах. Мы сожгли летник вместе с умершими и нашими вещами и подались подальше. Встреченный нами путешествующий лама посоветовал окуриваться ая-гангой и найти прапрадеда Очира Модонова, сказав, что рядом с ним мы сможем одолеть горе и отчаяние, с которыми так внезапно спаялись.
Аюрзана, собиравшаяся уже пригласить отца и сына к костру, задумалась, услышав о быстро скончавшихся от неизвестной болезни. А Тумэн продолжил:
– Мы не шли дальше, на дым вашего костра, и стояли здесь, потому что не уверены, здоровы мы или больны. Нам кажется, что мы здоровы. А если это не так? Мы предлагаем вам принять нашу отару, коня и собаку, которая обучена не отходить от отары. А сами мы построим шалаш на краю леса и проживем в нем месяц-полтора, заготавливая дрова. Если мы окажемся здоровы, то отправимся дальше на поиски Очира Модонова, оставив отару в вашем распоряжении. А если окажемся больны и умрем, вы сожжете наши тела при помощи дров, что мы заготовим.
Услышав этот рассказ, Аюрзана очень опечалилась.
– Очир Модонов гостит у нас, – сказала она, помолчав. – Вам не нужно больше искать его. Нам же придется согласиться с вашими благоразумными предложениями.
– Баярые хургэнэм, – искренне обрадовался Тумэн. – Отличная весть, спасибо!
Вдвоем с сыном они сбросили вьюки с обоих боков жеребца, и Тумэн пригласил Аюрзану сесть в седло, придержав левое стремя. Аюрзана совсем не была тяжелой – питаясь почти одними травами и кореньями, она исхудала, как и все ее люди.
– Отара пойдет за нашим Хара, а мы немного пугнем ее сзади, – сказал Тумэн.
Отец и сын, тая усталость, взвалили вьюки на спины и отправились пугануть овец и идти дальше. Аюрзана, не успев задуматься о происходящем, верхом на лоснящемся красавце жеребце Хара возглавила шествие успевших отдохнуть бодрых копытных. Из кустов, клонящихся над логом, к удивлению отца и сына, Тумэна и Солбона, выскочили хубушки с ивовыми прутьями и пошли за отарой.
– Это что за диво дивное, чудо чудное! – воскликнули Ринчин и Долгеон при виде этого и в самом деле великолепного зрелища.
Как вы помните, все здесь стали слушателями преданий и сказок старого улигершина и сами научились выражаться культурно и чудесно. А безымянный свой летник назвали улус Онтохоной – сказочный. В лесостепной глуши совсем не знали, что революция породила множество сказок, и следовали новой моде по наитию.
Баргузинские имеют западное, предбайкальское происхождение, и родичи Аюрзаны называя себя баргутами, вышли, по их преданию, с реки Худын-гола, Куды, впадающей в Иркут. В сочинении «Сокровенное сказание монголов» Баргуджином зовется северная окраина Монгольского государства. Баргуджин-токум – это прародина, волшебное место, так что еще и с этой точки зрения, назвав свой улус Онтохоной (будущий улус!), его люди попали в самое яблочко! Слово «токум» у монголов в узком значении – это «родина женщины», вот и оказалась Аюрзана во главе родичей неслучайно, хотя, на первый взгляд, оттого лишь, что степняки, как и все люди России, сильно пострадали от войны и неурядиц первой четверти двадцатого века.
Парни отвели овец в новенький загон, подготовленный после того, как древний Очир нагадал, что скот у них будет во множестве. Крупный мохнатый пес-овчар сообразил, что незнакомые люди дружественны его хозяевам. Он принял их помощь, а потом улегся близ отары. Напившийся в логу воды овчар очень хотел наконец-то отдохнуть. И то, что отара оказалась в загоне, очень устроило его.
Аюрзана спешилась на площадке у костра, и Долгеон успела подойти и поддержать левое стремя, обратив внимание, что стремена из меди и с красивыми насечками. Аюрзана подвела коня к Ринчину:
– Тебе же нужен был конь? Езжай же на охоту! Или ты лентяй?
– Прямо сейчас? – удивился Ринчин. – Дайте же перевести дух от неожиданных событий, эхэнэр! И расскажите, что за странные вещи происходят!
Присутствующих удивило сложное чувство, отразившееся на лице Аюрзаны, и они хотели услышать ее рассказ. Неужели отара и конь теперь принадлежат им, а незнакомцы – это сказочные волшебники, поспешившие к ним с помощью?
Долгеон привязала Хара к сэргэ-коновязи и налила Аюрзане горячего свежего травяного отвара с молоком. У костра предполагали, что незнакомцев надо будет угостить чаем, и успели приготовить напиток самого приятного вкуса.
Побрызгав им и испив несколько глотков, Аюрзана приступила к рассказу:
– Эти люди – хоринцы. Они претерпели и бежали по степи к нам.
– Сюда? – удивился Очир.
– Слушайте же, почтенный Очир, мой рассказ дальше, – кивнула Аюрзана, не желая сразу сообщать старику, что прибывшие – его родня. – Они остались одни, потому что их семья погибла от неизвестной заразной болезни, пока они пасли отару на значительном отдалении. Они сожгли весь летник с умершими и их вещами. Там были и женщины, и дети, и цонгольский парень, которого они приняли, не ведая, что он опасно болен.
– Как же он посмел явиться в гости таким больным? – удивился Ринчин.
– Он был ранен в перестрелке с недругами рода и приписывал лихорадочное состояние и жар ранению. Он спасался от погони и нашел приют. Прибывших к нам людей зовут Тумэн и Солбон. Это отец и сын. Они передали нам отару и жеребца и решили месяц провести в отдалении от нас, желая убедиться, что не заразились сами. Они построят шалаш, будут в нем жить и заготавливать дрова на тот случай, если умрут и нам потребуется сжечь их тела.
– И тогда отара и конь будут наши? – высказал кто-то предположение, не без скромности, но и не без радости.
Аюрзана уловила радость в голосе спрашивающего и строго повела правой бровью:
– Мы будем молиться о здоровье этих мужчин и примем их к нам. А их желание остаться среди нас мы должны заслужить. Солбон, сын Тумэна, так хорош собой, что если бы его увидели наши девушки и женщины, то тотчас бы захотели замуж. Разве мы не можем предоставить ему трех жен сразу?
– Так не бывает, – сказала Сэндэгма, мать Нимы, – что сразу на трех женятся. Разве что по очереди.
Разговор перешел в другое русло:
– А что, отец, Тумэн так стар, что не может жениться тоже?
Аюрзана, влюбившаяся в шестидесятилетнего Тумэна с первого взгляда, осторожно возразила:
– Дело не в этом. Такой видный человек может жениться только на достойнейшей.
Присутствующие поняли тонкий намек и промолчали, а Ринчин, отчего-то решивший, что Хара – уже его конь, поскольку произошедшее имеет волшебный характер, последним дополнил нечаянный спор о пришлецах:
– Во всяком случае, я завтра же отправлюсь на охоту и добуду изюбрей. А там посмотрим, чей это конь. Я вооружен лучше. Я его никому не отдам.
Выслушав слова Ринчина с приподнятой правой бровью, а брови у Аюрзаны были тонкие, соболиные, а лицо имело правильные и выразительные черты, она сказала несколько высокомерно:
– Вы все поспешили в своих рассуждениях и не знаете самого главного. Эти люди, Тумэн и Солбон, потомки нашего уважаемого убгэн эсэгэ. Они Модоновы, как и он сам, они иволгинцы. Они назвали убгэн эсэгэ родным прапрапрадедом и разыскивают именно его. Небо привело их сюда.
Очир сверх меры был поражен сказанным и, поглаживая правой рукой длинную белую бороду, осторожно спросил:
– Что же их навело на мысль искать меня?
– Кто! Это был путешествующий лама. Они встретили его после сожжения близких, и лама посоветовал им отправиться на поиски Очира Модонова. И они последовали его совету. Лама, не назвавший своего имени, сказал им, что, по имеющимся у него сведениям, улигершин направился в сторону Баргузинской долины.
– Гайхалтай зуйл! – стали восклицать собравшиеся. – Чудо! Как чудесно, что почтенный улигершин оказался именно у нас! Мы не только слушаем предания и сказки из его уст, его драгоценный морин хуур, но и имеем чудесные события. Мы будем всячески помогать Тумэну и Солбону Модоновым, чтобы они остались у нас.
– Но как это сделать? – повела тонкой бровью Аюрзана. – Они ведь отдалились от нас и могут погибнуть от неизвестной опасной болезни…
Воцарилось длительное молчание. Нарушил его Очир:
– Пусть мои названые родичи устроятся на новом месте и отдохнут. Я верю, что это мои родичи. Молва давно доносит мне о них. В молодости я, повинуясь своему морин хууру больше, чем чувству родства, отправился в бесконечное странствование и не видел своего единственного ребенка больше, чем в замыслах. – Очир помолчал и после паузы продолжил: – Мы издавна носим фамилию Модоновы, потому что еще при царице Екатерине были поверстаны в казаки. Пусть потомки мои Тумэн и Солбон отдохнут, а на рассвете я отправлюсь к ним с запасом лекарственных трав, что мы заготовили с хубушкой, и с очистительными мантрами в своей памяти. И буду находиться со своими потомками, пока они не поймут, что здоровы. А если мы все умрем, сожжете нас троих. Мунхэбаяшка заготовит для вас новые лекарственные травы, как я его научил.
Спорить с убгэн эсэгэ не имело смысла. Тем более всем теперь хотелось, чтобы Тумэн и Солбон спасли свои жизни. Ринчин, узнав, что это родня Очира, учителя и наставника его хубушки, понял, что не будет завладевать Хара силой своего оружия. Он попользуется конем временно, как бы грустно это ни было для него. Да и примет ли его конь, вообще-то говоря?
Потянулись дни ожидания. Среди людей редко гостит счастье, поэтому они всегда чего-то ждут. Онтохонойцы ждали чуда.
Провожая почтенного Очира, который вида не показывал, что ощущает, будто не вернется, они дали ему наказы. Например, когда кто-то из Модоновых будет спускаться к логу за водой, внизу тропы им будут оставлять продукты, что добыли, а также целебное овечье молоко. Убгэн эсэгэ объяснит, что затяжная разруха унесла у онтохонойцев почти все нажитое, у них теперь в ходу подножный корм. И пусть убгэн эсэгэ намекнет родичам, что у принявших их отару один взрослый мужчина – вернувшийся с германской войны Ринчин. А если случится плохое и кто-то заболеет той же болезнью, от которой так быстро умирают, то дедушка вывесит на палке серую тряпицу. Тряпиц ему дали две. А если дело станет плохо совсем-совсем, то привяжет к палке еще одну тряпицу. Если совсем узуур, то есть кирдык, то третью. Третью тряпицу в итоге не дали. Как же еще можно общаться, не придумали. Очир владеет старомонгольской письменностью, а Ринчина на войне научили кириллице; Очир начал учить Мунхэбаяра старомонгольскому письму, да только начал. А то ведь можно было бы нацарапать на бересте какие-нибудь знаки и оставить эти послания у тропы; да пользы не будет, хотя береста – дело святое, очищает от заразы. «Деготь гоните, – посоветовал Очир, – и здоровее будете». А как гнать – не объяснил, спеша. До подъема от лога в гору хубушка донес мешок с травами. Простились кратко, старец был погружен в свое.
Овцы у Модоновых оказались настоящие цигайские, в отаре было найдено множество ягнят от полутора месяцев от роду, их можно отгонять, а маток доить. Да вот обнаружилось, что пес-овчар подпускает близко к отаре одну Аюрзану, потому что она одна общалась с его хозяевами. Доить овечек выпало ей. И она это делала с удовольствием, ведь половина выдоенного уносила она к Модоновым, и молоко пил Тумэн, в которого она влюбилась. От восьми маток, с которыми ей удавалось справляться в одиночку, в сутки выходило около девяти-десяти литров молока, в общем суулга – ведро. А коза давала за сутки чуть больше трех шин – трех литров.
Ринчин, которому не терпелось доказать всем, что он настоящий мужчина, и взять Долгеон в жены, в тот же день, когда хубушка проводил Очира к своим и очень грустил, не желая чем-либо заняться, уговорил сына показать ему место водопоя изюбрей. Хара, почуявший к себе самое ласковое обращение, дал Долгеон оседлать себя при помощи неопытного хубушки. Потом Хара послушно лег, будто воспитанный пес. Что делать, война, когда коней забирали в войска, и чем дальше, тем больше, научила их хозяев заботиться о конском навыке скрытности. Хара лег, Ринчин, хмурясь, забрался в седло, сжал бока жеребца короткими обрубками с привязанными к ним подобиями ичигов. Хара встал, хубушка забрался спереди отца. Они оба были такие исхудавшие и легкие, что Хара, откормившийся к августу на степном разнотравье, унес их в тайгу без труда.
В серых сумерках наступавшего утра следующего дня Ринчин отправился на охоту, посадив впереди седла Долгеон. Он был сосредоточен и не проронил ни слова. Конь сам шел по вчерашнему пути без понуждения, запомнив его. Было очень тихо. Ринчин отмечал, что молодая женщина расположена к нему, как и прежде, а сам думал о том, что в видимости появились мужчины, перед которыми он проигрывает. А до этого все так ценили его, вооруженного и уверенного в себе стрелка и защитника! Забыв о казачьем товариществе, он не очень-то желал Модоновым остаться живыми и здоровыми и в мыслях был по-особенному жесток.
Неподалеку от звериной тропы к водопою Ринчин ссадил Долгеон. Вчера вдвоем с хубушкой они заметили, что на водопой приходят и медведи – на стволах деревьев и на большом камне у бьющего из горы ключа были видны процарапы их когтей. Но сейчас всадник вовсе не думал о том, чтобы оберегать Долгеон. Превратившись в сгусток внимания и мускулов, он устремился вперед, вслушиваясь в тишину и держа револьвер на изготовку. Это не охотничье ружье, которое можно зарядить жаканом. Из револьвера имеет смысл стрелять в глаз или в ухо животного.
Долгеон осталась ждать у толстой сосны. Дерево очень понравилось ей своею первозданной, все претерпевшей мощью, и она с любопытством оглядела его. Оглядела и замерла. Ствол был украшен свежими следами медвежьих когтей, а неподалеку обнаружились свежие катышки медвежьего помета. «Спи, Миша, спи, – зашептала Долгеон невидимому зверю, – спи, еще холодно, темновато для твоих глазок. Ты самый сильный, ходишь не таясь. Зачем тебе это промозглое утро? Спи, Миша, спи». И вздрогнула, услышав, как два револьверных выстрела один за другим прокатились по тайге и, вспугнув таежную дрему, эхом отскочили от скал.
На тропе, торопя коня, показался возбужденный Ринчин.
– Готово, – крикнул он Долгеон. – Два выстрела, два изюбря. В ухо каждому насквозь. Иди смотри! Нет, садись смотри!
Он подогнал Хара к скальному камню, Долгеон поднялась на него и села впереди, и тут Ринчин, осмелев, сказал ей:
– Ну вот, заголяйся, теперь настал мой час!
Он обнажил свой тяжелый и крупный шодой настоящего воина, слился с Долгеон, а потом они поскакали к убитым животным.
Почувствовав себя настоящим мужчиной, Ринчин задумал про себя: после женитьбы он вступит в партию большевиков. Когда красноармейцы провожали его к родным, они сумели внушить храброму ветерану партийно-ленинско-троцкистские идеи.
Целый месяц носила Аюрзана к тропе Модоновых куски вареной изюбрятины. А на шесте висела серая тряпица, потом появилась и вторая, извещающая о болезни пришлецов. Однако мясо исчезало вместе с берестяным жбаном овечьего молока, диким луком, вареными грибами, завернутыми в большой лист лопуха. У шалаша вился дымок костра, вселяя надежду.
Ранним утром после ночи полнолуния, подоив спокойных, привыкших к ней овец, Аюрзана подошла к тропе, ведущей к шалашу невольных отшельников, и взволновалась. Рядом с местом, куда она всегда клала еду, сидел Тумэн. Он очень похудел, на лице сильнее обозначились монгольские скулы, а на высоком лбу под стареньким малгаем появились новые морщины. Он встал и поздоровался, заметно волнуясь сам.
– Извините меня, уважаемая Аюрзана, – сказал он на это. – Я так давно не видел женщин.
– Вы очень похудели, уважаемый Тумэн, – обеспокоенно откликнулась Аюрзана. – Наверное, мы мало давали вам пищи?! Теперь с ней у нас стало налаживаться. Представляете, вчера Ринчин подстрелил хозяина, матерого медведя. На вашем Хара, спасибо вам за него, он отправился на новую охоту вместе со своей Долгеон. И вот, они увидели хозяина, который очень рассердился на них. Ринчин выстрелил ему в один глаз, потом в другой, потом в ухо. И три раза попал. Мы едва дотащили могучую тушу к себе. Очень много плакали, просили извинения у духа хозяина тайги. А что, если убитый был самый главный хозяин?! Мы провели все необходимые обряды и надеемся, что он доволен. Я принесла вам большую вареную лопатку. Я рада, что вижу вас, и мы готовы выполнить все ваши просьбы.
Тумэн выслушал Аюрзану с легкой рассеянной улыбкой и сказал в ответ:
– Все не так просто, уважаемая. Убгэн баабай пришел к нам и выходил нас. Мы, когда устроились и отдохнули, вместо прилива сил получили жестокую лихорадку. Если бы не он, нас бы уже не было среди живых. Я нахожу, что путешествующий лама направил нас на его поиски очень прозорливо. Но вчера случилось непредвиденное. Убгэн баабай стал жаловаться на слабость. А может быть, он ее испытывал и раньше, но мог утаивать от нас. Он прилег, стал рассказывать нам сказку и уснул. А утром оказалось, что душа его уже отошла. Я уверен, она направляется в царство нирваны. Убгэн баабай заслужил это.
– Заслужил! – воскликнула Аюрзана после продолжительного молчания, потрясенная горестным для онтохонойцев известием. – Убгэн эсэгэ столько сделал нам добра! Он всегда внушал нам бодрость и силы, будучи сам в почтенных летах.
– Мы сожжем ненужное ему тело вместе с вещами и шалашом. Мы так поставили его, чтобы искры не пали на лес. Мы думали, что живем последние дни, и только размышляли, как отослать убгэн баабая обратно, и не заразился ли он от нас, и кто же сожжет нас, и уже решили, что на излете дыхания сами запалим наше жилище.
– Как тяжело слышать все это! – вздохнула Аюрзана.
– Так слушайте, уважаемая Аюрзана, дальше, что мы продумали еще при жизни нашего баабая. Он сказал, чтобы мы остались среди вас, в чьей порядочности он убедился. Он сказал, что, уходя к нам, оставил ценные вещи в своем шалаше. Это его письменное размышление о Пустоте и Пустотности, которое он просил передать знакомому ламе из Янгажинского дацана, с которым они однажды вели беседу об этом. Убгэн баабай пять зим назад, зимой же, жил в Кяхте в доме именитого купца Чагдара Булатова из Тунки. И тогда же составил свое размышление. Потом, в шалаше его хранятся десять золотых империалов, что подарил ему купец Чагдар Булатов. Эти деньги он просил израсходовать так… Началось с того, что убгэн баабай попросил передать Хара искалеченному на германской войне Ринчину. Я же сказал, что ни за что не отдам своего благородного коня никому. Это было, когда мы с сыном стараниями баабая пошли на поправку.
– Почему же у вас один конь? – спросила Тумэна Аюрзана. – Мы размышляли об этом и удивлялись, как же – у таких крепких и серьезных людей, как вы с сыном, всего один конь…
– Кобылы с жеребятами, оставленные с нашими женщинами, пали. Видимо, от той же болезни, что и они. У сына был свой племенной жеребец. Когда мы встретили путешествующего ламу и он дал нам совет искать прапрапрадеда, он еще сказал, что если мы отдадим ему одного коня, то достигнем своей цели быстрее. Мы передали ему коня Солбона и пошли пешком, лишь иногда по очереди садясь в седло, жалея Хара, поскольку ему теперь приходилось нести вьюки за двоих. Мы шли и удивлялись: как это мы достигнем цели быстрее, если пришлось отдать коня? И так и не разгадали загадку ламы. И вот, когда я отказался расстаться с Хара, баабай сказал мне, чтобы из его денег мы купили кобылу, а жеребенка от нее отдали Ринчину. Это значит, что нам придется оставаться у вас больше года!
– Оставайтесь навсегда, Тумэн, – предложила Аюрзана. – Нам так недостает мужчин. У нас есть хорошие девушки. Солбон сможет выбрать и жениться. У нас самые благодатные края, какими только владеют бурят-монголы!
– Ну, ну, – усмехнулся Тумэн. – Всяк кулик свое болото хвалит. Так говорят русские. Хотя я готов согласиться, что места ваши одни из самых знаменитых среди бурят-монголов. Баабай сказал, чтобы Солбон взял в старшие жены женщину по имени Сэндэгма. Она очень хозяйственная, разумная и заботливая. А уж младшую чтобы присмотрел постепенно.
– Это хорошая мысль, – согласилась Аюрзана. – Правда, у Сэндэгмы есть сын Нима. А нам бы хотелось выдать за Солбона бездетную.
– Убгэн баабай сказал, что у Сэндэгмы есть хороший парень – Нима. Значит, родятся хорошие дети. Еще он сказал… – Тут Тумэн замялся, замолчал и ничего не говорил, пока Аюрзана не спросила:
– Что же сказал убгэн эсэгэ? Что-то тревожное?
– Да как сказать… Баабай сказал, чтобы я взял в жены вас, уважаемая Аюрзана!
– Вот не было печали! – отозвалась Аюрзана не без растерянности и не без кокетства. – Давайте, уважаемый Тумэн, обсудим этот вопрос позднее и отдельно.
– Давайте, – согласился Тумэн и продолжил, медля: – Вы унесите эту пищу обратно, уважаемая Аюрзана. Я сейчас поднимусь, и мы с Солбоном подожжем последнее пристанище нашего уважаемого предка. Надо же, какая польза и благость, когда такие предки долго находятся среди живых! Надо будет провести не одно моление о достижении баабаем царства нирваны и абсолютной Пустотности! Мы подожжем, а вы не говорите людям, что мы оба живы. Я опасаюсь, что ваш Ринчин, узнав об этом, ускачет на нашем коне навсегда со своей Долгеон. Я думал об этом и понимаю его. Какой казак без коня? Мое сердце обливалось бы кровью, потеряй я своего. И речь идет о Хара. Когда Солбон отдал своего жеребца ламе, он не мог справиться со своей тоской несколько дней. А ведь он еще не одолел тоски по нашей былой жизни, по любимой жене и детям. Его коню было тяжело нести его. Постойте-ка, уважаемая Аюрзана! Может быть, лама забрал у него жеребца по этой причине? Надо поделиться с сыном этой мыслью.
Тумэн посидел в молчании, не решаясь теперь смотреть на Аюрзану. Ему показалось, что он признался ей в чувствах. А ей его слова показались отвлеченными и бесчувственными.
– Скажите, уважаемый Тумэн, – наконец произнесла она, – а разве вашему Хара не было тяжело нести вас? Вы не изнемогали от тоски по женам?
– Э-э-э-э, как сказать, – начал тянуть Тумэн. – Я больше тосковал по матери. Первая жена родила мне Солбона и больше не беременела. Она полюбила прясть и вязать и вся ушла в это занятие. Я и видел ее очень редко. А вторая родила нескольких детей, и все они умирали, не дожив до года. А потом она сделалась недобра и сварлива, и я избегал ее. Будто бы я наказан малым числом потомков. Однако сын мой Солбон так пригож и старателен, что я всегда доволен им. И потом, как повелось от нашего почтенного Очира, когда он ушел странствовать, так и нет у него множества прямых потомков. Вот и малые дети Солбона погибли, не успев принести нам радости.
– Поняла, – кивнула Тумэну Аюрзана.
– И вот, мы подожжем последнее скромное пристанище нашего баабая… и затем переоденемся в чистое, что мы с Солбоном отложили сразу. На случай нашего спасения спрятали под защитой одиночной сосны. Там лежит и вощеный мешочек с солью. Сейчас это ценность. А спустя какое-то время я сяду на Хара и поеду покупать кобылу. И жеребца Солбону куплю. И может, куплю кобылу Ринчину. Мы должны помогать друг другу. Так советовал нам Великий Будда, и это нравится Вечному Синему Небу.
– Объясните мне, пожалуйста, Тумэн, – попросила Аюрзана. – Царя нет, а в ходу царские империалы. Какая же у нас все-таки власть? Что такое новая республика бурят-монголов?
– С последним я сам не разобрался. Это можно будет только в Верхнеудинске разузнать. Но то, что золотые рубли чеканятся в Петрограде, как при царе, хотя пять лет прошло, как он отрекся от престола, говорит о том, что все непросто. Не надо увлекаться новыми идеями. Все вернется на круги своя. Колесо сансары вращается… Бурят-Монголия вечна, в ее центре ось вращения. И вот откочуем мы одной семьей к Верхнеудинску.
– Нам будет жаль покидать наш Онтохоной! Может быть, вам с сыном понравятся наши края, уважаемый Тумэн?
– Понравятся, – согласился Тумэн. – Однако мы всегда жили в людных местах и всегда там, где наш род. Вам придется согласиться с нашим мужским решением. А Онтохоной не запустеет. Баабай сказал, что Ринчин тяготеет к уединению, поскольку излишне напитался чуждыми событиями кровавой войны. А также он не хочет отражаться в людских глазах, будучи калекой. Ему достаточно терпения его Долгеон. Ринчин и она останутся здесь, тяготея к Пустоте и Пустотности. Они не уедут в неизвестность на моем Хара. Неизвестность сама придет к ним. Надо им заранее сказать, что им достанется Онтохоной.
– Это все очень разумно, Тумэн, – согласилась Аюрзана. – Но в отсутствие коней у нас правит одна нищета. В нее мы впали, когда табун забрали на войну. Я вижу, как тяжело бремя нищеты: невозможно обменяться товарами, приобрести табуны, стада и отары. Видеть людей в красивых одеждах. Я согласна покинуть Онтохоной. И мой внук Мунхэбаяшка хочет учиться в Верхнеудинске. Он отправится туда не один, а сберегаемый всеми нами. Все складывается к одному.
– Ну вот, – сказал Тумэн. – Баабай говорил мне, что вы очень разумная женщина, Аюрзана. Однако же я пойду исполнить свой долг перед ним и всем нашим родом.
Он медленно и не оглядываясь отправился вверх по тропинке между высоких трав – горькой пахучей полыни и тяжелых фиолетовых голов цепкого колючего чертополоха. И когда Тумэн поднялся, кучно вспыхнуло пламя, и дым устремился к Вечному Синему Небу.
Глава третья
Сагаалшан-кобылица приносит удачу
В Онтохоное потекла совсем другая жизнь. Тумэн и Солбон Модоновы были еще слабы и поправлялись после болезни, но уже обзавелись новыми женами Аюрзаной и Сэндэгмой. Таков естественный порядок вещей, и они следовали ему. Верхом на коне они (Хара легко нес их обоих, донельзя исхудалых) побывали в Умхее, где, по мнению Аюрзаны, был приличный табун, нашли его и купили двух коней – Солбону и Ринчину, чтобы положить начало тому приумножению поголовья, как заведено у степняков. Ринчин не остался в долгу и подарил новым родичам только что выделанную роскошную шкуру убитого им хозяина тайги. Привезли отец и сын из Умхея и охотничье ружье с патронами, и немного муки, одного только не нашли – подходящей кобылы. Те, которых они осмотрели, по мнению Тумэна, никуда не годились, они могли только ухудшить породу Хары. Везде было голодно и пустынно, конский приплод любой не помешал бы, но Тумэн был эрдэм соёлтой, образованный, он не сдавался.
Стоял на исходе благодатный сентябрь, и всем стало ясно, что в сторону Верхнеудинска они теперь двинутся не раньше весны, а если точнее, то в мае-июне. Когда насушат борсо, когда поднимутся травы и овечки побегут бодро. К этой поре, по всему, появятся в Онтохоное и первые младенцы.
Сколько же младенцев? А получилось так. Тумэн и Аюрзана в один из дней на утуге, с которого давно была свезена трава и нарастала новая, пасли своих овец, и мудрая Аюрзана вдруг сказала мужу: «Что-то мне сегодня неможется. А посмотри-ка, сколько овец у каждого хусы? Заведи себе еще одну жену. Ну, например, Донгарму, она такая нежная и покорная, она совсем другая, чем я. И у нее никогда не было еще детей. И у моей племянницы Саруул не было еще детей. Я очень не люблю, когда кто-то страдает. Если ты одаришь Донгарму и Саруул своим вниманием, на их лицах заиграют улыбки, они станут ждать красивых и умных детей, похожих на отца».
Тумэн выслушал ее внимательно, и пусть не тотчас, а спустя сколько-то дней, но согласился. И сказал еще, что и Солбону пора обзавестись бездетной. После этого немногословного разговора вечером Аюрзана шепнула Донгарме: «Ты завтра отправишься пасти овец с моим мужем. Оденься чище, он подарит тебе свое внимание». Донгарма сидела за прялкой и пряла белую шелковистую овечью шерсть. Она остановилась на минутку и прошептала Аюрзане: «Спасибо». И продолжила свою работу. Аюрзана при этом не выразила каких-либо чувств, а скользнула из полутьмы юрты на освещенное солнцем приволье. Встретившаяся ей при этом Долгеон про себя отметила ее таинственную улыбку. Губы у Аюрзаны были тонкие, словно медный народившийся месяц, и чуть приподняли свои уголки.
И вскоре весь Онтохоной оживился в таинственной и безмолвной радости. И даже Нима в одно туманное утро октября поймал на краю леса юную и гибкую Сэсэг, собиравшую для домашнего очага сосновые шишки, крепко прижал ее к громадному сосновому стволу и сказал, что теперь она – его. И от страха Сэсэг с этим согласилась.
Так продолжают свой род дети природы. А что же происходило в это время в столице новорожденного Советского Союза? Там возникло общество «Долой стыд!». В Верхнеудинске одна художница, вернувшись из поездки в столицу, рассказывала друзьям: «В Москве появились нудисты – это те, кто ходят всюду голышом. Кто-то хохочет до слез, глядя на них, кто-то плюется. Старухи говорят: “Апокалипсис! Конец света!” – и растерянно спрашивают у прохожих: “Что же это? И нас заставят раздеться?” В вагон трамвая, в тесноте которого стояла я, вошла на остановке немолодая голая пара. Ничего, кроме красных полотнищ от бедра к бедру, на них не было. На полотнищах красовались белые надписи “Долой стыд!”, и, проходя по трамваю, мужчина и женщина терлись о стоящих пассажиров».
Идейным вдохновителем общества «Долой стыд!» был близкий друг Ленина и Троцкого Карл Радек. Он возглавлял марши снявших одежду у древних стен Кремля: «Во главе шествия банного вида шел большевик со стажем, любимец Ленина, Карл Радек. Впрочем, он и по квартире разгуливал совершенно обнаженным, пугая малых детей родной сестры, с которой жил…»
А наш Мунхэбаяр Ринчинов мечтал о городе как о святом месте образования и культуры! Может быть, вся эта революционная вакханалия не докатится до столицы Бурят-Монголии?
Весной, когда со степи сошел последний серый снег и земля украсилась первоцветами, Тумэн сказал Ринчину, когда они остались вдвоем:
– Мы еще задержимся в Онтохоное. У нас ожидается прибавление. Однако убгэн баабай просил нас отправить в город твоего хубушку. Я посажу парня на коня Солбона, и мы съездим с ним в Умхей. Присмотрим ему стригуна-двухлетку. Пусть он на нем доберется до города. У меня есть золотой слиток. Я хочу расстаться с ним, как с приметой моей былой жадности. Отчего же мы с Солбоном минувшим летом заразились и заболели? Оттого, что я открыл деревянную шкатулку, в которой хранились украшения наших женщин, и достал золото. А, видимо, шкатулки касались руки умирающих. И я после этого даже не помыл рук! Заболев, я рассказал эту историю Солбону. И мы решили, что поскольку будем умирать и сами перед смертью подожжем наше жилище, то надо положить золотые украшения в жестянку из-под китайского чая, в огне они расплавятся в слиток. И кто-нибудь найдет его с пользой для себя. На днях я побывал на месте былого огня. Снег там, на углях, сошел раньше, чем где-либо. Видел почтенные кости нашего баабая. Я посетил это место, чтобы найти жестянку и слиток в ней и обменять это в Умхее на лошадку и седло для Мунхэбаяра. Сухэ сэбэрээр, честно, это не краденое золото, и пусть оно пойдет на хорошее дело. Промолчим же перед всеми о том, где я его нашел, Ринчин!
– Промолчим, – согласился Ринчин и закурил трубку.
Итак, спустя месяц и неделю, в один сырой и холодный вечер июня тысяча девятьсот двадцать четвертого года Мунхэбаяр Ринчинов на мухортом жеребчике оказался близ города Верхнеудинска. Он так устал, качаясь в седле много дней, что сил не было ни для радости, ни для тревоги. Как же быть ему дальше? Отец сказал, что в городе надо найти артистов. Это хорошие веселые люди приятной внешности. И они подскажут ему, как быть дальше. Найти их можно в некоем театре. Но вот уже вечереет, в окнах некоторых каменных одноэтажных домов окраины видны зажженные свечи и керосиновые лампы. Кто же откроет ворота юному всаднику? Кому задать вопрос о театре? И живут ли в нем люди? Или театр – это такой разборный балаган, как давным-давно приезжал к ним в Баргузин с представлением, и люди в нем не ночуют?
Юноша слегка дернул повод, останавливая столь же уставшего, как он сам, мухортушку. Чуть впереди и не на дороге, а у деревянного сруба колодца он заметил людей. Это были двое спешившихся мужчин в нищенских дэгэлах, и коньки у них были столь же бесхитростные, как его мухортый. Но рядом с ними была такой необыкновенной красоты белая кобылица, что даже на расстоянии захватывало дух. Она была без седла, и на ней сидела девочка-подросток в отороченном рысьим мехом, но тоже совсем простецком заплатанном дэгэле. Рядом с кобылицей стоял высокий жеребенок-стригун, и мать ласково касалась его морды своими губами. Стригун был тоже белый, но с серебристым отливом, словно его покрывали капли дождя.
«Надо же, – встрепенулся Мунхэбаяр, – я везу с собой недоделанный морин хуур, на котором есть лишь одна струна – мужская, из черного волоса Хары. Вот бы получить сто пять белых волос из хвоста этой кобылицы-матери! И тогда у меня будет совершенно неповторимый по внешнему виду и по звучанию инструмент». С почтительной озабоченностью на исхудалом лице юноша направил мухортушку к людям. Еще было у него поручение от Тумэна Модонова, которое он мог выполнить, лишь найдя одного старого купца, Чагдара Булатова. Поручение заключалось в том, что уважаемый Тумэн попросил передать размышления старца Очира Модонова о Пустоте и Пустотности этому купцу, поскольку рукопись составлялась в его доме в Кяхте. Очир называл имя ламы, с которым они вели разговор на эту священную тему, но Тумэн затруднялся вспомнить его, именитого купца же он знавал сам: «Чагдар Булатов, должно быть, знает этого почтенного ламу. Ты узнаешь его по необычайно грозному виду, но он не злой».
Мунхэбаяр быстренько доскакал до колодца, словно усталости и не бывало, спешился и простодушно обратился к старику, показавшемуся ему грозным и даже великим, каким он представлял себе человека с именем Чагдар. Обратился с поклоном:
– Мэндэ! Вы, наверное, Чагдар Булатов будете?
– Впервые вижу, чтобы первый встречный, да еще в широком поле, называл меня Чагдаром Булатовым, – скорее прорычал, чем сказал старик, впрочем, слегка поклонившись тоже, но обращаясь при этом к пареньку, стоявшему рядом, очевидно внуку.
– Значит, я не ошибся? – так же простодушно воскликнул Мунхэбаяр.
– Что же нужно тебе от человека по имени Чагдар Булатов? – спросил грозный старик вопросом на вопрос.
– Мне понравилась ваша кобылица, а больше того ее белый хвост.
– Что ты говоришь?! – поддельно и одновременно искренне удивился грозный старик.
– Мне нужны волосы из ее хвоста. Сто пять волос. Мне нужно доделать мой морин хуур.
Мунхэбаяр показал на инструмент, прикрепленный к его спине. О рукописи почтенного Очира он легкомысленно забыл.
– Вот видите? Есть черная струна, свитая из хвоста могучего жеребца, а с белой ну как же будет красиво!
– Ну пойдем же, паренек, – согласился старик. – Здесь неподалеку я знаю постоялый двор, и там ты мне расскажешь свои сказки.
– Я много знаю сказок, меня научил им почтенный улигершин Очир, – подтвердил Мунхэбаяр и потянул коня за повод, что сделали и его спутники, не садясь в седла своих замухрышек.
Белая кобылица с девочкой Аяной и стригун последовали за ними. Они шли молча, а старик – еще и насупившись и глядя в землю.
– Очир? – произнес он наконец в раздумье. – Очир Модонов?
– Да! – обрадовался юноша.
Они пошли дальше, и он не понял, почему его новые знакомые обошли стороной большую войлочную юрту, в которой наверняка можно заночевать. От нее тянуло теплом и уютом, наваристым бухлеором, сквозь дымовое отверстие вился мечтательный легкий дымок, словно родной родовой дух. Они шли навстречу городу и сгущающейся темноте. Спутники Мунхэбаяра, так и не назвавшиеся ему, но называемые им мысленно Булатовыми, остановились у большой полутораэтажной избы с крытым двором, и старик произнес:
– Здесь и заночуем. Как же, паренек, тебя зовут? Моего внука, например, зовут Зоригто. Он настоящий смельчак и хочет стать военным. Мы надеемся найти в Верхнеудинске военное училище нового образца. Там мой внук разучит красноармейские песни.
В последних словах грозного старика прозвучала ирония. Внук Зоригто, очевидно, был знаком с нею и в ответ смешливо хмыкнул. Мунхэбаяр же, услышав слово «песни», встрепенулся.
– Меня зовут Мунхэбаяр Ринчинов, и я из Баргузина. Я направляюсь в Верхнеудинск как раз учиться песням.
– Надо же, – все с той же легкой иронией отозвался старик. – Однако пока мы не вошли сюда, я скажу тебе вот что. Это русский постоялый двор, и я решил в нем остановиться именно потому, что здесь меня не спросят, какого я роду-племени. Для русских наши люди все на одно лицо. И я тебя, Мунхэбаяр Ринчинов, прошу как мужчину – прошу не называть меня Чагдаром Булатовым, хотя я и не могу сказать тебе, что ты очень сильно ошибся. Зови меня Балта, то есть зови меня убгэн эсэгэ, а держи в голове, что я Балта. И этим ты сослужишь мне верную службу. Обо всем остальном позже.
Он потянул коня за повод, и они вошли через незапертые ворота в дощатый крытый двор, со всех сторон окруженный амбарами, конюшнями и другими постройками, баней, топившейся по-черному. Подкованные конские копыта оставили на светлых сосновых досках сырые ошметки жирной черной грязи, что несколько смутило путников. Но тут на крыльцо вышел рослый красномордый мужик с широкой, как лопата, рыжей бородой, и Мунхэбаяр с ужасом зажмурился. Подобных людей он еще никогда не видел. Однако же спутники его глядели на мужика смело. Он несколько минут стоял в раздумье и наконец произнес:
– Мэндэ, братья! Вы хотя бы по-русски говорите?
– Здравствуйте, – отозвался Чагдар-Балта. – Я говорю.
– Вы что, товарищи братья, не знаете, что здесь рядом есть юрта? Вам может прийтись не по нраву русская пища. Или вы казаки? И вообще, я гляжу на вашу белую кобылу, вы, часом, не белоказаки? Тогда я не смогу принять вас, уж извиняйте, как можете! Сейчас власть красных. Я сам, конечно, за людей, но из-за вас, однако, не хочу лишаться жизни.
– Послушайте, уважаемый, – откликнулся Чагдар-Балта, а Мунхэбаяр, не понимавший вполне русской речи, хотя отец и дал ему навыки, пытался понимать интонацию, – начну с того, что мы не белоказаки, а чабаны. И я так стар, что за время жизни научился языку русских. Белую кобылу со стригуном мы поймали в степи и ведем в Верхнеудинск в дар новой республике бурят-монголов. От этих лошадей может пойти хорошая порода. А еще мои внуки захотели учиться на красноармейцев, что и заставило нас направиться в город. А почему мы не пошли в юрту, это наше дело, потому что наша республика. Мы не пошли, потому что мне надо приучить внуков, знавших одну степь, не дичиться перед русской пищей и такими особняками, как твой.
Мужику слово «особняк» не понравилось, и он сказал:
– Но-но-но, это не особняк, а изба для приема большого количества большевиков. Если у вас есть чем расплатиться, я приму вас, так как чабаны нынче в большом почете.
– Нашим коням нужно по мере овса, стойла, а нам – ужин и ночлег и безопасность.
– Что-то много вы просите. Спокой и безопасность где я возьму? – Мужик одернул застиранную косоворотку и поправил ремень, за которым обнаружился наган, едва заметный в полутьме. – Хотя я бы сказал, что теперь повсюду стало куда спокойнее. Зовут меня Федос Кузьмич.
В лето тысяча девятьсот двадцать четвертого года еще свободно разрешалось иметь любое оружие, включая бомбы. Ограничения появятся двенадцатого декабря, когда ЦИК СССР издаст соответствующее постановление, и наганы останутся в пользовании у одних партийцев по разрешению. Простым людям можно будет иметь гладкоствольное охотничье ружье. Однако к постановлению владельцы оружия особо не прислушаются, следующий год будет отмечен если не пальбой, то небывалым ростом самоубийств по всей стране. Одиннадцать лет потрясений расшатают психику населения бывшей Российской империи и сопредельных с ней государств. Многие самоубийство изберут способом сдачи оружия, кто-то захлебнувшийся от собственных зверств пустит собственную кровь в горячке, а кто-то устанет смотреть на то, что несовместимо с жизнью.
– Федос Кузьмич, – обрадовался Чагдар-Балта тому, что, судя по всему, им не отказано в ночлеге, – меня зовут Балта, за постой мы заплатим. А есть ли у вас в продаже револьверные патроны? Я слышал, в город надо входить, вооружившись как следует.
– Вот-вот, – проворчал мужик. – Я и вижу, что ты, Балта, чабан. Смотрите у меня! Я продам патроны, а вы меня расстреляете? Нет у меня патронов. А вот пулемет найдется на любого, кто мне станет угрожать. Я сорок лет держу этот постоялый двор, о чем-то это вам говорит?
– Говорит! – согласился Чагдар-Балта. – Это очень хорошо, что сорок лет.
Он чуть не произнес по-европейски «это хорошая марка», но вовремя вспомнил, что чабану не пристало знать такое выражение и он должен быть куда осторожнее. Потупив глаза, чтобы мужик не приметил испускаемые ими молнии, бывший именитый купец ступил за ним, сошедшим с крыльца, и они устроили коней и Сагаалшан-кобылицу в сухую и поставленную крепкой хозяйственной рукой конюшню, получили овес, а мухорушка Мунхэбаяра, не напившийся из степного колодца, получил еще и питье.
Уже сидя в избе за столом в ожидании щей, Чагдар вспомнил: «Надо же, паренек знает мое имя! Я так приметлив? Что же делать?» Однако Мунхэбаяр уже дремал, едва пробормотав: «У меня было столько приключений в дороге, вы не поверите». На печной плите что-то шкварчало, и говорить не хотелось.
Мужик сам подсел к ним с разговором.
– Вы хотите и в самом деле подарить кобылу и стригуна республике? Это верное решение. Они так приметливы, что никому с ними житья не будет. И вам в первую очередь. Продадите – убьют новых хозяев или самих животных. Сейчас в моде серость, одинаковость. Я тебе, Балта, так посоветую, уж поверь мне. Ты мужик приметный. А вот пареньки твои не очень. Особенно этот, что задремал. Он на воробья похож. Вот пусть они и вручат ваше сокровище, как вы говорите, республике. Пусть вручат вдвоем, как передовая молодежь Советского Союза.
– Кому же? – спросил Чагдар-Балта. – Я бы хотел создать племенное хозяйство. И не представляю, каким образом можно получить поддержку новых властей.
– Утро вечера мудренее, – откликнулся Федос Кузьмич, глядя, как жена Марфа расставляет оловянные солдатские миски с горячими щами.
Марфа была рослая, румяная и белолицая, то есть не серая и приметливая, как и муж, что внушало беспокойство за дальнейшее бытование их крепкого хозяйства. Тогда как в прежние года сложней существовать было слабым, ленивым и бесхозяйственным. Федос Кузьмич по грамотной речи грозного степного старика понял, что никакой он не чабан. Беглец скорее, раз с ним внуки и больше никого. Никого? Каких только постояльцев не перебывало у Федоса Кузьмича, однако страх был незнаком ему.
За окнами пошел и усилился дождь, навевая покой монотонным стуком капель. Аяна едва похлебала щи, процедив бульон так, чтобы не попадались капуста и картофель, и выловив кусок говядины. Мунхэбаяр, которого разбудил его голодный желудок, поступил подобным же образом. И только Чагдар-Балта и Зоригто быстро расправились со щами и ломтями вкусного пшеничного хлеба.
– Вот, – заметил на это Федос Кузьмич, – сразу видно, кто здесь дети степей, а кто города. Судя по съеденным щам, ваш Зоригто тоже говорит по-русски.
Мужику хотелось поставить гостей хоть в какую-нибудь моральную зависимость, мало ли как они вооружены и какие имеют намерения. Зоригто не отреагировал на его слова. Он встал из-за стола и сказал деду:
– Ну, я пошел спать в конюшню.
Дед отдал Зоригто револьвер, сестра – лук, и надоедливый хозяин не без иронии воскликнул:
– Теперь я понял, почему вы спрашивали про патроны. У вас нет станкового пулемета, как у меня. Что ж, будете уезжать – я поделюсь патронами для вашего револьвера. У меня их – как этого мокрого дождя. А он и завтра, по-моему, будет нашим гостем. Давайте мы, как проснетесь, истопим баню, недорого возьму.
– Если будет такой же дождь, то мы задержимся, конечно, – согласился Чагдар-Балта, находя предложения мужика полезными для себя и внуков.
Незаметно он включил в их число Мунхэбаяра и уже подумывал: «А сколько же волос в хвосте Сагаалшан?»
Известно, что хвост лошади надо время от времени прореживать, чтобы он не разрастался буйно, и что это очень важная вещь для животного, средство его общения с людьми, как и у других верных им животных – собак, и имеет он восемнадцать позвонков.
Аяна каждодневно расчесывала хвост Сагаалшан и стригуна, им нравилось это. Раньше у грозного Чагдара был конюх. И теперь старик не знал, как извлечь из хвоста сто пять волос для морин хуура Мунхэбаяра. Их выдергивают или обрезают? И не будет ли Сагаалшан больно? Утром он спросит Федоса Кузьмича, а что, если тот поможет? Хозяева постоялых дворов, должно быть, опытны в уходе за лошадьми. А вообще, что представляет собой этот Мунхэбаяр? Надо послушать его сказки, это поможет скоротать время ненастья.
Купец положил на стол перед мужиком царский золотой империал, тот взял его и заметил, что в ходу появились первые советские золотые рубли, а еще и медные пятикопеечные монеты необыкновенной величины – «с чайное блюдце, не иначе».
И вот этот день, про который грозный старик думал, что было бы лучше, если бы он не наступил, и что лучше, если дни будут идти медленнее, еще медленнее, и еще, – наступил.
Они входили в Верхнеудинск конной группой, от которой Чагдар-Балта отделил себя. Он медленно шел на отдохнувшем и получившем уход пегаше вдоль деревянного настила тротуара, а посередине улицы двигались высокая и благородная Сагаалшан и Аяна на ней, стригун, Зоригто и Мунхэбаяр при них эскортом на своих отмытых коняшках. Не так плохи на самом деле они были, эти коняшки, но рядом с Сагаалшан и стригуном никак не смотрелись. Впереди перед группой шел сводный духовой оркестр. Он сбивался то на хрип, то на фальцет, и кони досадливо поводили в этих случаях ушами, словно отлично разбирались в нотах и походных маршах. За группой слаженно цокал копытами эскадрон кавалеристов-красноармейцев с развернутым красным знаменем.
Как же удалось устроить такое оптимистичное зрелище, торжество идей республики? Зоригто, пробравшийся в город на разведку, встретил на лужайке близ Селенги-реки спаянную военными агитрейдами троицу – Степана, Антонаша и Егория. Они проделывали агитационные гимнастические и силовые упражнения и заодно купали коней. Помнится, что тогда у передовых советских граждан, в первую очередь у красноармейцев, был в большой моде нудизм. Но Зоригто впоследствии в своих рассказах опускал эту деталь: сверкали наши красноармейцы перед ним обнаженными белыми телами или же нет, не сверкали. Услышав, что внуки наибеднейшего бурятского барлага Балты поймали в степи настоящую белую племенную кобылу из орловских рысистых, да еще и со стригуном, отец которого был настоящий туркменский ахалтекинец, они чрезвычайно обрадовались, что не зря драли глотки в степной глуши, распевая перед Балтой и его родичами самые передовые песни мировой пролетарской революции. Агитация удалась на славу! Им бы спросить: «А откуда вы знаете, что отец стригуна был ахалтекинец?» – но эти красноармейцы были совершенно неискушенные деревенские простаки и за таких же принимали всех, кто был худо одет. Вместе с Зоригто они отправились к комиссару.
Зоригто же перед этим побывал у своих, что было не менее важно, чем попытаться понять, каким же образом передать Сагаалшан и стригуна Бурят-Монгольской Республике. А свои – это были женщины рода с сосунком Жимбажамсой. Это были великолепная Бальжима и нежная Энхэрэл, подвижная Номинтуя, и спокойная Гыма, и молодая мать Лэбрима – с сосунком Жимбажамсой. И лайка Булгаша-соболятница. Весной Чагдар Булатов вывел родичей к Слюдянке. Там они у одного старика-татарина забили овец и заготовили баранину. А племенного хусу-красавца с белой овечкой Чагдар подарил татарской семье с тем, чтобы хозяйский сын проводил женщин с Жимбажамсой на поезде до Верхнеудинска и позаботился об их безопасности.
А что же Цыпелма? В один из февральских студеных дней она промочила гуталы, ступив на обманчивый лед таежного родника, припорошенного снегом. Какое это было красивое дремучее место! Цыпелма загляделась на высокие оснеженные ели и гортанно кричавшего горного ворона, на рябину, тускло алевшую несклеванными сухими гроздями, на синеву Неба, представшего в виде круглой линзы, на порхнувшего с ветки на ветку бурого соболя и забыла, что надо смотреть под ноги. Они совсем промерзли, пока она вернулась к укрывшимся в русской охотничьей избушке своим. И так она заболела. Цыпелму недолго томили кашель и жар, отошла она в радужный диважин предков, встретивших ее исцеленной.
И тут мы спросим: помнится, старик Чагдар тайно породнился с девушкой Гымой, обнаружился ли после этого явный знак, то есть ее беременность? И сообщил ли сей грозный муж о состоявшемся Цыпелме? Как вы понимаете, совершившие что-то тайное потом очень затрудняются, когда тайное надо перевести в разряд явного. Так случилось и со всегда смелым и честным нашим именитым купцом. Пока он затруднялся, у Гымы стал расти животик, и женщины потихонечку обсудили с ней это и сказали, что рады будут прибавлению семейства. А Бальжима и Энхэрэл, словно поглупев, прощебетали, что прежде помогали матери поднять на ноги столько братиков и сестричек и теперь словно бы вернутся в детство. Одна Цыпелма молчала, ожидая сообщения от мужа. Но как-то все не могла дождаться и, уже собравшись в мир предков, сказала ему, сидевшему на лежанке у нее в ногах, что, верно, у Гымы будет сын, и пусть уж тогда назовут его, как хочет Цыпелма, – Будой, потому что старухи, такие как она, обожают такое приобщенное к святости имя. И Чагдар с облегчением и радостью на сердце кивнул и добавил: надеется, что с новорожденным вернется из военного похода к новой жизни кто-то из погибших их сыновей. Цыпелма в знак согласия коснулась рукава его дэгэла в полутьме таежной избушки, и приятие новости совершилось в необыкновенной тишине.
А теперь гремел военный духовой оркестр, к досаде явившихся из бурятской степи коней и старого Булатова. И отовсюду сбегались мальчишки и комсомольцы, комсомолки срывали с голов красные косынки и радостно махали ими. Детские платки их сильно прохудились, а красную косынку достать было милое дело! Попробуйте не дайте – это можно будет отнести к наследию царизма и белогвардейщине. Ради косынки и в комсомол вступить было можно.
Степка, ведший эскадрон и поглядывавший сквозь дорожную пыль на трусившего обочь Булатова, не выдержал и прокричал, вынув из ножен сверкающий на солнце клинок:
– Балта! Дорогой для нас батрак! Вступай в наш строй! Советский Союз для таких, как я и ты!
Он придержал движение, и Чагдару-Балте пришлось притрусить к эскадрону и встать рядом с командиром. Эскадрон двинулся дальше, Степка на ходу обнял старика:
– Ты снова плачешь, Балта! Не плачь! Мы дадим тебе хлеба и соли, а твои внуки доживут до тех дней, когда не будет недостатка в хлебе и соли! Мы победим эксплуататоров всего мира нашей мощной красноармейской рукой!
Всей гурьбой они дошли до нынешней улицы Смолина и от нее поднялись вверх. Там, поблизости от того места, где теперь стоит здание Бурятского государственного университета, тогда было другое, совсем небольшое, деревянное, огороженное массивным деревянным забором. На нем во всю ширь было растянуто красное ситцевое полотно и белела свежая надпись от руки: «Племенная коневодческая коммуна имени Владимира Ильича Ленина». И даже красовалось объявление: «Принимаем заявки на осеменение согласно рабоче-крестьянской очереди». Перед зданием была воздвигнута пахнущая свежей сосновой смолой деревянная трибуна. И по ней прохаживалось несколько человек в черных кожанах – уполномоченный от главы республики Абрам Цыпин и коммунист Банзар Дашиев, назначенный управлять новой передовой коммуной.
Оркестр привел шествие к трибуне, Аяна на Сагаалшан и вся их группа оказались как раз напротив трибуны, Цыпина и Дашиева. Степан скомандовал эскадрону, и мгновенно воцарилась тишина. Цыпин подбежал к краю трибуны. Цепко ухватившись за перила, оставляющие в руках занозы и запах смолы, он прокричал в народные и конские массы:
– Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик!
Красноармейцы и молодежь прокричали «ура».
– Да здравствует Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика!
Красноармейцы и молодежь прокричали «ура» еще громче и готовы были кричать «ура» после каждой фразы Цыпина. А он, пылающий пламенем юношеских губ, вдохнул побольше воздуха и снова прокричал, подняв правую руку, чтобы его не перебивали:
– Всюду мы наблюдаем ростки мировой революции! Всюду мы наблюдаем торжество идей Льва Давыдовича Троцкого! Беднейшие бурят-монгольские слои откликнулись на наш призыв строить фундамент своей республики. Эти белые кони лягут в фундамент конского поголовья мировой революции! Размножатся живые моторы, лошадиные силы, и революционное стадо бурят-монгольских коней первое примчится в Лондон и Париж!
Тут Дашиев покосился на оратора. В его речи все как-то немножко резало слух, животноводу хотелось сказать о практической стороне племенного животноводства, и, когда Цыпин назвал коней стадом, он не мог не вздохнуть. И Цыпин слегка замешкался. Обстановка в партии была тревожная. Цыпин не пригласил на митинг ни корреспондентов из «Бурят-монгольской правды», ни фотографа, чтобы ему не вменили потом что-нибудь. Он уже слышал, что дело Льва Давыдовича испытывает торможение со стороны сталинской группировки. А фотограф просто не нашелся. Новая власть потребовала от населения сдать личные фотографические аппараты как наследие царского режима. Всюду эта техника уничтожалась, разбивалась, переходила под партийный контроль, так же как и пресса.
– Власть большевизма – это не только власть! Это еще и практика претворения идей марксизма-троцкизма! Да здравствует великая мировая пролетарская революция! Ура, товарищи!
Молодежь и комсомольцы, нетерпеливо ожидающие возможности прокричать «ура!», троекратно прокричали «ура!», и слово взял Банзар Дашиев. В прошлом он был селекционер, поставлял коней на фронты германской войны и теперь был принят на службу. Банзар Дашиев и Чагдар Булатов прежде нередко объединяли усилия по поставкам в армию, но сейчас Дашиев не узнал именитого купца первой гильдии. Так он похудел, обветрил скулы под степными ветром и солнцем, сгорбился на стареньком седле, выцвела и прохудилась его одежда. Чагдар же узнал Банзара.
– Уважаемые красноармейцы, комсомольцы, бедняки! Сегодня мы открываем новую коммуну. Оптимизм – это главнейшее дело нашей новой республики, дело бурят-монголов и других народов. В распоряжение коммуны поступили лучшие образцы конского поголовья. Наше дело – чтобы образцы становились еще и еще лучше. Чтобы мы имели новых советских социалистических коней. Поэтому просьба ко всем вам, к народу республики бурят-монголов – найти лучших кобыл и жеребцов и доставить их в распоряжение коммуны. А мы будем четко проводить идеи Ленина – Троцкого, что и поможет поднять племенное коневодство до неслыханных масштабов. Ура, товарищи!
Раскатилось неслыханное троекратное «ура», оркестр заиграл бравурную музыку. Ораторствовать за годы революции полюбилось многим. Командир эскадрона Степан подскакал к трибуне и взял слово:
– Мы должны прокричать «ура» семье бурят-монгольских бедняков! Эта семья выловила в степи и доставила к нам лошадей, достойных Союза Советских Социалистических Республик! Достойных Бурят-Монголии! Рабоче-крестьянской Красной армии! А голодая, что есть наследие проклятого ненавистного царизма, эти люди могли просто забить и съесть! Съесть пойманных животных. Благодарим их за вклад! Вклад в великое рабоче-крестьянское дело! Ура, товарищи!
Чагдар содрогнулся словам командира эскадрона, что они могли забить и съесть Сагаалшан. Представляет ли Степан, что немыслимо пролить кровь на такую священно-белую шкуру? И сколько золота и на каком аукционе за кобылицу отдано? Старику не было известно, что на полях Гражданской войны были разграблены и уничтожены племенные хозяйства всей Российской империи, от Армении до Сахалина. Ценнейшие породы ушли под мясницкий нож революции.
Далее всадники, а Цыпин и Дашиев – на нежной барской рессорной пролетке последовали за ворота коммуны на торжественный обед партийных и беспартийных, организованный кавалерийской частью. Тут Банзар Дашиев узнал Чагдара Булатова и покивал ему издалека. Для него все встало на свои места. Он понял, что Сагаалшан и стригун – это дар купца Чагдара. Дашиеву стало радостно, что старая знатная Бурят-Монголия присоединяется к новому делу, что мудрец Чагдар жив и рядом с ним его внуки. Что Чагдар плохо одет, он и не заметил. Он и сам был одет ненамного лучше. Это было нужно, чтобы уцелеть, это была своего рода униформа новой власти бедноты.
Сагаалшан и стригун, получивший красноармейскую кличку Сокол, были поставлены в стойла, остальные кони размещены в загоне. Дашиев выбрал эту усадьбу под коммуну неслучайно. Ее прежним владельцем был купец-коневод, расстрелянный революционными бедняками в первый год победного шествия революции – в тысяча девятьсот восемнадцатом. Семья купца на тот момент находилась в Иркутске, и сейчас о ее судьбе ничего не было известно. Задавать меньше вопросов, устремляться в будущее – в тысяча девятьсот двадцать четвертом этого хотелось всем, кто остался склонен строить и созидать.
Чагдар был рад увидеть Банзара. Кроме того, его очень беспокоило, что внучка Аяна не пожелала расстаться с кобылицей и жеребенком, сросшись с ними в одно целое за время общего трудного пути. Аяна оказывалась без семейной защиты. Правда, брат ее Зоригто сказал, что тоже поступит в коммуну, но старик знал, что у него совсем другие устремления. Потомку Чингизидов хотелось быть военным, слышать храп боевых коней, скакать за горизонт, где нынче обозначилась мировая революция. Его ум и мускулы жаждали побед в едином строю храбрейших. Идеи – это было второстепенное. Пора молодечества звала Зоригто, подобно боевой трубе.
С Банзаром Чагдар мог поговорить об Аяне. Облегчало положение то, что они могли бы поговорить по-монгольски. Среди присутствующих их разговор могли понять только Зоригто и Аяна. А вот что касается Абрама Цыпина… Из каких он? Многие баргузинские евреи знали речь местных. Цыпин же мог приехать в Верхнеудинск откуда угодно, хоть из Франции и Германии. Дело мировой революции было делом таких, как он, победителей. Пока Чагдар думал, как бы подсесть поближе к Дашиеву, он заметил, что слова о торжестве беднейших слоев над наследием прошлого были всего лишь пустыми фразами. Иерархия выстраивалась привычно и сама собой. Бедняк Балта оказывался затертым в последних рядах пиршества. Здесь никто не преподносил ему бараньей головы или лопатки. Он ел жидкую пшенную кашу, и ему досталось немного самогона в оловянной кружке. И такому угощению новый бедняк был несказанно рад, потому что изрядно проголодался.
Тут его снова увидел Степан, очевидно наделенный даром замечать людей и сплачивать их. Конечно, имя Балта ему запомнилось, потому что намекало на революционную Балтику, и командиру красноармейского эскадрона, щеголявшему кавалерийскими шароварами из красного сатина, захотелось покровительствовать Балте-Балтике еще раз. Он подсел к старику, обнял за плечи и спросил, что же может печалить его тогда, когда красноармейцы окончательно одолели белобандитов и империалистов.
– Скажу по правде, Степан, меня беспокоит то, что Цыпин бросает на Аяну нескромные взгляды. И то беспокоит, что она остается в коммуне, а у нее нет даже нагана. Вы могли бы найти для нее наган? Ведь она будет защищать достояние республики – племенных лошадей.
Степан задумался ненадолго, повесив голову с по-революционному нестрижеными русыми кудрями, а потом стукнул увесистым кулаком по столу так, что зазвенели солдатские оловянные кружки и подпрыгнули в воинских руках стальные ножи, резавшие баранину.
– Слушайте меня! Коммуна поступает под защиту нашего эскадрона. Не только лошади, но и все, кто с ними работает. Вся семья бедняка Балты. Поняли?
Раздалось дружное: «Поняли!» Цыпин тоже понял.
– Я попрошу Балту и его семейство остаться при коммуне, – сказал Дашиев, так ему хотелось поговорить с Чагдаром Булатовым о старом и новом. Да и лучше работников, чем такая образованная и культурная семья, ему не найти.
Застолье начало распадаться. Кавалеристы всей толпой пошли курить махру. Банзар Дашиев достал трубку, и Чагдар Булатов достал трубку. Ему из набора трубок очень не захотелось раскуривать бедняцкую. Он достал свою любимую, почти ювелирной работы: в оправе из уральского серебра, арабского черного дерева. Дашиев окончательно понял, что не обознался, подсел к нему.
– Вы, ребята, поезжайте до наших, до юрты, – сказал Чагдар внукам и Аяне. – Я здесь заночую.
Парни быстро сели на коней и умчались, их утомила непонятная говорильня и такое же бестолковое торжество. Аяна осталась.
– Я тоже переберусь жить сюда, – сказал Чагдару Банзар. – Моих никого не осталось. Я теперь один.
– Ты помнишь улигершина Очира Модонова, древнего, как мамонт? – спросил Чагдар Банзара. – Он как-то раз зимовал у меня в Кяхте и написал размышление о Пустоте и Пустотности. Это размышление мне на днях передал мальчишка Мунхэбаяр Ринчинов. Я останусь здесь и буду читать.
– Ты осторожнее будь. Новая власть уничтожает все, что ей непонятно. Я слышал, скоро начнутся аресты лам. Пустотность будет нарастать. И что-то это не радует. Одно дело – понятие Пустоты посреди мира людей. Другое дело – когда людей совсем не осталось.
– Тогда Пустота не есть категория, а есть благодать, – сказал Чагдар строго.
Банзар попыхтел трубкой. И поскольку они оставались одни, напомнил старому товарищу о днях германской войны, когда они вдвоем доставили хоринских коней в прифронтовую Варшаву и, отдыхая в отеле, пытались постигнуть учение Лао-цзы:
- Звуки, сливаясь, приходят в гармонию, но
- Падают пылью к ногам скрипача все равно.
- Он же, шагая со скрипкой вперед и вперед,
- Слышит гармонию, но одного не поймет:
- Попеременно ступая то правой, то левой ногой,
- Сможет ли правильно шаг рассчитать то один, то другой?
Чагдар обрадованно добавил:
- Мудрый, взглянув на такого со скрипкой беднягу,
- Тут же решил, что не станет он делать и шагу.
- Кто же докажет без действий его, кто поймет, —
- Мудрый, – он всесовершенен, иль наоборот?
- Ну а поскольку он также премного молчит,
- Люди на цыпочках ходят, никто не кричит.
Банзар продолжил:
- Каждый, кто взглянет на мудрого, сразу поймет,
- Что нужно делать и как, а не наоборот.
- Всякий становится строг поневоле к себе,
- Преобразуя творенье в беззвучной мольбе.
– Как же ты так смог поступить? Отдать элитную кобылицу в коммуну? За сколько же ты ее приобрел, Чагдар? – полушепотом спросил Банзар.
Чагдар ответил:
- Мудрый, он то создает, чем нельзя обладать:
- Вздохи, зевоту, дремоту, тиши благодать.
- Благостны дни, коль благое легко он узрел.
- Все, что естественно, мудрого вечный удел.
Банзар согласился:
- Очи откроет он, мудрый, – подать ему чаю пора.
- Мудрый кивнет – побегут облака и ветра.
- Кто же докажет, что все это сделал не он?
- Солнечной пряжей богат его дней небосклон.
Тут за дощатой стеной раздался громкий хохот красных конников, причина чего была неизвестна старикам, и Чагдар шепотом напомнил Банзару:
- Нечто ведя к завершенью, дразнит успех.
- Слышит довольный, полезный для сущего смех.
- Он не гордится, поскольку достиг не вершин.
- То не обмеришь и там не приложишь аршин.
- «Не огорчайся, – ему говорит окруженье. —
- Столько отбросить заслуг нам не хватит терпенья.
- И нас за заслугами вовсе не видно, но ты
- Само совершенство, что просто не спрятать в кусты».
Банзар обратился к Чагдару:
– Удивительно, но мы оказались в таком времени, когда исполнение заветов Лао-цзы становится естественным. Слушай:
- Нечто мудрейший изрек, ну а что – никому мы не скажем.
- Сидящие низко у ног всполошились: «Его мы обяжем».
- Один с него тянет сапог, а другой подарил душегрею.
- Мудрейший вконец изнемог, попросил он оставить затею.
Чагдар добавил:
- Мудрейший венец утопил
- И вышел, сверкая плешиной.
- «Пусть носит венец крокодил,
- Мне хочется быть образиной».
- То видел вернейший слуга,
- И людям выносит он чаши.
- «Возьмите, – сказал, – навсегда,
- Теперь все народное, ваше».
- Откуда возьмутся воры
- В такой распрекрасной державе!
- Вручайте отныне дары
- Мошеннику и раззяве.
Банзар же ответил:
- Богатства раздали, теперь
- Завидное самое спрячем.
- За самую тайную дверь
- Почести, славу, удачу.
- Скромно вздыхая, пойдем
- За самые тайные двери.
- Что видим одни и вдвоем,
- Народу мы не доверим.
Чагдар попыхтел трубкой, довольный состязанием, и, наконец, напомнил Банзару:
- – Все сыты, а значит, сердца
- Пустеют даянием света.
- Во взглядах сквозит простота
- Благоприятного лета.
Так потекла новая жизнь семьи Булатовых в Верхнеудинске. Дав внуку имя Жимбажамса, «Океан щедрости», дед рассчитывал, что род начнет прирастать и возвращать утраченное благосостояние. И это стало происходить, но как-то по-другому. Появились друзья и стали все равно что близкие родственники: Банзар Дашиев, совершенно одинокий и не рискующий перед кем-нибудь раскрыть свое прошлое, столь известное Чагдару; Мунхэбаяр Ринчинов, приходящий в гости со своим морин хууром. Он поселился у вдовы одного верхнеудинца, приятеля из прошлой дореволюционной жизни Чагдара, агинки Валентины Чимитовой, и старушка нашла, что парня надо сначала поучить и обтесать, чтобы его богатые певческие данные не потерялись перед лицом пестрой и малопонятной жизни, в которой рискованно быть искренним. Чагдар и Банзар стали заглядывать к Валентине на чай, с большой осторожностью наблюдая за тем, что осталось от их былого круга. Аяна ближе познакомилась с командиром эскадрона Степаном, и нет-нет да стали красноармейцы, оторванные от родных мест и семей, интересоваться жизнью Булатовых, ставших на учет в республике как Балтиковы. Балтаевы ведь не звучит для русского уха? Или болтуны, или разболтанные. Балтиковыми Булатовы стали, конечно же, по совету красноармейцев. Степан сказал: «Балтиковы – это звучит красиво. Вот я – Щедрин. Это что за фамилия? Ни к селу ни к городу». Чагдар тогда подумал: «А неплохо бы звучало – Жимбажамса Щедрин. Но пусть невестка Лэбрима ждет моего Намжила. Похоже, он ушел в Монголию». Чагдар числил в живых двух из восьми сыновей – Намжила и Рабдана. И вскоре сказал внуку Зоригто, увлекшемуся кавалерийскими учениями: «Давай, внук, переходи из кавалерии в разведку. Ты знаешь монгольский. Подучишь китайский, и отправляйся на поиски дядьев. А что, если они в беде и нуждаются? Монголия и Китай попадают в зону влияния СССР. Ты понадобишься там с разведывательной миссией. А на этих кавалерийских скачках мозги растрясешь, да и только». Чагдар числил в своих предках не только Чингисхана, но и самого Гэсэра и ум имел государственный. Зоригто пообещал знатному деду, что дядьев, сыновей его, найдет. Найдет Намжила, отца сосунка Жимбажамсы.
В круг семьи вошел и Абрам Цыпин, в вихре огненных лет потерявший родителей. Оказалось, да, он знает местную речь, потому что из баргузинцев. И сам таится. Отец его, Цыпин, был ссыльный политический, а женился на дочери баргузинского золотопромышленника Блюминой, и поэтому Абраму приходилось скрывать свое двойственное происхождение. По духу он был настоящий революционер, был горяч и искал справедливости, но имел страсть к накоплениям и золоту. От последнего пытался отучить его в своих словесных поучениях Чагдар. И для Цыпина старый купец был образцом восточной мудрости, «гнездящейся среди наибеднейшего бурят-монгольского люда». А нужно ли было кому-то знать о прошлом Чагдара Булатова? Прошлое обнулилось, ушло в небытие, и Чагдар-Балта теперь воистину был смирен и беден.
Он хотел было поселиться с новой женой Гымой и новорожденным младенцем Будой в коммуне, однако передумал. Коммуны не выглядели вечными, такими, как бурятская войлочная юрта, в которой семья обосновалась на самой окраине города, приобретя ее у одной старой женщины. Там находилось место для всех, и теснота порождала ощущение заполненности в том мирном кругу, что был разорен и во всем нуждался. Номинтуя вышла замуж за Антонаша; молдаванин, незаметный за спиной шумного Степана, потихонечку увел ее жить в казарму. Однако же вскоре молодожены поселились в юрте, а вслед за этим Антонаш оставил кавалеристскую службу и создал с Номинтуей овцеводческую коммуну.
Непросто складывалась жизнь Мунхэбаяра, которого Валентина Чимитова иронично называла «большим артистом малой сцены». Созревание природного таланта – это не то же самое, что прирост шерсти у овцы!
Ко второму августа одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года готовился первый в истории бурят-монголов общереспубликанский Сурхарбан. Основой для его проведения послужил декрет советского правительства от 1918 года о Всевобуче – всеобщем военном обучении. Бойцы отрядов всевобуча проходили военную и политическую, физическую подготовку.
Старинные состязания кочевников «Три игры мужей», включавшие стрельбу из лука, борьбу и конные скачки, как нельзя лучше подходили к годовщине республики и по специальному постановлению проводились в аймаках, вобрав и новые виды спорта – футбол, волейбол и легкую атлетику. О празднике в родной для Чагдара Булатова Тункинской долине сообщала газета «Бурят-монгольская правда»: «Никогда еще Тункинская долина не видела такого многолюдного торжества… В состязаниях самое горячее участие приняло все население. Выступило 45 пар борцов, 35 скаковых лошадей, 13 рысистых иноходцев, 40 стрелков из лука, а также футбольные команды». И вот второго августа (русские в этот день отмечают праздник Ильи-пророка) на городской ипподром на Сурхарбан съехались победители со всех аймаков, включая позже отделенные от республики округа – Агинский и Усть-Ордынский.
Честолюбивый Зоригто объездил и подготовил к этому дню слишком молодого, но крепкого и рослого Сокола и привел его на скачки. Удивительно, но объездить Сокола оказалось легко. Жеребец, не знавший табуна, а только людскую ласку и приветливость, видевший, что кони используются исключительно для верховой езды, сразу понес юношу с невыразимой грацией. Может быть, здесь сказалось, что нередко в присутствии Сокола названый брат Зоригто Мунхэбаяр играл на морин хууре, и тут, прежде чем Зоригто вскочил на его спину, он долго уговаривал и очаровывал жеребца магическими струнными наигрышами.
И теперь наш музыкант был уверен, что Сокол, наполовину ахалтекинец, наполовину орловец, возьмет первый приз. Однако питомец муз ошибся. Сокол завредничал, растерялся, наложил лепех и не встал в линию. Сокол был исключен из забега, к тайной радости других жокеев, пораженных редкостной статью жеребца. Не повезло Зоригто и со стрельбой из лука. Лука не оказалось на месте! Жокеи отомстили ему за то, что у него такой превосходный конь! Они спрятали лук и стрелы под помост для выступлений ораторов. Речи на политическую тему тоже были новшеством старинного праздника. А на этом помосте Мунхэбаяр Ринчинов должен был спеть для коммунистической молодежи гимн «Интернационал» и так полюбившийся ему «Авиамарш». Парень еще не знал нот и выучил лишь около сотни русских слов, но с голоса запомнил тексты и мелодии безукоризненно. Он спел очень хорошо и с приподнятым настроением, словно каждая песня была реваншем за неудачи названого брата со скачками и луком. Но опять не заслужил похвалы! Он слышал сердитый шепот всех собравшихся на Сурхарбане племен, что не поет на родном языке. Но уже был уверен, что, если бы он запел что-нибудь из «Гэсэриады», его бы осудили тоже, нашли бы за что! Новые люди непочтительны.
После исполнения песен к нему подошел обрадованный Тумэн Модонов. В скачках баргузинцев он занял на своем Хара второе место и не отказался от предложенной ему поездки на республиканский Сурхарбан, чтобы повидать его, земляка Мунхэбаяра. Кажется, Тумэну было все равно, как и что пел Мунхэбаяр. Тумэн радовался, что видит его, что выполнит поручение онтохонойцев – они отправили парню вязаную рубашку, борсо, овечий сыр и настоящие пшеничные ароматные шаньги. Они разжились мукой! Тумэн сказал, что дела в Онтохоное идут прекрасно и что, судя по всему, они нескоро откочуют к Верхнеудинску. Солбон, увлекшийся охотой на соболя минувшей зимой, не хотел теперь покидать принявшую его Баргузинскую долину.
– Соболя? – переспросил Мунхэбаяр. – У моих новых друзей Балтиковых есть Булгаша-соболятница. Она так изнывает по охоте, что вызывает жалость у любого, кто ее видит. Балтиковы мне говорили, что не прочь даром отдать собаку настоящему охотнику. Поедем к ним!
Они пошли разыскивать сэргэ, к которым были привязаны лошади. Тумэн познакомился с Зоригто и был поражен красавцем Соколом, и долго рассматривал его. Он удивился, что Сокол приветливо заржал Мунхэбаяру. Зоригто что-то шепнул названому брату. Мунхэбаяр горделиво вздел ногу в стремя. «Какое же высокое положение занял наш Мунхэбаяр в Верхнеудинске», – подумал Тумэн, вскочив следом в седло своего вороного. Не меньше Тумэн был поражен, когда старый бедняк Балта Балтиков оказался уважаемым знакомым – знатным купцом рухнувшей империи Чагдаром Булатовым.
– Ты понимаешь, Тумэн, – сказал тот в уединенном разговоре, – я совсем недавно увидел следующее. Я остановился рядом с высокой и красивой стройной елью. На ней вызревали шишки, а рядом было несколько таких же деревьев, и площадка под каждым была словно ухоженной, защищенной шатром из еловых лап, наверное, на протяжении более чем двухсот лет. И я понял: чтобы выстояться, принять разумную определенность мысли, ощутить эту жизнь в полной мере, нужно лет не меньше. Понял, что я настоящий младенец среди людей. Пока жизнь текла ровно, я одобрял ее. Но когда она переменилась, многое стало мне неясно. Это значит, что я безнадежен и не стоит мне спорить с сущим. Остается каждый день удивляться переменам и принимать их. И это самое лучшее, что можно сделать.
Глава четвертая
Валя Маросеева спасается от голодной жизни
Так в трудах и обновлении жизни миновало около десяти лет Бурят-Монголии. Трудно было найти хотя бы одну республику и местность в СССР, где бы обитал один народ. Исключение составляли уголки Крайнего Севера, Кавказа и Памира, в которых могли проживать только те, кто там поселился издавна и привык к трудностям и отсутствию того, что мы называем цивилизацией. Бурятия издавна была обжита, о чем говорят находки из первого века до нашей эры в Большом Иволгинском городище близ Улан-Удэ. Здесь был перекресток торговых путей – по Великому железному пути металл из сибирских рудников распространялся во все стороны света, и в местных кузницах ковалось оружие, подковывались лошади. Здесь были и пути скотоводов. Позднее в страны Запада пролег Великий чайный путь. Он был так назван потому, что чаю отводилась особая роль, однако этим путем на Запад следовали и другие караваны – с тканями, посудой, коврами, кожами, всем, что можно было доставить из Китая и Монголии. По этому пути с запада на восток со знаменами Всемилостивейшего Спаса проникли русские казаки-первопроходцы. Они подняли здесь чермный, темно-красный, флаг царства Московского, а позднее сподвижники Петра Первого утвердили здесь знамя Российской империи. За Байкал, как и во всю бескрайнюю Сибирь, прибыли служивые, торговые, каторжные люди. Свободное крестьянство было представлено старообрядцами. В каких-то местностях они оберегали свою изолированность, в других были более открыты государственности, поэтому построили каменные храмы со службами по новому образцу.
Село Творогово, откуда в Верхнеудинск приехала в голодном тридцать третьем году восемнадцатилетняя Валя Маросеева, находится в очень красивом месте: на юго-западе Кударинская степь с сосновыми борами, к северо-востоку Селенга, на западе Байкал. Народ здесь все рыбаки, но при этом сеют хлеб и держат скот. Село выросло после восстания атамана Пугачева. Разгромленное правительственными войсками, восстание дало селу уральских казаков. Тут им довелось познакомиться с той необъятной степной волей, которая ими чаялась.
Почтовое сообщение, устраивавшееся в одна тысяча восемьсот тридцатых из Центральной России в Китай, дошло и до Творогова: здесь на пути в Кяхту действовала первая после Посольско-монастырской почтовая станция. Чиновник Василий Паршин, составлявший записки по пути следования, отмечал, что в этом селе очень много приличных домов, повсюду заметны избыток и довольство жителей. Сравнивал по виду с Нерчинском. В те же восемьсот тридцатые здесь строилась каменная церковь с верхним приделом во имя Казанской иконы Божьей Матери.
Раз в год во время престольного праздника подняться на колокольню, позвонить в колокола и обозреть окрестности мог любой прихожанин. Валя поднялась на колокольню с тятей Петром Семеновичем, когда ей было пять лет, двадцать первого июля одна тысяча девятьсот двадцать первого года. Отец нес ее на руках, ласково прижимая к себе, и она очень радовалась. Для нее праздник был необъятен, еще больше, чем вид с колокольни, потому что простирался в глубину детского сердца. Она не понимала, что китель отцовского унтер-офицерского мундира выцвел, только видела: яркие следы, что были под погонами, чем-то вытравлены. Она слышала, что отец вернулся с войны, третьей в его жизни, но не смогла бы рассказать об этом. А отец взял ее на колокольню, потому что не знал, как дальше им распорядится судьба, и потому что только десять дней назад семья схоронила старшую дочь, Агапу. Отец служил белому делу и Колчаку, которого помнил молодым еще по Русско-японской войне, а Колчак был разгромлен, расстрелян. Проведя остатки растерзанных боями и горестями каппелевцев по льду Байкала из Голоустного, отец перезимовал у старого фронтового товарища в Выдрине. В походе через Байкал он отморозил ноги и долго лечил их, а дома уже не чаяли увидеть его.
На другой год за Твороговом проводились археологические раскопки, были найдены предметы железного века. И для девочки это слилось вместе: археологический раскоп и могила сестры Агапы. Валя была очень верующей и хотела учиться, чтобы прочесть всю Библию, как прочел отец, и узнать о милостивом Христе и тайне загробной жизни. Отец задумал, чтобы она выучилась в церковно-приходской школе.
Однако он не хотел, чтобы его подросшие сыновья Михаил и Николай узнали больше, чем дала им такая школа. Для этого надо было ехать в город, а там погибель соблазнов. И вообще, воюя, он по ним тосковал, сыновья ему нужны были дома, в крестьянском хозяйстве. Не хотелось отпускать их и из-за той гибельной неизвестности, что образовалась повсюду, по всей России. Служа в царской армии, воюя, Петр Семенович добра нажил средне. В хозяйстве у него были пахотные земли и покосы, кони, коровы, овцы, свиньи, птица. Пока он отсутствовал, всю мужскую работу исполняла жена Анна, казачка. Сибирская земля была богата и сочувствовала людям как могла, рождая изобилие в круговороте дней и ночей.
И вот Валя стояла на деревянном арочном мосту через Уду с братом Колей. Они вдвоем смотрели на серую извивистую воду, будто на врага, на чешуйчатого злого змея. Они вдвоем покинули родное Творогово. Новой республике исполнилось десять лет.
В минувшем году в Творогове был страшный потоп. Именно так восприняли это нашествие воды в селе. Отец открыл Библию и прочел: «В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей».
Всем сделалось очень тревожно. Это дети не знали, чем была Гражданская война и бесконечность несомых ею тревог. Для старших разлив реки Селенги стал настоящим новым горем. Вода поднялась более чем на пять метров от обычного уровня. Низменные земли были затоплены, что коснулось и Верхнеудинска. Люди спасались на крышах. В рыбачьем Творогове было достаточно лодок для передвижения. Но ведь траву с лодок не накосишь! Пшеницу не сожнешь! Пашни, луга – все затопило.
Постоянные туман и сырость в домах давали развитие болезням. В доме Маросеевых скончался трехлетний Никита. Он попил из горстей сырой воды, стоявшей в колоде, в которую обычно наливалась вода для животных. А животных была теперь одна собака! Двух коней, пять коров и три теленка, свинью и боровка, отару овец, уток, гусей и кур отец вынужден был сдать в колхоз. И теперь вся птица утонула, вся колхозная скотина через нечистую воду пала от печеночного глиста. Была бы она спасена, если бы при ней были хозяева, – кто знает! За Никитой же смотрели – недосмотрели. Добрая охотничья собака-лайка вскоре тоже сдохла. Впрочем, было не до нее. Начался настоящий безнадежный голод. В селе не знали, что голод бушует по всему Советскому Союзу. Не знали, и слава богу. Было бы еще страшнее, если б знали. Везде голод был вызван разными причинами. Это было очень-очень странно. Это было наказание за грехи. У твороговцев грехи появились в изобилии. Богохульство, неуважение к старшим, дерзость. А до этого раскулачивание, коммуна. Всем селом горевали, когда от них на подводах увезли семью Журавлевых, названную кулаческой. Эта семья была из самых что ни на есть старожилов. Оттого и место, где стояли у них две избы, и пастбище, и пашня, и луга у них были лучше других. Это же понятно: кто первый пришел – возьмет что получше. Могли ли подумать о том, что будет через триста лет после заселения? Журавлевы были очень верующие, культурные, на храм много жертвовали. Работников держали из бедных больших семей, да было таковых работников едва двое. В богатом селе, да еще поодаль от железной дороги – где их взять, бедняков? Слово «батрак» услышали в Творогове только после революции от агитаторов. Когда пришли брать, Журавлевы очень растерялись. Давай креститься на иконы всей семьей. В пол бухнулись. А уполномоченные их колкими штыками заставили подняться и во двор выйти. Будут молиться – а вдруг Бог поможет? Гром, молнию, многодневный ливень нашлет?
И вот Журавлевых повезли через все село неведомо куда. В нерчинские рудники, наверное. Малые дети, все семеро беленькие, льняноволосые, испуганно сидели на подводе, а большаки шли рядом. Народ высыпал к дороге всем селом. Нечаянно, не сговариваясь. Бабы плакали, мужчины снимали шапки. Кланялись Журавлевым в ноги всем селом: «Простите нас!» Прощения просили, что горю помочь не в силах. Это давно было, по первости. Потом бы и выйти на улицу, и поклониться побоялись, такой вал несчастий на всех покатил. Ту же коммуну взять. У людей в коммуну забрали все лучшее. Маслобойки, веялки, швейные машинки. Коммунары из бедноты быстро все пропили-проели, технику переломали, скотину закололи. Закрылись коммуны, пошел колхоз.
В прошлом году был потоп, а в нынешнем пришел голод.
– Мы получали граммы отрубей, – рассказывала Валя. – В них муки и пылинки не было. Лизнешь, и слезы выступают. До того они были горькие, есть невозможно. Но мы пекли лепешки и ели. Как пекли? У мамы получалось, если мелко крапиву нашинковать и сбить плотно. Так это мне лучшее вспоминается! Крапива была в свой сезон. Кто работал, тому давали по восемьсот граммов соленой, одна соль, селедки. И это возле Байкала! И вот мы за эту селедку работали. Дети, старики. Все. Возили на лошадях землю и заваливали дамбу на берегу Селенги. Будет ли прок от дамбы, никто сказать не мог. В тайге можно было зверя добыть – нет, все были привязаны к одной работе, попробуй отпросись. Отпросись – и пойдут разговоры, что отстраняешься от коллектива. И конец этих разговоров известен – арест. Потом стало еще невыносимей. И я, летом немного окрепнув на крапиве и лебеде, выпросила у председателя колхоза разрешение на паспорт. Сказала, что поеду в город на пролетарское производство. И там я устроилась в пекарню.
Так Валя рассказывала двоюродной сестре своей верхнеудинской Ульяне Маросеевой.
Голод погнал деревенских на заводы и фабрики. Отец посоветовал Вале и братьям немедленно испросить временные паспорта и уехать, а потом получить постоянные и вернуться, когда закончится власть коммунистов. Без веры в это он жить не мог. Старшего Михаила задержала в Творогове семья. Младший Николай, еще неженатый, был старше Вали на семь лет, ему было двадцать пять.
Они смотрели на воду Уды и обернулись на мелодичный цокот подкованных копыт. Брат знал толк в лошадях.
– Смотри, смотри, – легонько толкнул он в бок сестру.
По мосту летел на белом с серебряным отливом коне крепкий бурятский мальчик в красноармейской буденовке. Казалось, что конь плывет над землей, не касаясь ее копытами. И только легкий звон выдавал касание.
Этот конь, Сайбар, был внуком Сокола. После того как Сокол был замечен военными властями Верхнеудинска, его забрали в армию – как говорили, для командира дивизии. Имя его произносить не решались, и к лучшему, так как тот был вскоре репрессирован. Следы Сокола затерялись. Но прежде чем это произошло, его удалось случить с настоящей туркменской ахалтекинкой. Чагдар-Балта, не слишком уверенный в том, что переменчивое неустойчиво, а устоявшееся твердо, сразу сказал Дашиеву, что для Сагаалшан и Сокола надо немедля подбирать породистых жеребца и кобыл. Ему непременно хотелось, чтобы Сокол случился с ахалтекинкой. Да где ее раздобыть? Для простого варкового способа случки можно было подобрать сколько угодно кобылиц. Но Чагдар считал, что это испортит породу. Помог эскадрон, правдами и неправдами из Туркестана была привезена в теплушке сероватая с серебристым отливом кобыла-трехлетка. И Сокола случили с ней буквально за несколько дней до изъятия из коммуны Дашиева.
Брат и сестра смотрели на коня и всадника. Это был настоящий праздник для глаз после двух лет несчастий.
– Валя, Валя, – взволнованно шептал Николай сестре, – я по аллюру вижу, что это аргамак. Таких коней разводят, чтобы они ходили по зыбким пескам пустыни, и они будто летят! Это конь для царей и принцев.
Сказав это, он потупился и замолчал. Он вспомнил, что не время говорить про царей и принцев. И вообще, лучше молчать. Но тут кто-то звонким мальчишечьим кличем позвал мальчика-всадника:
– Жимба-жамса! Жимба-жамса! Жимба-жамса!
Догоняя белого с серебристым отливом коня, промчались трое подростков на буланых без седел. Теплый пахучий ветерок коснулся сестры и брата.
– Все наладится, все наладится, – сказала Валя Коле, увлекая его вслед юным всадникам.
Так они тридцатого мая встретили десятилетие Бурят-Монголии.
– Коля, Коля, – сказала Валя брату с упреком, – вот если бы ты пошел в Красную армию, у тебя была бы такая же красивая буденовка с красной звездой, как у этого веселого и счастливого мальчугана. И такой же знатный конь!
Они присели на скамейку под высокими, приветливо шумящими тополями, навевающими покой и радость.
– Что ты говоришь, Валька, – вздохнул брат, снимая со стриженой головы старенькую красноармейскую фуражку с лакированным козырьком и раскрашенным от руки значком звезды. – Что ты говоришь, подумай. Тятя с красными сражался, пострадал от них. Его товарищи были убиты, а кто не убит, замучен в иркутских застенках. А я бы пошел служить в Красную армию?! Достаточно того, что я намаршировался со всевобучем. Если японцы на нас нападут, я, конечно, пойду воевать, как теперь говорят, с классовым врагом, в одном строю, плечом к плечу. А служить – перед тятей было бы стыдно. Он говорил, что любил строй и товарищей своих. А я и строя не люблю. Я единоличник по натуре.
– Как же хорошо было, когда мы единолично жили, пока тятя в колхоз не зашел. Это я виновата, что он в колхоз зашел.
– Валька, да все равно бы его вынудили зайти. А вода такая безудержная затопила и единоличные хозяйства, и колхоз. Смотри вот, все для человека хорошо, когда в его мерку. Воды ему немного надо, а тут прибыл настоящий потоп. Так и войны, они бывают, когда у некоторых людей заводится большое богатство, и они теряют голову. Сначала они народ разуют-разденут, оберут, потом дадут в руки винтовки, обуют-оденут в одинаковое и пошлют на убой, чтобы потешиться. Ленин много правильного говорил, что земля – крестьянам, заводы – рабочим, мир – народам. Это я согласен. Да ведь Ленина смертельно ранили. Отчего? У богатых такая неразумная силища за счет ограбления мирового народа! Что будет дальше, я не знаю. Тятя сказал, что война впереди. А я себя почему-то в будущем не вижу. – Коля помолчал и добавил твердо: – Помру я, Валька!
– Коля, да ты что говоришь-то! Я это от тебя не в первый раз слышу!
– Не матери же говорить. Хотя лучше и промолчать. Я же нянька твоя. Я тебя говорить научил.
– Коля, Коля, это у тебя напрасные мысли! Давай я тебе свое любимое весеннее стихотворение расскажу, что мы в школе учили!
– Давай, – согласился брат и начал с улыбкой: – «Люблю грозу в начале мая…»
Валя встала, сняла с головы платок, руки опустила по швам, как учили в начальной школе, и начала:
- Люблю грозу в начале мая
- Когда весенний первый гром,
- Как бы резвяся и играя,
- Грохочет в небе голубом…[6]
Брат смотрел на нее с улыбкой. Валя была худенькая. Платье на ней было красивое – синее, шерстяное, с белым накладным воротничком, оно от покойной сестры Агапы ей досталось. А Агапе его отец привез до революции из Владивостока, с Русско-японской войны возвращаясь. Глаза у Вали карие, материнские, нос отцовский, казачий, выдающий стойкость.
Брат и подумать не мог, что это же стихотворение Валя прочтет своим детям и внукам перед смертью в две тысячи первом году. Ей долгая жизнь достанется. И платье у нее будет в две тысячи первом году похожее – синее с белым вязаным воротничком, и платок похожий – с большими посадскими цветами.
– Ты родилась в Валентины, и тебя поэтому назвали Валентиной, – заговорил Коля, повторяя то, что было сестре известно, но желая снова воскресить в памяти то, что помнил он сам. – По старому стилю Валентины были десятого февраля. Ты родилась, Агапе было одиннадцать, Мише десять и мне семь. Тятя в это время был на германской войне. Мать работала на поле, а Агапа управлялась с домом и с нами. Мать сама молотила хлеб цепами, возила из лесу дрова. Сено для скота возили с островов на Селенге вместе с дядей Степаном, тятиным старшим братом. Мать на двух конях, и дядя Степан на двух конях. Тут что-то мать простудилась в морозы и заболела, а время было тебя рожать. Дядя Степан утром на рассвете запряг коня в бричку и поехал в Кабанск за акушеркой. До обеда, как я помню, ее привез. Солнечный снежный день разгорался. Мама лежала на печи, болея. Акушерка велела ей слезть с печи и лечь в кровать. Мы вышли на улицу. Она выглянула на крыльцо и сказала, что все нормально, в полдник мама родит. Дядя Степан увез акушерку обратно. Мама послала Агапу за бабкой-повитухой, и ты скоро родилась. Бабка сказала: «Сегодня Валентины, и девка будет Валентина Петровна». Бабка искупала тебя, завернула в пеленку, положила на печь и ушла. Сестра пошла убирать у скотины, мама после родов на кровати отдыхала, а мы с Мишей остались. Оглядели мы, конечно, и акушерку, и бабку, и тебя. Залезли мы на печку со старой отцовской шапкой, озорство на нас нашло. Развернули мы тебя. Какой же смешной новорожденный ребеночек! Сморщенный, будто домовой. Положили мы с Мишей тебя в шапку и подняли до потолка, из шапки только ножки голые торчат. Мы в голос закричали: «Мама, смотри, Валентина Петровна наша в шапочке родилась!» Мама на нас закричала: «Что вы делаете! Положите сейчас же! Ремня дам!» Тут приходит Агапа. Мама ей: «Варнаки, наверное, кончили девку?» Сестра залезла на печку: «Мама, она живая, только голая лежит». После этого мама переживала, что ты вырастешь кривошеяя. И опять на маму легла мужская работа. Она раз с поля приезжает на коне и говорит мне: «Давай выбросим девку собаке. Некому с ней возиться». Я ее слова всерьез воспринял. Заплакал: «Не надо Вальку выбрасывать, я с ней возиться буду. Она вырастет и нам сгодится чашки мыть и кур загонять». Так я с тобой и возился. Сначала в зыбке за ремни качал. Потом на плечах таскал. Никому в обиду я тебя не давал, Валька!
Слушая Колю, Валя вытерла слезинку уголком платка и сказала:
– Коля, я без тебя бы и не выросла. Помню, как пришел отец с германской войны. Вы работали с ним и с мамой, а я в куклы играла. Скручу кое-как из тряпицы, вот и кукла у меня. Потом ты, Коля, сшил мне мальчика с руками и ногами. Ох, сколько у меня было радости, что настоящий мальчик получился! Зыбку сделала для него из больших спичечных коробок. Целыми днями играла на подоконнике в кукольный дом. Играла я в куклы лет до тринадцати. Меня мама за эти игры ругала, так я все украдкой. И ты сколько раз защищал меня! Я сверну свою курмушку туго-натуго, подвяжу сверток платком – и у меня получается кукла. Наиграюсь вдоволь, пока никто не видит, радостная и счастливая. Еще любила я нянчить маленьких детей. Попросят соседки в праздник присмотреть, не плачет ли ребенок дома в зыбке один. Я и бегу и смотрю в окно: ребенок не плачет и не шевелится. Я все равно иду в дом и качаю ребенка в зыбке, а мать его сидит на лавочке и беседует с соседками. Меня бы только кто попросил понянчить ребенка, я уже бегу, рада убиться.
– Я уж помню, – добавил, выслушав сестру, Коля. – Когда Миша женился и появилась у них девочка, Ниночка, ты в ней души не чаяла. День и ночь бы нянчила ее, а если б разрешили, то и ночью.
– И вот, когда мне было пять лет, Агапа пошла полоскать белье на Селенгу и меня взяла с собой. Давай полоскать под высоким яром с кочки, а рядом была воронка. Кочка оборвалась, сестра попала в воронку и утонула. Я смотрела с ужасом, как ее быстро крутит в воронке, а потом побежала домой вся в слезах и, не видя дороги, заблудилась. Соседский мальчик шел с Селенги и вывел меня на дорогу. Он побежал за нашим тятей. Сестру нашли и похоронили. Я осталась в семье одна девочка. Меня растили, жалели и берегли. В школу тогда принимали с десяти лет, и я пошла в школу. В школе я училась хорошо.
– Я помню, как вы стенгазету к советским праздникам выпускали. Ты была редактором. А я помогал тебе рисунки делать. Я помню твой стишок ко Дню урожая:
- Уродилася на диво
- Золотая наша рожь.
- Мы с подругой рожь не жали,
- Торопились жать овес.
Ты нарисовала полосу ржи, несжатую и непочатую. Потом мы вместе нарисовали, как вы с подругой Марусей жнете овес. Карандаш у нас один был – красный. И еще химический, который надо слюнявить, чтобы он рисовал, как будто чернилами. А потом мы нарисовали мешки и много-много ребят с котелками. И ты сочинила стишок:
- Мы картофель все копали
- И носили котелками.
- Высыпали их в мешки,
- А мешки – как кругляшки.
– Я же и статьи в стенгазету писала. Продергивала тех, кто плохо учится, кто хулиганит, на уроки опаздывает. От мальчишек-хулиганов влетело мне за это, все косы мне они растрепали. Учительнице я не пожаловалась. И даже потом про одноклассницу сочинила:
- Вот у Пешковой Любаши не хватат бумаги.
- На любовные дела извела тетради.
Я вообще очень люблю стихи. Я их все время сочиняю. Как-то раз угнала телят в поле летним утром, шла по дорожке домой и сочинила, как мне казалось, по-взрослому:
- Все крестьяне, все граждане,
- Собирайтесь в сельсовет.
- Там дадут важны вопросы.
- Вы дадите им ответ.
- Свободные вы нации.
- Никогда не слушайте
- Кулацкой агитации.
Валя помолчала, посмотрела вдаль. Ей очень не хотелось прощаться с братом, и она продолжила:
– Ты не знаешь, Коля, как меня ругала тетка Аграфена, когда я в четвертом классе ходила мимо ее избы. Ругала за то, что я уже такая большая, а в школу хожу. «Надо моты прясть и на базаре продавать, а ты бездельничаешь». Я тетки Аграфены боялась и в школу ходила по задам, по речке. И вот началась коллективизация. Я прихожу на уроки, а учительница мне говорит: «Назавтра в школу не приходи. И вообще не приходи. Твой отец середняк. Теперь будут брать детей бедняков и батраков». И я так плакала за партой, так уливалась слезами, что учительница пошла в сельский совет. Там обсказала председателю, что девочка, круглая отличница, дочь середняка Петра Семеновича Маросеева, сильно хочет учиться. И председатель разрешил ей меня в школе оставить.
– Еще расскажи мне, Валя, про свою подругу Марусю. Вы же с ней с четырех лет не разлучались. Она через два дома от нас жила, так вы тропинку друг к другу вытоптали, – предложил сестре Коля.
– У Маруси были маленькие братья, и я помогала ей их нянчить. И в школе мы сидели за одной партой. Вместе окончили четырехлетку. Я решила в семилетку поступать и ушла в Байкало-Кудару за пятнадцать километров в пятый класс. Чтобы меня приняли туда, тятя и вступил в колхоз. А Марусин отец не пошел в колхоз, и Марусю не приняли. И вот в Кабанске открылась ШКМ – школа крестьянской молодежи. Маруся ушла учиться в пятый класс. Мне оттуда присылала стишки:
- ШКМ ты ШКМ, каменное здание.
- Научила ШКМ ходить на свидание.
И еще:
- ШКМ на горе, ниже не поставишь.
- Шакаэмца я люблю, простого не заставишь!
И я написала в ответ:
- Увлекалася страстью девица
- В эти юные годы свои.
- Посмотри, ты еще ученица,
- В голове уж кружит от любви!
– Смотри, девица, – сказал Коля строго, – я устроился на работу в Верхнеудинское госпароходство, не каждый день буду тебя видеть. Не задружись с каким-нибудь пекарем в своей пекарне. Замуж мы тебя выдадим за крестьянина на крестьянскую работу. Боговерующим в городе не спастись и в Царство Божие не попасть.
Простые люди как могли пытались понять и принять новую жизнь. Им хотелось строить большие красивые здания, школы, институты, заводы и фабрики, библиотеки и больницы. И это сплачивало бурят и русских, татар и украинцев, представителей ста народов и народностей в единый советский народ. Людские ресурсы давало село. А в нем еще многое не устоялось. Хотя смелость и честность могли побеждать, все совершалось от сердца к сердцу. В Творогове не было пионеров, а в бурятском Табтанае были. Там в шестнадцатом году, в том же самом, когда родилась Валентина Маросеева, и тоже в феврале, родился Жамсо Тумунов, будущий классик бурятской литературы. Сын Батор будет рассказывать о его детстве:
– Отец мой мальчиком подвиг совершил. Он пионером был. А бабушка его Сэжэ, моя прабабушка, была знатная и богатая бурятка. Народ батрачил на нее. И вот коммунисты собрались ее судить. В клубе бабушку посадили на сцене на высокий стул, а люди должны были про нее все плохое говорить. А они не смогли. Они честные были. Говорили: «Она нас кормит, одевает, кров нам дает, к детям нашим ласкова». Тут отец вскочил на сцену в красном галстуке, обнял бабушкины колени и сказал: «Что хотите со мной делайте, а я никому не отдам мою бабушку». И красноармейцы отступились.
Такими справедливыми и смелыми были очень многие дети Бурят-Монголии. Бабушка Сэжэ и мальчик Жамсо жили в агинских степях, входивших тогда в состав республики.
Но вернемся к русской девушке Вале из Кударинских степей. Как она устроилась в Верхнеудинске?
– Я поступила работать в пекарню на Трактовой в самом центре города. Трактовая была очень красивой старинной улицей. Я всегда любила все самое красивое, и эта улица притянула меня. В Байкало-Кударе я окончила шесть классов и мечтала поступить в седьмой. Я слышала, что для работающей молодежи появилось вечернее образование. Поселилась с подругой Марусей я у сестреницы, двоюродной сестры Ульяны Степановны. Она была старше меня и жила в Верхнеудинске с марта тысяча девятьсот двадцатого года. Так получилось, что и она, и родная ее сестра Дарья Степановна вышли замуж за белогвардейских офицеров. В марте двадцатого года части Красной армии и партизаны взяли Верхнеудинск. Муж Ульяны Степановны погиб во время этих боев. И она осталась в городе, устроившись прислугой к одной пожилой паре. Эти люди подсказали ей, как можно занять пустующий домик. Они знали хозяев этого домика. Те уехали в Петроград к раненому сыну-офицеру еще перед революцией и не вернулись обратно. А Дарьи Степановны больше не было рядом с сестрой Ульяной. Она вместе с мужем, белогвардейским офицером Кибиревым, ушла из города в составе отступающего войска. Мы с Ульяной Степановной сожалели о ней.
В пекарне я стала получать зарплату новыми советскими рублями. Я стала одеваться и есть досыта. С первой же зарплаты отправила родителям посылку. Положила в нее чая и голову сахара, отцу на рубаху фланели, маме тканей на юбку и платок. Тятя потом мне рассказывал, что мама, как наколет сахара, так молит у Бога мне здоровья, приговаривает, что я родителей не забыла, гостинцы послала. Соседкам хвасталась, какая у нее Валька молодец. Моей подруге Марусе повезло меньше. Она поступила на работу в китайскую столовую. Китайцы за питание много высчитывали, и Марусе денег не хватало.
Со мной в пекарне работал паренек из Иркутска Вася Безносиков. В армии он служил в Хороноре и после службы не уехал домой. Он был низенький, черненький. Однажды он мне говорит: «Валя, а у тебя есть подруги хорошие? Я хочу жениться, и мне надо в жены беленькую голубоглазенькую девчонку». Я, к счастью, не в его вкусе была: волос темный, глаза карие. Я засмеялась и говорю ему: «Есть у меня хорошая девчонка по твоему вкусу. Она моя подруга с детства, и живем мы с ней сейчас вместе за Удой, улица Производственная, дом сорок семь. Приходи вечером, посвисти, и мы с ней выйдем за ворота посидеть на лавочке».
Вася так и сделал. Пришел вечером, встал у ворот, посвистел. Я говорю Марусе: «Это Вася из нашей пекарни. Хороший, добрый парень. И в армии уже отслужил. Пойдем поговорим с ним». Мы вышли и сели на лавочку. Вася с моей стороны, так как я его знакомая. Поболтали мы дружно о том о сем. Я встала со своего места и говорю: «Теперь ты, Вася, посиди у нас в середочке». Я его отодвинула к Марусе и ушла домой спать. Они остались вдвоем. С того дня Вася стал ходить к Марусе каждый вечер. Они оба уволились со своих работ, и Вася увез Марусю в Иркутск к родителям. Жили они там хорошо и счастливо. Откуда же я это знаю? Мы с Марусей писали письма друг другу в неделю раз, а то и два. Родителям я тоже писала часто. В письма для них я вкладывала конверт для ответа.
Все это Валя рассказала своей учительнице русского языка, когда записалась в седьмой класс школы рабочей молодежи. Она сказала, что очень-очень любит учиться. А больше всего – заучивать стихи и читать книги. Учительница была беленькая, как подруга Маруся, и Валя доверилась ей. Тем более что звали ее Мария Юрьевна. Учительница стала говорить, что многие девушки не доучиваются, потому что выходят замуж. И посоветовала Вале не увлекаться кавалерами, пока она не завершит учебу. Валя ее горячо заверила, что даже и не думает о кавалерах. Выбрать для нее мужа – это дело ее родителей и старших братьев.
– Это хорошо, что у тебя есть родители и братья, – сказала учительница. – Мне приходится учить много сирот. Немногие из них оканчивают семилетку, хотя я много уделяю им внимания. Я сама приезжая, у меня в Верхнеудинске нет родных и знакомых.
Валя посочувствовала ей. Сказала, что у них в Творогове разоренье после потопа. Но когда все наладится, она обязательно пригласит учительницу в гости. И посоветовала ей самой выйти замуж, чтобы не чувствовать одиночества.
– Валя, ты не поверишь, – сказала на это учительница. – Я работаю в комиссии по новому бурят-монгольскому алфавиту, и к нам приходит один молодой парень, его зовут Мунхэбаяр Ринчинов. И он уделяет мне внимание. Он очень воспитанный, говорят, хороший певец. Но другая культура – это так сложно! И я даже не смотрю в его сторону. Он смущает меня.
– У нас на берегу Байкала в рыбацких селах метисы совсем не редкость, – ответила Валя. – В нашем роду, когда – никто и не помнит, были баргуты. Потому что мы старожилы, а в старые времена бывало всякое. Попросите этого Мунхэбаяра спеть вам, может быть, его пение вам понравится.
– Вот этого я и боюсь, – воскликнула Мария Юрьевна. – У степняков на редкость красивые голоса. Уж лучше я уйду из комиссии, чтобы не смущать его и себя.
Работа над новым бурят-монгольским алфавитом нравилась Марии Юрьевне. Она была сторонницей перевода его на кириллицу, хотя в споре побеждала другая сторона. В двадцать третьем году официальным языком новой республики был объявлен «бурят-монгольский язык». А это значило, что на письме использовались вертикальный монгольский шрифт и монгольский классический язык. Он не учитывал особенностей местной речи. И сам термин «бурят-монголы» во многом проистекал из того, что буряты на письме переходили на монгольский. И как раз в год десятилетия республики монгольский шрифт был заменен латиницей. Некоторые газеты выходили на основе старомонгольского шрифта еще три года спустя. Это была молчаливая борьба с нововведением. Выяснилось вскоре, что и латиница следует за монгольской традицией, не считаясь с устной речью населяющих республику коренных родов и племен.
В феврале Валя отмечала именины вдвоем с тетей Ульяной Степановной. Муж ее погиб почти четырнадцать лет назад, замужем она была всего несколько недель, но с той самой минуты, как она узнала, что овдовела, Ульяна Степановна даже и не думала о новом замужестве. Она была уверена, что замуж выходят только один раз, и воспринимала вдовство как должное. При этом она даже не смела держать на виду свадебную фотографию. Старообрядческий священник Иван Кудрин, состоявший при конно-пешем батальоне жениха, быстро провел брачный сыск, имеющий целью выяснить, не состоят ли жених и невеста в родстве. Они ответили на несколько вопросов. Жених был из-под Кишинева, отцу Ивану это показалось достаточным для доказательства отсутствия родства, и он обвенчал молодую пару. Это выглядело так строго, серьезно, пронзительно-трагично, что Ульяна Степановна оставалась под впечатлением таинства всю жизнь.
Валя принесла из пекарни каравай с цифрой 18 из теста. Ей разрешили его выпечь лично для себя. У них с Ульяной Степановной были мороженые омули, доставленные родней, из которых они сварили уху; тогда омуль не был чем-то особенным. У них был байховый плиточный чай с Иркутской чаеразвесочной фабрики и настоящий кусковой сахар. Они разомлели от горячего ужина и чувствовали себя очень счастливыми, будто вот-вот постучится к ним и в страну новая радостная жизнь. Но, как бывает на пике необычного ощущения, оно вдруг резко оборвалось. Оборвалось, потому что жизнь шла своим ходом и нечего было мечтать.
Постучался почтальон. Ульяна Степановна принесла Вале телеграмму – прямоугольник плохонькой серой бумаги с узенькой ленточкой слов, наклеенных двумя рядами. Отец извещал дочь, что мать плоха и надо успеть под ее благословение. Валя поняла, что нужно спешить. Она отправилась в магазин, не давая волю горестным чувствам, и накупила продуктов: масла, риса, пшена, сахара, изюма. Дома ничего этого не было. Отец, полный георгиевский кавалер, был гол как сокол, ни одной царской золотинки не прилипло к его рукам. В общем, дочь купила всего, что нужно было на похороны. И отправилась на вокзал. Ехать ей надо было до станции Тимлюй на поезде местного назначения, который назывался «Ученик». Еще до революции его облюбовала учащаяся молодежь, а потом и мешочники, доставлявшие туда-сюда добытые продукты: преобладал спекулятивный и натуральный обмен.
Как печален был Валин путь! Люди толкались, шептались, не давали уснуть. Они ехали в неосвещенном, мрачном общем вагоне, сидя по четверо на одной скамье, не снимая зимней одежды и потея. Голова у Вали была как в тумане. «Ученик» останавливался на каждом полустанке, раздавался протяжный гудок паровоза, возникали и закручивались движение, протискивание, свистящий шепот. Люди давно перестали говорить громко, ночь была тут ни при чем. Крестьяне вообще народ молчаливый. Станции никто не объявлял, надо было вглядываться в снежную темноту ненастной беззвездной ночи, спрашивать выходящих, где они выходят, входящих – где они вошли. Названия населенных пунктов передавались шепотком от ряда к ряду. Кто ехал до конечного пункта в Иркутске, те пытались забиться поглубже, спрятать голову в одежонки, найти места счастливчиков – на самой верхней, третьей полке спать.
Валя села на «Ученика» в темноте и приехала на станцию Тимлюй в темноте. Так станцию стали называть недавно, по описке советского писаря. Раньше она называлась «Темлюй», и русские считали, что означает это слово «темный лес». Станция была названа по старинному селу Темлюй, находившемуся юго-западнее, у отрогов Хамар-Дабана. Говорят, что там, где река Темлюй выходит из мрачного горного распадка, раньше росли густые темные пихты, так что свет не проникал к лону воды и замшелым берегам. Пихтовый лес шумел и качался, как детская люлька, отчего и «люль», превратившееся со временем в «люй». Это слово может означать и людей, ведь по древним славянским поверьям души людей уходят в деревья. В их колодах людей хоронили, в тяжелых люльках из дерева качали младенцев.
Об этом думала Валя, сойдя в тревожно гудящую метельную ледяную ночь с тяжелой самодельной котомкой за плечами и еще более тяжелым холщовым мешком в руке. В станционном домике горела керосинка, и это был единственный источник света на всю нескончаемость непогоды. В домике в тяжелых овчинных тулупах и огромных подшитых валенках сидели ямщики, изредка подбрасывая дровишки в печь. Валя наняла одного из них, и они не стали ждать рассвета, наступавшего по-зимнему поздно. На ощупь да полагаясь на чутье заиндевевшей лошадки, трактом отправились в Творогово.
Длинна зимняя ночь! Путь Вали начался при тусклых огнях Верхнеудинска, а в Творогове сквозь окно во двор едва пробивался свет керосинки. Окна с улицы всегда закрываются ставнями. Улица была непроглядно темна, но пока они стучались в ворота, пока ямщика усаживали пить чай, чуть-чуть посветлело. Вале всегда хотелось домой, и вот – ее привело сюда несчастье. Первый вопрос был к встретившему отцу:
– Жива ли мать?
– Жива, да плоха.
А вот и мать на кровати под стеганым нанковым одеялом, бледность лица заметна даже при керосинке. Обняла дочь шершавыми изработанными руками:
– Слава богу, приехала Валька моя! А я думала, уж не увижу ее!
Ямщик молча попил чаю из быстро вскипевшего самовара, сидя у окна и с тоской глядя в снежную даль предстоявшего ему обратного пути на станцию. Уехал.
Валя из рук кормила мать изюмом, и тут приехали братья. Ульяна Степановна нашла их в госпароходстве и рассказала о телеграмме отца. Братья жили там же, где работали, иногда ночуя у нее и сестры. Опоздав на «Ученика», они добрались до Тимлюя утренним московским поездом. В этот день мать еще жила, и Валя без конца старалась накормить ее городскими гостинцами, своими и братьев. Мать совсем почти не могла есть, но пришлось, чтобы выказать благодарность.
К ночи ей стало совсем плохо. Она лежала в горнице на маленьком диванчике, его называли софушкой, а дети постелили себе на полу свои дохи. Отец сидел рядом. Сколько он служил в армии, трижды воевал, подолгу не бывал дома, но в последний час оказался рядом. В Творогове он получил прозвище Солдат, а это значит, что здесь таких, как он, больше не было.
Дети спали, разметавшись совсем по-детски. Мать, чувствуя приближение последних минут, из последних сил прочла длинную молитву светлого благословения. Один отец слышал ее. И отчаивался, что не мог призвать батюшку к умирающей для исповеди и соборования. Храм в селе, большой и красивый, был уже много лет закрыт. Одно время священников приравняли к кулакам, отнимали у них имущество, ссылали с семьями на рудники. Потом московские и ленинградские верующие нашли в себе смелость опротестовать такой порядок вещей. Но дело уже было сделано. Из ссылки никого не возвращали, иной раз и возвращать было некого. Церковные колокола-сироты переплавлялись на нужды военной промышленности, хотя официально было объявлено, что из них будут делать провода электролиний; золото-серебро икон пополняло кладовые Гохрана.
А в сельской избе на байкальском побережье мать смотрела на своих спящих детей и крестила их. Потом ее рука упала, и отец увидел, что она умерла.
– На кого ты меня покинула, Анна Артемьевна! – громко воскликнул Петр Семенович и застеснялся.
Дети спали крепким сном, утомленные тяжелой дорогой, и отец впервые не знал, что делать.
На похороны съехалось множество родни. Все молитвенно чаяли воскресения рабы Божией Анны Артемьевны из мертвых.
Дети Валентина и Николай вскоре уехали в Верхнеудинск на работы, а Михаил остался в Творогове с овдовевшим отцом, семьей, женой и крошками-дочерями, справлять по матери девять, потом сорок дней. И в город долго не приезжал.
Для Николая, Валентины и Ульяны Степановны потянулись невеселые дни. А по улицам маршировали с флагами физкультурники и физкультурницы, проходили с военными оркестрами красноармейцы, из открытых окон и с уличных столбов лились бравурные звуки радио. Верхнеудинск был переименован в Улан-Удэ, Красную Уду, стал для бурят Улаан Удэ хото. Новое название понравилось жителям города. Оно было ярким, не похожим на названия других населенных пунктов Советского Союза.
Вдруг Валин брат Николай сделался неспокойным. А ведь прежде он был таким скромным, молчаливым, чутким. Он появился в доме Ульяны Степановны вечером и сказал:
– У нас в госпароходстве сегодня была лекция. Агитатор нам доказывал, что Бога нет. Я его слушал, мы с ребятами все обсудили. И как-то так получилось, что я начал соглашаться, что Бога нет. Вот смотрите – взорвали московский храм Христа Спасителя. И что? Дрогнула земля? Подрывников поразили молнии? Ничего подобного!
– А потоп и голод, которые за этим последовали, – не свидетельства ли это Божьего гнева? – строго спросила Николая Ульяна Степановна. – При этом у нас было такое затопление, что пострадали не только христиане, но и буряты-буддисты. Бог наказывает нас, своих детей, но когда лес рубят, щепки летят.
– Потоп на Селенге – это стихийное бедствие, – сердито возразил Николай. – В Поволжье была засуха, все осадки выпали здесь. Просто тучи затянуло в циклон. У нас в госпароходстве…
Тут Ульяна Степановна сердито оборвала его:
– Похоже, что ты, Коляша, становишься обезьянкой. Что скажут тебе, тому и рад. Уходи-ка ты из пароходства и езжай в Творогово к тяте. Иначе ты точно здесь, в городе, погубишь свою душу бессмертную и обречешь ее на вечные адские муки.
Племянник выслушал сестреницу с неподдельной тревогой. И Валя тоже встревожилась.
– Сестрица Ульяна, – уже спокойнее произнес Коля, – я договорился в госпароходстве еще в феврале, после того как Михаил написал, что больше не поедет в город: я год отработаю, и меня отпустят. Тятя приискал мне невесту хорошую, из хорошей семьи. И я сам ее знаю и симпатию к ней имею. Однако как же мне жениться, коли мы в такую нищету впали? Я поеду на Ципиканские золотые прииски. Там намою много золота, получу хорошее вознаграждение. Вальке, и вам, и всем куплю подарки. И женюсь тогда. И буду сидеть в нашем селе веки вечные и на храм наш разоренный молиться. Мне все равно, есть ли Бог, нет ли Его. Мать меня благословила, с ее молитвой я родился, так и жить буду до смертного часа.
Колины слова понравились Ульяне Степановне и Вале, но совсем не успокоили их. Золотые прииски! У них в роду никто не занимался мытьем золота. С этим металлом связано столько мрачных историй. Там, где золото, там алчность и порок.
– Садитесь ужинать, – сказала Ульяна Степановна. – Я вот ухи окуневой наварила. До чего добрых окуней мне привезли, и язя, и щуку. Я хоть и бестолковая совсем, а шитьем-то зарабатываю.
– Вот до чего мы дожили! – сказал Коля, сев за стол. – Рыбу нам привозят тайком. Шьешь ты, Уля, тайком. Не дай бог, услышит кто, что у тебя стрекочет швейная машинка, так и донести могут. При царе такого не было. Добыть теперь себе пропитание по своей воле нельзя. Шить можно, поступив на швейную фабрику, под учетом и контролем. И тебе, Уля, хоть пропадай. Потому что на швейной фабрике молодухи-комсомолки в красных косынках работают. У тебя такой, как у них, автоматической скорости шитья нет. И то, что они шьют, до села не доходит. Мощностей фабрики не хватает. Ты учишь Вальку шить. И она, если начнет шить, станет такой же подпольщицей, как ты. Раньше за нами Бог присматривал, и перед Ним мы ответ держали. А теперь?
Коля снова хотел сказать было в сердцах, что Бога нет, но промолчал. Уха, которую налила ему Ульяна Степановна в старинную хайтинскую тарелку, была вкусна, как в детстве. Коля подумал, что надо затаиться в глуши и не слушать резвых агитаторов, смущающих ум и душу.
Валя предложила:
– Вот отужинаем, Коля, и ты нам про Ципикан расскажешь. Правда ли это, что на приисках теперь не так опасно работать, как раньше?
Так ей хотелось услышать о приисковых местах. В баунтовской местности, где течет Ципикан-река, обитают эвенки, и не дай бог потревожить их духов.
– Там, должно быть, много оборотней, – озабоченно сказала Валя. – У нас в вечерней школе учится один парень с приисков. Он рассказывал, что был на охоте и увидел идущего по тропе эвенкийского шамана. Вдруг тот обернулся волком, и парень было прицелился в него. Но изо рта волка вылетел беркут. Волка не стало, а беркут камнем упал в тайгу и взмыл вверх с какой-то красной птицей, каких не бывает.
От Валиного рассказа всем стало немного не по себе. Они прислушались к звукам за закрытыми ставнями. По улице вдруг проскакали три тяжелых коня с тяжелыми всадниками. Топот копыт был глухой и протяжный.
– Это проскакали Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, – пошутила Ульяна Степановна.
– Ну да! – откликнулся Коля не без иронии в голосе. – Это с пирушки возвращаются Дамба, Бадма и Цырен.
– А я вот другой случай вспомнила, – тихонько продолжила Ульяна Степановна. – Вот что сказывал мне мой тятя Степан Семенович. Было это, когда мы еще единолично жили. Стояло лето, и он поехал проведать табун, пасшийся на одном из островов Селенги. Коней оставляли одних, но частенько проведывали. Мало ли что. Бывает так, что жеребец взбесится и начнет гонять кобылиц. И так до самой ночи, будто кто-то невидимый на нем сидит и его понукает. И кобылицы в отчаянном беге могут пораниться и утопиться. Тятя выехал на своем Серко из Творогова в погожий день, но вдруг набежали тучи, пошел холодный ливень. Тятя остановился в балагане на берегу реки, собираясь утром переправиться на остров. А утром у него начался жар. Оказалось, что он сильно простудился. Дальше хуже. Он лежит в балагане и думает: «Неужели меня не потеряли и не приедут искать?» Вдруг топ-топ – появляется в балагане бурятский дедушка. «Меня, – говорит, – твой брат Петр Семенович послал, мол, болен ты, и лечить тебя надо». Тятя не подумал даже, каким образом брат мог догадаться, что он простыл, до того ему плохо было. А бурятский дедушка два дня жил в балагане, травы варил, курения делал, шептал что-то. На третий день тятя понял, что болезнь отступила. Спросил дедушку, как его имя, чтобы за него молиться. «Очир-Ваня, – тот говорит, – а если хочешь, чтобы болезнь не вернулась, отдай мне тот червонец, что взял с собой». Тятя хотел на обратной дороге заехать в Кабанск и купить подарок на свадьбу дочери сестреницы. Тятя подумал: «Надо же, как это братка мог проговориться незнакомому человеку, что я деньги взял с собой?» И отдал дедушке червонец. Тот ушел: топ-топ в ичигах. Вдруг мчится Петр Семенович, чуть коня не загнал: «Братка, мы тебя потеряли!» – «Как потеряли? А бурятского дедушку Очира-Ваню не ты ли ко мне послал?» – «Не посылал я к тебе никакого дедушку, не видел такого и не знаю».
За окном проехала повозка, залаяли собаки, совсем как в деревне. А днем Улан-Удэ был наполнен гулом строек. Столько там строилось новых заводов и фабрик! Были запущены в строй мелькомбинат, мясокомбинат, мехстеклозавод, «Механлит», теплоэлектроцентраль, кирпичный завод, лесозавод, сапоговаляльная фабрика. Но Колю-деревенщину тянуло в непроезжую даль.
– На Ципикане есть прииск Михайловский, госпредприятие, на него и поеду, – начал рассказ Коля. – Я потихоньку все разузнаю. Что газеты пишут. А что и люди говорят. На Ципикане есть шахты, и из них добывается подъемное золото. Его нужно разглядеть в глубине забоя. Это такие золотинки в породе. Их поднимают на-гора. Один бывалый старатель работал давно и рассказал мне, как это было раньше. Куски с золотинками скидывались в кружку надсмотрщика. Старатели получали с каждого кусочка одну треть цены. Если несколько штук нашел, одну-другую можно было утаить и унести в магазин. Если не отнимут и не высекут розгами. В магазине рабочий становился вольным приносителем, ему выдавалась полная стоимость. Магазины принадлежали хозяевам приисков. Потворствуя приносителям, они таким образом следили, чтобы утаенное золото не сдавалось налево, шастающим поблизости китайцам.
– Сейчас, должно быть, такого нет. Строгости очень большие. Наверное, если утаишь золото, расстреливают. Ты, конечно, Коля, честный крестьянин. Но не дай бог тебе впасть в соблазн. Добывай золото со словами «Господи помилуй, помилуй Господи», – заволновалась Ульяна Степановна.
– Места на Ципикане красивые. Река впадает в озеро Баунт. А течет с Икатского хребта. Я там осмотрюсь и, если бывает свободное от работы время, стану охотиться. Возьму у дяди Степана берданку. Он мне говорил, что перестал ездить в Инкино на утиную охоту, стал подслеповат, – продолжил Коля. – Золотоносная жила, дай бог на нее напасть, выглядит в шахте что Валькин пирог, только на метр и больше. Грунт из жилы дробится на куски, и дальше его надо доставить на-гора, чтобы дробления и промывки уже летом. Нечего и думать, что быстро отделаешься, получишь свое и можно ехать домой.
– Трудное дело ты задумал, Николай, – подытожила Ульяна Степановна. – Да вы с Михаилом все в отца. Он с трех войн с крестами вернулся живым и невредимым, и тебе ума должно хватить, чтобы не попасть в переделку. А два ума лучше. Поговори с братом, чтобы с тобой ехал. Но давай-ка, Валя, почитай нам «Бурят-монгольскую правду». Может, там что про прииски пишут.
– Мы рассказ вчера начали читать. Давай, Ульяна, я его дочитаю. Интересно же. Колхозница влюбилась в зоотехника-коммуниста и боится ему на глаза попадаться. А перед ним маячит другая, деваха вольная в юбке цветастой. Интересно же, достаточно ли юбку красивую сшить, чтобы завоевать сердце серьезного человека?
– Ох, Валька, скажу я тебе, что бывает достаточно. Мужеск пол легко теряет голову. Поэтому и надо, чтобы мужей и жен своим детям подбирали родители. Родителей нет – крестные, старшие в роду.
Валя возразила брату:
– Вот поэтому у нас в пекарне Вася Безносиков сначала женился на моей подруге Марусе, а потом только к родителям поехал. Старшие стремятся выдать дочерей за богатых, жадных и нудных мужей. А сыновей женить на девушках с большим приданым, хитрых и некрасивых. Это я из уроков литературы знаю.
Коля не решился рассказать, какие девки у них есть в госпароходстве и как они иными ухажерами крутят, и добавил только:
– У нас ведь какое дело в Сибири? К нам варнаков и гулящих девок при царе ссылали, и они такое же потомство наплодили. Вот бурят-монголам больше нашего повезло. Они все коренные, местные, ихние издревле ни в Москве, ни в Петербурге не жили. И к ним в племена негодников не присылают. Одно меня удивляет: если человек создан по образу и подобию Божию, откуда же дураки берутся?
– От Адама и пошли. Род человеческий размножился, и в иных людей вошли злые духи. Сначала из-за лености в тех, кто мыться не любил. А после пошло-поехало. Оттого плохие люди есть в любом народе. Отсюда и батраки. Прадедушка у них не мылся – ленился, дедушка не мылся – ленился. А теперь – надо же, почет им!
– Сестрица Ульяна, после революции все бедняками стали. Бедность не порок, а порок – лень и нежелание трудиться. Богатые же облеплены пороками, как ракушками днища пароходов, потому что они эксплуататоры.
Такие у них на Производственной происходили разговоры каждый вечер, когда появлялся Коля.
Валя хотела было дочитать заинтересовавший ее рассказ, но тут Коля, державший в руках газету «Правда», встрял:
– Вот тут про золото в США пишут. У них вышел пятого апреля прошлого года указ президента Франклина Рузвельта о том, что золото у граждан изымается: «Все граждане обязываются сдать в срок до первого мая 1933 года включительно… все золотые монеты, золотые слитки или золотые сертификаты, которыми они владеют в настоящее время». А у нас все золото-серебро изымается у народа через Торгсин. Не знаю, что люди нашли в этом золоте? Не поверю, что американский президент таким образом заботится о народном благочестии. Американцами правят настоящие дикари-язычники! Новая золотая лихорадка к новой войне. Тятя говорил так.
Коля с Мишей отправились на Ципиканские золотые прииски на следующий год. Уезжая, Коля наказал Ульяне Степановне: «Отдай, Ульяна, Вальку замуж за парня из роду хорошего, что она тут будет одна без меня». Спустя еще год Михаил вернулся к семье, а Коля остался еще поработать. Видимо, заработок был не так хорош, чтобы оставить прииски и жениться. Коля написал сестре письмо: «Жди меня, Валька! Я привезу тебе белую шелковую шаль с кистями». Но не довелось сестре больше увидеть брата. В тридцать седьмом отцу Петру Семеновичу с шахты пришло письмо и похоронка. В письме сообщалось, что Коля был хорошим работником, что однажды он так заработался, что, поднявшись наверх разгоряченным и потным, не остыв от азарта труда, напился из колодца ледяной воды. У него сделалось воспаление брюшины. Коня, чтоб везти больного к доктору в поселок, на шахте не нашлось. И Коля помер. Заработок его забрало шахтоуправление.
Вале был двадцать один год, и к этому времени она из родных похоронила сестру Агапу, младенцев Екатерину, Степана, Никиту, мать Анну Артемьевну, брата Николая. У отца Петра Семеновича осталось двое детей – она и Михаил. Вале пора было выходить замуж, чтобы новая жизнь воскресила радости и надежды.
Глава пятая
Молодая республика. «Басаган-трактористка»
В рассказе учительницы Марии Юрьевны ненароком прозвучало имя Мунхэбаяра Ринчинова. Чем он занимается? Прошел десяток лет с тех пор, как он умчался на своем скакуне из Онтохоноя. Мунхэбаяру двадцать пять. И он все живет в домике у Валентины Чимитовой, в отдельной комнатке с холостяцкой лежанкой и письменным столом, заваленным книгами и нотами. Что, он все еще большой артист малой сцены?
Проснулся от тоненького голоска:
– Мунхэ… Мунхэбая-аар…
– Кто это?
На подоконнике неяркого облачного утра сидела серенькая мышка и выпевала:
– Мунхэ… Мунхэбая-аар…
«Я уже стал слышать голоса животных, такое бывает с шаманами, – в первую минуту после пробуждения подумал он. А во вторую: – Со мной что-то происходит. Что же делать?» Он вскочил и кинулся во дворик к навесному жестяному умывальнику. Абгай, тети Вали, не было дома. Дул свежий душистый ветерок, шелестели листвой деревья, залитые солнечными лучами. В старинной Заудинской слободе на памяти Мунхэбаяра по воскресеньям гудели колокола православного Свято-Вознесенского храма. Но тот уже много лет назад был отчужден государству, и в выходные дни теперь разве что буянили невидимые духи этого мира да кричали голосистые петухи.
Умывшись, наш артист так же стремительно вернулся в свою комнату и долго неподвижно сидел, погруженный в себя. Потом он играл на морин хууре с новыми струнами. Как вы уже догадались, они были серовато-серебристые: одна – из хвоста ретивого Сайбара, а вторая – из хвоста нежной кобылицы, вылизывающей полуторанедельного жеребенка от Сайбара. Потом Мунхэбаяр взял скрипку и несколько раз сыграл просветленно-печальный полонез Огинского, изливая свою тоску по родным кочевьям, по родной Баргузинской долине. Он искал себя много лет и однажды понял, что нашел тоску по Онтохоною. А себя не нашел. Именно тогда он разучил этот полонез. Тогда он еще не очень знал историю музыки и решил было, что полонез этот посвящен Агинскому краю. Ну да небольшая ошибка! Он давно не играл эту мелодию. Что же с ним? Опять явилась тоска? Мунхэбаяр кинулся на кухню и под тряпицей нашел чашку с творогом, коммерческий хлеб, чашку остывшего зеленого чая с желтой сливочной пенкой. Это все оставила ему хозяйка тетя Валя, у которой молодой квартирант был единственной отрадой.
Деревенскую снедь ему привозили, передавали с кем-нибудь онтохонойцы. Как они звали его погостить! А он ни разу не побывал в родном месте. С того памятного дня Сурхарбана, когда Зоригто провалился с заездом на Соколе, не поднял своего лука, а сам он, Мунхэбаяр, спел не то, что хотелось бы услышать соплеменникам, он сильно изменился. Уверенность в себе, внушенная восхищением онтохонойцев и звучанием собственного приятного тембра, прошла как не бывало. Он сделался недоволен собой, следовал всему, что говорила ему абгай, с покорностью олененка. Он изучал науки у ламы, укрывшегося от преследования в хозяйстве Банзара Дашиева, и брал уроки вокала у настоящего итальянца Бернардо Ризоччи, когда-то привезенного в Верхнеудинск знаменитым богатеем Митрофаном Курбатовым, итальянца-старика, слышавшего, по его словам, самого Паскуале Амато в театре Ла Скала. «А Шаляпина, Шаляпина вы слышали?» – спрашивал его Мунхэбаяр. «О-о, слышал, слышал, это великий певец!» Значит, отец про Шаляпина правду сказал. Итальянец говорил по-русски с одним акцентом, Мунхэбаяр с другим, и они почти не понимали друг друга. Но абгай велела учиться именно у него, и ничего не оставалось делать.
Мунхэбаяр устроился работать к Дашиеву ночным сторожем и уборщиком конюшен и был очень-очень доволен своей участью. Он слышал вечернее и утреннее ржание и всхрапы породистых лошадей, он играл им на морин хууре, он вдыхал запахи, знакомые ему с рождения. Это ничего, что он не имеет известности Шаляпина! Может быть, она ждет его не за горами, а в следующей жизни. Куда же торопиться? Онтохонойцы, бывая изредка в своем столичном городе, с важностью говорили, вернувшись, своим: «Наш Мунхэбаяр большой человек! Он ходит за лошадьми в таком отличном хозяйстве! Он ищет себя, и, верно, в следующей жизни прославит нашу Бурят-Монголию!»
Мунхэбаяр отправлял домой гостинцы – отрезы тканей, плиточный чай, сахар, а иной раз и смешные детские игрушки. Модоновы множились и росли в Онтохоное как грибы после дождя, а у четы Ринчиновых, отца Ринчина и мачехи Долгеон, родились дочери.
И теперь большой артист малой сцены едва перекусил, выхлебал холодный чай большими глотками, подпер дверь посошком и бросился бежать в хозяйство Дашиева с такой резвостью, словно на его голове сидела и стучала по ней кулачками мышка. Та самая мышка, что разбудила его утром. Мунхэбаяра можно было принять за физкультурника на тренировке: на нем была модная спортивная рубашка со шнуровкой на груди, в красно-белую крупную полоску, сатиновые штаны на резинках, называемые в народе шкерами, дырчатые сандалии. И точно: он увидел, как ему навстречу бежит слаженная физкультурная группа из парней и девушек. Они прокричали дружно: «Беги с нами!» – и исчезли за поворотом. Так, может быть, в лице Мунхэбаяра Ринчинова пропадает не солист оперы, а чемпион мира по бегу? Как знать!
Племенное хозяйство Дашиева давно переехало из центра Улан-Удэ на улицу Проточную, к протоке Заболока. Места были сыроватые, зато трава всегда обильная и водопой под рукой. Переехали они как раз после того, как Рабоче-крестьянская Красная армия забрала Сокола. Чагдар Булатов расстался с жеребцом вроде бы с легкостью, а потом начал переживать.
– Надо перевозить хозяйство куда подальше, Банзар, – сказал он Дашиеву. – Мы разводим коней исключительно для Бурят-Монголии. Я не уверен, что новые хозяева Сокола будут заботиться о нем должным образом. Да и неизвестно пока, будет ли от него жеребенок. Такие мои труды пропали напрасно! Если б ты знал, сколько волнений мне стоил Сокол! Какой был трудный путь с ним, его матерью, кобылой Сагаалшан, всем моим семейством и младенцем Жимбажамсой через зимние перевалы в неизвестность!
Чагдар рассказал товарищу, при каких обстоятельствах Сагаалшан понесла от ахалтекинца.
– Я вез ее в товарном вагоне с запада. Со многими пересадками вез, не имея других забот, как спасти свою и ее шкуру. Я ведь думал утечь в Ургу и там основать передовое племенное хозяйство. Я давно задумал вывести новую породу для наших мест. Чтобы кони были ручные, что твои собаки, исполняли команды, но и были неутомимы. Я в цирке Варшавы видел таких коней. Я хотел создать показательное подразделение по джигитовке. Устроить в Урге свой ипподром. Я в Петрограде изучил это дело. Я устроился там жить при дацане и целый месяц ездил на скачки, бывал в Манеже. И вот я везу Сагаалшан. Она совсем молоденькая была лошадка, два года едва ей было. И ссадили нас на станции Кутулик под Иркутском. Вагон был забит людьми, хоть и товарный. И мне сказали: «Все, иди ты со своей лошадью!» Дескать, на ней и скачи по шпалам, людям надо ехать. И я сошел покорно. Я все боялся, что голодные забьют мою лошадку на мясо. Веду я Сагаалшан в поводу, ищу, где бы заночевать, кто там, красные или распрекрасные в селе, буряты или русские, не знаю. Холодный день был. Иду понуро. И вдруг поднимаю глаза – всадник на белом аргамаке! Калмык лет тридцати. Он спешился и говорит мне: «Здорово, дед! Смотрю я, у тебя кобыла белая, а у меня белый жеребец. Может быть, мы с тобой родственники?» Я отвечаю: «Похоже! Давай потолкуем!» Он рассказал мне, что другой год уже скитается неприкаянный и не знает, когда смерть придет. А все дело в этом аргамаке. Не поднимается рука его пристрелить. Повздыхали мы. Я сам догадался, что калмык из белой армии разбитой. Мы с ним постучались в один дом. Калмык сказал, что он есаул, и, если не откроют, сам откроет, а хозяевам глотки перережет. И что он уже не раз таким образом приют и ночлег находил. Но хозяева открыли, буряты. Их легко обнаружить по огородам – у русских на огороде грядки и овощи, а у наших – бурьян. И вот мы заночевали. А я жадный был, захотелось мне и аргамака прихватить в Ургу, калмыка от него избавить. Только как? И потом, аргамак совсем не для Северной Монголии. Ему конюшни в наших местах на зиму теплые нужны. Калмык без слов понял меня. Предложил лошадей наших свести. Ну, мы и свели. Хозяева с большим интересом к этому отнеслись и помогли нам. Хвост Сагаалшан подвязали повыше, как надо, закрыли их вдвоем с аргамаком в овечьем загоне. На другой день я пошел восвояси с Сагаалшан в поводу. Я ни разу верхом на ней не проехался, жалел. А она покорно, как собака, со мной и за мной всюду шла. А калмык остался пули своей дожидаться. Еще когда мы с ним ночлег искали, он показал мне крошечное тавро с вензелями на крупе своего коня. И на попоне такие же вензеля были полустертые. Конь-то, говорит, верховному правителю Колчаку расстрелянному принадлежал. Когда дело стало худо, калмык и увел этого коня из-под Иркутска. Сначала просто с товарищами таился. Потом они узнали, что дело их кончено, в зиму Колчака расстреляли. К своим калмык думал ускакать, а сам все кружил, таился и ушел недалеко. Гардяй имя его было, у нас такого имени нет. И вот, когда я сопровождал Сагаалшан и жеребенка от Гардяева ахалтекинца по обочинам улиц Верхнеудинска, я чувствовал себя всадником без головы. Это же белая армия без своих сынов в город входила! Это был подарок царской России городу победившего пролетариата. Вот так.
Чагдар и Банзар со своим хозяйством собирались советскую власть пережить. Стиснув зубы, молчали об этом. А она между тем все крепче становилась.
Мунхэбаяр влетел в ворота хозяйства и только тут приосанился. «Главное качество артистов – это то, что они сумасшедшие. И ты на сумасшедшего очень похож», – однажды сказал ему учитель-итальянец Бернардо Ризоччи. Мунхэбаяр вошел в приоткрытые двери убогого помещеньица, что-то вроде летнего домика. Ему надо было срочно посоветоваться с Чагдаром-Балтой. Так срочно, что горело! В помещеньице были Чагдар с сынишкой Будой и лама. Не тот лама, с которым Мунхэбаяр всегда занимался и который жил при хозяйстве.
И сразу было видно, что лама. Как его до сих пор сотрудники ОГПУ не схватили! Впрочем, лама нарядился в светскую, точнее в нищенскую одежду: рядом с ним лежал похожий на зверушку смешной растрепанный малгай, а на нем был латаный-перелатаный серый тэрлиг. Если бы вошел в ворота хозяйства кто-то чужой, залаял бы цепной пес Нахал. И лама натянул бы малгай на бритую свою голову. Завидев Мунхэбаяра, Нахал даже не повел глазом, не поднял башки.
Что незнакомец – лама, было видно и по тому почтительному виду, с которым сидел на скамеечке мальчик Буда. Отцу его говорили в семье: «Вот, видно, наш Буда в предыдущей жизни был лама, надо его направить по духовному пути». Чагдар сердился: «Откуда вы взяли? А может, он в прошлой жизни был бароном Унгерном? Нагулялся себе и теперь помалкивает. Какой духовный путь? Лам и хувараков теперь убивают, а в Тибет я Буду не отпущу. Восемь сыновей потерял, чего вы теперь хотите? И вообще, Цыпелма-эжы, умирая, мне сказала, что в виде новорожденного вернется в семью один из наших погибших сыновей».
Разговор у Чагдара с ламой был о новом бурят-монгольском алфавите. На удивление, лама, а его звали Биликто, ратовал не за письменность на основе разработки Агвана Доржиева. Он сказал: действительность такова, что эта письменность не утвердится. Он сказал: дух нового жестокого времени мягкостью начертаний не смягчить. И пусть будет, что будет. Святые книги – отдельно, а язык указов и законов – отдельно. Тут Мунхэбаяр насмелился сказать, что занимается русским языком с учительницей Марией Юрьевной, а она говорит, что нужно переходить с латиницы на московскую кириллицу. Ей-то лично это роднее. Но и действительно, при чем здесь латиница? Народы СССР не Рим же имеют своим столичным центром. И он, Мунхэбаяр, согласен с учительницей.
– Это верно? – спросил Биликто-лама. – Отчего же?
– А наш Мунхэбаяр в учительницу влюбился, – задумчиво произнес Чагдар.
Он совсем старый стал, ему не запретишь говорить правду.
– Родня всегда бывает против, когда женятся на иноверках, – откликнулся лама. – Или ты, эдир залуу хун, просто так влюбился, не для чего-то?
Мунхэбаяру пришлось отвечать. И надо же, именно с вопросом о русской девушке он так мчался сегодня сюда! Нежный голосок крошечной мышки смог сбить его с толку!
– Родня у меня далеко, Биликто-лама. Я не привык с ней советоваться. Я и пришел с убгэн эсэгэ посоветоваться. Он другого рода, конечно, но зовет меня зээ-хубуун. Я толком не знал русского языка. Это меня убгэн эсэгэ направил изучать.
– И, судя по всему, ты решил изучить русский язык в совершенстве? Взяв в жены русскую учительницу? – мягко сказал Биликто-лама. – Чем же ты, эдир залуу хун, занимаешься? К чему имеешь склонность?
Пока Мунхэбаяр собирался с ответом, Чагдар сам решил все рассказать Биликто-ламе, потому что этот вопрос его тревожил.
– Понимаете, Биликто-лама, наш Мунхэбаяр имеет редчайший слух и голос. На этом мнении сходятся многие. Вот и его учитель вокала итальянец Ризоччи так говорит. Однако Мунхэбаяр не торопится зарабатывать на сцене. Он утверждает, что еще не нашел себя. Твердит об этом десять лет подряд. Надо еще десять лет, чтобы ему себя не найти, а совсем потерять.
– Что же, Мунхэбаяр? – обратился лама к желающему заговорить парню.
– Убгэн эсэгэ верно говорит, – согласился Мунхэбаяр. – Я еще не нашел себя. Я так чувствую, что пока на сцене мне делать нечего. Я, может быть, в другой жизни стану знаменитым певцом. Вроде Федора Шаляпина. Я же вижу, что сейчас я не Федор Шаляпин. Не смелый.
– Мы тоже видим, что ты не Федор Шаляпин, – занасмешничал Чагдар, – что ты узкоглазик из продутого всеми ветрами хотона Мэгдуу.
– Ну, – сказал Биликто-лама, – я до разрушения чекистами нашего дацана подвизался в хиромантии. В Урге курс прошел у почтенного Чоэпэла-ламы. Не откажись дать мне сначала левую, а потом правую руку. Что же линии твоих ладоней нам скажут?
– Вот, – сказал Мунхэбаяр. – Утром мыл под рукомойником. Чистые.
И сел рядом с ламой по движению его глаз. Дрожь пробрала большого артиста малой сцены.
– Ты знаменитым будешь. В этой жизни знаменитым будешь. Вот посмотри – линия Солнца бежит у тебя из нижней части ладони до бугорка Солнца. И здесь вот знак, что ты богатая творческая натура, которую ожидает значительный успех. Линия путешествий говорит, что ты поедешь далеко на запад. Точнее, ты сможешь однажды спеть на той сцене, где пел Шаляпин. Кстати, не упоминай это имя больше. Шаляпин уехал за границу и поет для врагов СССР – всемирной буржуазии.
– Только однажды смогу спеть там, где пел великий певец? – принялся уточнять Мунхэбаяр.
– Может быть, дважды, – сказал Биликто-лама, а Мунхэбаяр понял, что это шутка.
– От трех колец запястья вверх поднимаются линии, говорящие о неожиданных выигрышах, подарках судьбы. Дерзай, эдир залуу хун!
– А про русскую девушку что-нибудь говорят линии? – не без надежды спросил Мунхэбаяр.
– Линия брака говорит о неких сложностях. Мне кажется, что я и без изучения подробностей о линии брака сообщил нечто очень-очень значительное.
– Извините меня, – попросил Биликто-ламу Мунхэбаяр. – Вы действительно сказали мне то, что надо обдумать.
– Я уже уверен, что на обдумывание у тебя, зээ-хубуун, уйдет десять лет! – произнес Чагдар.
– Нет-нет! Не десять! Хватит одной недели. Одного дня. Нет, трех дней.
– Замечательно, – заулыбался Биликто-лама. – Насчет же русской девушки… что же тебе в ней нравится больше всего?
– Глаза! – воскликнул Мунхэбаяр. – Они у нее зеленые, я глядел украдкой и думал: «Хорошо бы иметь на них право!»
– А еще?
– Русский язык мне в ней нравится. Она говорит так мягко, такие незнакомые ноты слышу я. И такие интересные рассказы читает она нам на уроках.
– А еще?
– Она так заманчиво смеется!
– Ты пропал, Мунхэбаяр Ринчинов! – подытожил Биликто-лама. – А ты-то ей можешь нравиться? Она не избегает тебя? Руки-то ты только сегодня утром помыл или еще когда-нибудь моешь?
– Я каждый день их мою! – вспыхнул Мунхэбаяр. – Я ношу новую рубашку и шкеры. Я одеваюсь, как настоящий физкультурник! Я не могу сказать, что учительница меня избегает. Я не приближаюсь к ней.
– А она, часом, не шабганса? Не сонная старуха?
– Что вы! Она по возрасту – как я, но такая образованная!
– Так и поговори с ней быстро!
– А если рассердится? Я тогда русский язык не доучу, как мне бы хотелось.
Рассердился Чагдар:
– Слушай, зээ-хубуун! Прояви решительность. Вот я, вспомни, – недолго думал, подарил драгоценную Сагаалшан-кобылицу Бурят-Монголии. А ты подари республике свой голос. Народ – это его культура, а не заводы и фабрики, которые говорят на чужом языке штампов. Понастроили! Что творится! Железные монстры свободы людям не принесут. Иди с моих глаз долой, а завтра в понедельник я сам отведу тебя в Бурят-монгольский техникум искусств. Ты, зээ-хубуун, мог поступить в него еще в одна тысяча тридцать первом году… Однако он закрыт на летние каникулы…
Чагдар развел руками, а Мунхэбаяр довольно улыбнулся. Но быстро погасил улыбку. Курсы русского языка тоже закрылись на каникулы. Где же увидеть Марию Юрьевну?
– А плата! – воскликнул Биликто-лама. – Неужели ты откажешь нищему страннику в плате за его умение читать по линиям ладоней?
– Я не взял с собой денег, – смутился Мунхэбаяр. – Но если вы еще будете здесь, я сейчас за ними сбегаю. Я очень быстро бегаю!
– Хорошо! – сказал лама. – Я понял, что, если бы ты решил стать чемпионом по бегу, ты бы непременно десять лет просидел неподвижно. Ты меня, хубушка, не понял. Хочу услышать, как ты поешь, чтобы не подумать, будто я прочел на твоих ладонях пустое.
– О, – снова смутился Мунхэбаяр. – Конечно, конечно. Мне хочется, чтобы вы дали оценку моему умению петь.
– Если еще и оценку, тогда две песни, – развеселился Биликто-лама.
Мунхэбаяр умчался за морин хууром. Что-то нашло на него сегодня. Он чувствовал подъем и вдохновение. Неужели это проделки утренней мышки?
– Я спою, сочиняя, – объявил он, появившись снова.
- В этом городе я – только солнце и свет,
- Это значит – меня в виде облика нет.
- То, что я вам скажу, – это свет и покой.
- Никогда не найти вам меня под рукой.
- Я решаю за вас, что не знать самому.
- Даже ночью ночей мне не быть одному.
- Потому что меня в этом городе нет.
- Не задавший вопрос, не услышу ответ…
– Я понял, – закивал Биликто-лама. – Добиться успеха тебе мешает спонтанное философское мышление. Немедленно женись, дружок! Хоть на русской девушке, хоть на мышке…
– На мышке? – переспросил Мунхэбаяр.
Спустя три дня он уже ехал с концертно-этнографической группой Гомбожапа Цыдынжапова по аймакам. Старик Балта Балтиков уже давно по газетам следил за деятельностью этого человека. Он был из баргузинского улуса Улюн, то есть, как и Мунхэбаяр, баргут. И старик понадеялся, что Цыдынжапов оценит талант земляка, его приемного зээ-хубууна. Ведь он тоже тот неординарный человек, которых в сложные тридцатые годы в Бурят-Монголии появилось много.
Мальчиком Цыдынжапов был отдан в дацан и семь лет обучался тибетским медицине и языку, монгольской письменности и музыке. Однако в результате из дацана он бежал, подобно лермонтовскому Мцыри. Оказался более удачлив, чем этот грузинский послушник, – хищный барс не перегородил его тропы. Гомбожап стал батрачить в степи, набираясь воздухом воли. Русского языка не знал, но поступил в Верхнеудинский педагогический техникум и на музыкальные курсы, затем на этнографические курсы. Затем поступил в Госмузансамбль при республиканском Наркомпросе. Когда они встретились, Цыдынжапов уже окончил в Москве театральный институт и прибыл домой на последипломные летние каникулы. Они почти ровесники с Мунхэбаяром.
Неужели парень терял время напрасно, а мог так же преуспеть, как Гомбожап?! Однако чужая слава не говорила Мунхэбаяру ни о чем. Он не стал сравнивать. Он почти равнодушно спел Гомбожапу несколько песенок собственного сочинения, сыграл на скрипке полонез Огинского, спел любимый «Авиамарш». Гомбожап горячо его обнял, снял кепку с его головы и растрепал волосы. Потом прошелся вокруг Мунхэбаяра в диком кавказском танце и принял его в свою группу.
– Сколько у нас еще темного, невежественного народа! – воскликнул он. – Если бы твой дедушка Балта умел читать и писать, следил за новостями, неужели бы он не привел такого замечательного зээ-хубууна к нам лет шесть-семь назад? Вот мы сейчас поедем в Баргузинскую долину выявлять таланты. И в Еравну заглянем. Я виды ёохора изучаю сейчас. Мечтаю о нашем бурят-монгольском балете. Мы будем просить людей танцевать, а ты, Мунхэбаяр, импровизируй на скрипке. Знаешь, что такое импровизация? Ноты знаешь? Знаешь?! Откуда же! Я думал, ты совершенно сырой невежественный талант.
Наш артист слушал его и улыбался, ничего не говорил. О Валентине Чимитовой, ламах, итальянце-учителе Бернардо Ризоччи – ни о ком и ни о чем его новые друзья не услышали. Они побывают в Баргузине и непременно в Онтохоное! Это ли не сказка!
– Я бы хотел предложить тебе, Гомбожап, сначала съездить в Еравну, а к нам в родные места – на более продолжительное время после. Я хочу, чтобы мы побывали в Онтохоное. Это новый улус. Он развился и окреп благодаря советской власти. Там живут мои родные, мой отец Ринчин. Онтохоной был последним земным пристанищем двухсотлетнего улигершина Очира Модонова. Многие помнят его сказания и перескажут их нам. Именно он научил меня играть на морин хууре, мы вместе смастерили инструмент, что я везу с собой.
– Я согласен, – без лишних раздумий произнес Гомбожап, пропустив мимо ушей неправдоподобные слова о двухсотлетнем старце. – И мы устроим тебя нашим возницей. На ставку специалиста принять тебя пока не можем. Я понял, что ты умеешь ухаживать за лошадьми.
– С этим я справлюсь! – обрадовался Мунхэбаяр.
Он подумал было рассказать Гомбожапу, какие невероятные приключения пережил, сродни сказкам старого Очира, когда скакал на коне в Верхнеудинск одиннадцать лет назад. Но решил, что ему могут не поверить. А как же поверили ему Чагдар Булатов и его семья, Валентина Чимитова? Или времена изменились? Он и сам стал более недоверчив. Он спросил однажды Чагдара-Балту, чем же будущий коммунизм отличается от царства Гэсэра, царства, издавна чаемого. Убгэн эсэгэ не вздыхал, ответил быстро. Он на досуге прочел и Марксов «Капитал», и сочинения Ленина, и сочинения Сталина брал в старейшей библиотеке города, верно, уничтожившей дореволюционные записи на имя купца Чагдара Булатова.
– Царство Гэсэра – это национальный бурят-монгольский вариант коммунизма. Когда народы перестанут идти друг на друга войной, начнется расцвет наций и народностей. Сам воздух будет такой благоуханный, что мыслей о вражде и накоплении богатств не возникнет. Тогда и понадобятся мои племенные табуны. Это неправда, что войны продвигают прогресс. Без прогресса ценой крови люди будущего как-нибудь обойдутся. Такие герои, как Гэсэр, нужны будут миру для победы над несправедливостью. В справедливом мире каждый будет много думать над правильностью своих шагов и мало делать. А кто сказал, что люди должны спешить? Во имя чего?
Мунхэбаяр стал недоверчив, потому что водил дружбу с убгэн эсэгэ, которого непременно арестуют, если узнают, что он не Балта Балтиков. Гомбожап был недоверчив по каким-то своим причинам. Именно поэтому он так приветствовал поездку концертно-этнографической группы в Онтохоной. Он узнает, что за родня у новоявленного таланта. Можно ли будет его продвигать? Что-то настораживало молодого вдумчивого руководителя. А может быть, сам талант? «А что, если это во мне говорит зависть к богатым данным новичка? Надо с этим разобраться. Строителю светлого будущего не годится иметь мутные мысли, – решил Гомбожап. – Уборщик за лошадьми без труда берет фа-соль большой октавы, это что – подозрительно? Это ли не настоящий талант?»
И вот пара лошадей, запряженных в кибитку, обтянутую воловьей кожей, въехала во двор Наркомпроса. На козлах сидел Гомбожап Цыдынжапов, и вид у него был самый суровый. Мунхэбаяр невольно затрепетал. Как он смел быть с таким человеком на ты, совершенно запанибрата, ни разу не поклонившись! Он растерянно застыл, стянул с головы малгай и с трепетом стал ждать удара казачьей нагайкой, которую видел заткнутой у Гомбожапа за пояс. Гомбожап расхохотался, отчего Мунхэбаяру стало еще страшнее. Он даже не понял сначала, что говорит ему величественный и грозный возница. Наконец смысл слов стал ему понятен.
– Учись, зээ-хубуун! В театральном институте Москвы я постиг искусство перевоплощения. Когда я ехал по улицам сюда, за мной погнался наряд милиции. Меня хотели арестовать как недобитого тайшу и контрреволюционера. Хотя я был сам хан Хубилай! И что же дальше? Я объяснил главнокомандующему милицейского наряда, что я артист, вживаюсь в роль древнего повелителя. Я им совал под нос свой мандат, но они все равно не верили мне. Тогда я сказал им: «Хотите, я сейчас перевоплощусь в милую девушку, из-за которой вы передеретесь?» И перевоплотился. Но они рассердились на меня еще больше. Уселись в мою кибитку, и под дулом нагана я приехал в отделение милиции с видом самого скромного, смирного гражданина. Как влетело милиционерам от начальника! Он отпустил меня, а я поехал сюда, по пути надеясь на новые приключения. Но испугал одну лишь встречную хромоногую шабгансу. Да тебя, Мунхэбаяр Ринчинов. Принимай вожжи, пусть лошадки пожуют умную наркомпросовскую травку. И беги за вещами. А может быть, такого бегуна передать в Осоавиахим? Ха-ха-ха.
Похоже, Гомбожап не мог расстаться с ролью. Смеялся он, как гром в грозовом небе. И хотя Мунхэбаяр понял его объяснение, он не мог одолеть невольный трепет. В кибитке подданный Хубилай-хана нашел жестяное ведерко и распряг коней, напоил их, привязав к коновязям. А потом стремглав бросился в хозяйство Дашиева предупредить, что не выйдет на работу целый месяц, и к абгай на Производственную за вещами – морин хууром, скрипкой, котомкой с бельем, настоящей зубной щетинной щеткой и коробочкой зубного порошка.
Управляющих не было в тишине конного двора. Все поголовье было уведено пастись на Заболоке. Лишь в убогом летнем домике сидел на циновке Биликто-лама и давал устный урок маленькому Буде. Мунхэбаяр почтительно поприветствовал его и мальчика и попросил передать убгэн эсэгэ, что он уезжает с экспедицией в Еравну.
– В Еравну! – воскликнул Биликто-лама. – Если получится, побывай в Эгитуйском дацане на берегу речки Хара-Шэбэр и поклонись там Зандан Жуу. Это образ Будды Шакьямуни, вырезанный прямо при нем из сандалового дерева. Это невероятная святыня всех буддистов. Ты будешь поражен всем увиденным в дацане и тем прекрасным, что созидает вера.
Биликто-лама не знал, что из-за усилившихся гонений на религию Зандан Жуу уже изъят из дацана и перевезен в госхранилище города Улан-Удэ. У гонителей не поднялась рука уничтожить реликвию. Сам же Эгитуйский дацан пока еще действовал. Биликто-лама предупредил:
– Конечно, ты, Мунхэбаяр, будь осторожен и не стремись попасть в дацан целенаправленно. Однако, если окажешься рядом, с самым равнодушным видом отпросись на антирелигиозную экскурсию. Ты проникнешься истиной веры, если у тебя есть сердце. Я опасаюсь, что дацан скоро закроют. Расскажешь мне по возвращении, что увидел.
– Обязательно исполню, Биликто-лама, – сказал Мунхэбаяр. – Так расскажите же мне, уважаемый, пожалуйста, кратко об этом дацане. Не уверен, что, окажись я в нем, смогу побеседовать с кем-нибудь.
– Это двенадцатихрамный монастырь. В нем свыше ста дворов и свыше двухсот помещений. Соборный храм называется там Цогчен-дуган. А вокруг него стоят три сумэ, посвященные философии, медицине и астрологии. В них хранятся древнейшие полезнейшие знания. Они распространяются при помощи типографии с тысячами клише. Танец богов, мистерия Цам, ежегодно проводится в дацане с древнейшими масками, вывезенными из Китая. Поклонись святыне хотя бы издали, как миражу в пустыне мирской жизни. Да изольется на тебя благодать учения, растворенная там в воздухе, подобно чистейшему и нежнейшему аромату цветущего лотоса…
Мунхэбаяр поклонился Биликто-ламе и маленькому Буде и пошел со двора хозяйства. Второй раз он был сегодня напуган. Храм веры – мираж в пустыне! Тогда что такое он, Мунхэбаяр? Тень из теней? Он хотел вернуться и спросить ламу о себе, но забоялся что-либо слышать и о чем-либо думать и снова помчался по пыльным и шумным улицам, над которыми неслись металлические звуки строительства и шум тополей, клонящихся под ветром.
Отчего-то так выходит, что буряты, сколько бы ни собирались в путь с утра, отправляются ближе к вечеру. Так выехали и они, упиваясь красками тревожного ало-золотого заката, трепещущего, подобно высокому стягу Абая Гэсэра. Теперь для многих это был цвет флага СССР.
С возницей выехавших было пятеро: Гомбожап Цыдынжапов, две пары молодых ребят с девушками. И так наступила ночь. Возница ночевал под кибиткой, куда перебрался и Гомбожап, а парочки полночи бродили возле речки без названия и даже пели песню «Хууюур», очень красивую.
Слушая пение, Мунхэбаяр вздыхал и ворочался и сказал Гомбожапу:
– Утром я сочиню песню «Атаархалга», «Зависть». Слова у нее будут еще красивее, чем у «Хууюур». Все станут ее петь под мою скрипку.
– Почему же не под морин хуур? – поинтересовался Гомбожап.
– Я слишком дорожу его струнами из хвостов аргамаков, – ответил Мунхэбаяр.
– Аргамаков? – удивился Гомбожап. – Ахалтекинцев? Где же ты раздобыл такой волос? Я бы тоже хотел заиметь хвосты аргамаков для наших народных инструментов и ремесел.
– Годится волос только от живых лошадей, – с чувством превосходства сказал наш великий певец и солгал: – Я получил волос от проходившего через Улан-Удэ эскадрона. Ищи его, не найдешь. Эскадрон ушел в Читу.
– Жаль, – произнес Гомбожап. – Но я все равно возьму тебя в нашу группу ответственным за музыкальные инструменты, хуристом. Помоги только с хорошим волосом для струн. Эти клячи, что везут нас, по-моему, прискакали из проклятого далекого царизма. Я уже два лета приглядываюсь к конским хвостам и не нашел ни одного волоса звонкого, подходящего.
Мунхэбаяр, конечно, мог бы сказать, что он уже больше десяти лет состоит при самых первоклассных хвостах, но промолчал. Он не перестал страшиться хана Хубилая, в которого мог превратиться его новый друг и руководитель. И на всякий случай уточнил:
– Вас в московском театральном институте учили превращаться в оборотней? В волков, например, в лисиц, отгрызающих охотникам носы, когда те спят? В мангадхаев?
– Учили, – фыркнул Гомбожап. – Только ты не бойся меня, зээ-хубуун, я был плохим учеником.
Мунхэбаяр не понял, шутит его сосед по травяной постели или говорит правду, но на всякий случай отодвинулся от него подальше. А Гомбожап рассказал:
– Я хочу, чтобы мы добрались до истока нашей Красной Уды. Река берет начало в юго-восточной части Еравнинского аймака, как не увидеть ее младенческий родничок? Мы встретим совершенно удивительную природу. Более нежную, чем наш прибайкальский Баргуджин-токум. У меня есть адрес парня, который должен помочь нам в поисках еравнинских народных талантов. Его зовут Жамсо Тумунов. В Наркомпросе очень хорошо отзывались о нем. Он из агинских степей. Был сначала пионером-ленинцем, потом вступил в комсомол. Окончил среднюю школу в Дульдурге и получил направление в Улан-Удэнский пединститут. Однако ему так хотелось строить социализм вживую, создавать базис социализма, что он предпочел работу учителя начальной школы. С нынешнего года он заведует в Еравнинском райкоме комсомола отделом по пионерской и комсомольской работе. Я думаю, мы найдем с ним общий язык.
Гомбожап так и уснул – в глубокой мечте о завтрашнем утре. Мунхэбаяру не удалось расспросить его об учебе в московском театральном институте. Но он понимает, что такое театр. Например, во время мистерии Цам ламы надевают маски, мысленно перевоплощаясь. Но чтобы изменять свой собственный облик – как это? Мунхэбаяр тоже уснул с мечтой. Она была о зеленоглазой девушке, которой он споет новую потрясающую песню «Мы – богатая свободная страна».
Утром при свете нежной зари и наплывающем молочном тумане путешественники развели костер, сварили пайковый байховый чай с аягангой. Молока у них не было, они шутили, что пьют чай вприглядку с белым туманом. Словно мираж, на горизонте возник всадник на сером кавалерийском коне. У таких коней всегда есть стать, как у солдат выправка. Всадник приблизился – дочерна загорелый, морщинистый, в гражданском тряпье, с легкой торбой за спиной.
– Табаком угостите? – спросил.
– Угостим, – откликнулся Гомбожап. – Получили походный паек, а сами почти и не курим. Мы артисты, нам надо иметь голоса чистые, сильные.
Говоря это, он достал из вещмешка два бумажных цибика с махоркой и протянул было всаднику, но передумал.
– К нашему чаю присаживайтесь! Сейчас отыщу вам бумагу, самокрутку скрутить. Вы, наверное, красноармейцем были? Солдата видно издалека.
– Был, – согласился кавалерист, спешиваясь и садясь к костру. – Я калмык, меня Гордей зовут. Вашу речь не всегда понимаю, так что извиняйте! К своим не могу попасть. Был ранен в схватке на границе, долго отлеживался. Свои ушли. Вот и не могу восстановить мандат. По еравнинской степи скитаюсь который год.
– Даже и не знаю, что вам подсказать, Гордей, – задумался Гомбожап. – Мы, комсомольцы, должны помогать старшим, а тем более заслуженным красноармейцам. Вам надо к какому-нибудь отдаленному хотону пристать. Там люди отродясь не имели документов. Поработаете у них, они, может быть, помогут бумаги выправить. Женщину безмужнюю найдите, сейчас таких каждая вторая.
– Скажу я вам, ребята, вот что, – начал гость, отрывая прямоугольничек от протянутого ему старого номера газеты «Буряад-Монголой Унэн» и делая самокрутку. – Не ходите вы на военную службу никогда. Убивать врага придется, а это даром не проходит, потому что враг тоже человек. Я без труда крошил врага и не думал, что из этого худое бывает. Глотки резал, саблей сек. И вот война окончилась для меня, пристал я к одной женщине в селе Кутулик на западе от Байкала. Думал, заведу семью, документы сделаю, останусь у местных. И вот родилась у нас дочка. Как родилась, давай криком кричать, кричала без остановки и умерла. Жена, Туяна ее звали, сидела-сидела над мертвым ребенком полдня, подняла глаза, полные слез, и вдруг говорит мне: «Убирайся-ка ты подобру-поздорову. И больше никогда не приходи. Детей нельзя от тебя иметь». И я сам понял почему. И ушел.
– Скоро война с японцами будет, – сказал Гомбожап. – Придется взять оружие в руки.
– Вы что-то не то говорите, дядя Гордей, – возразил парень из группы, танцор Дондок.
– Смотрите, парни, многих из тех, кто сражался за правое дело, в Красной армии то есть, потом арестовали свои же, кого сослали, кого расстреляли. Даром пролитая кровь не дается.
– Есть такое, – неохотно согласился Гомбожап. – Пейте чай, ешьте хлеб коммерческий, баранина вот. Мы в Сосново-Озерское направляемся, давайте с нами. Там нас хороший товарищ ждет, комсомолец. Может, выправит вам бумаги.
– Я бы другое посоветовал, – воскликнул вдруг Мунхэбаяр, отставляя свою кружку. – Здесь неподалеку есть знаменитый дацан Эгетуйский. Побывайте сначала там, товарищ Гордей. Лекаря вас подлечат, злых духов изведут, что портят ваше семя. Новое имя дадут для новой жизни. Вам легче станет. От нашей дороги вам сейчас надо править на юго-восток.
Калмык выслушал его с удивлением.
– Можно ли красноармейцу в дацан, товарищи? – спросил диковато. – Пожалуй, так и сделаю. В нашей калмыцкой степи тибетские лекари славятся.
Он допил-доел при всеобщем молчании, сунул цыбики с махоркой в торока и, не прощаясь, вскочил в седло. Резко хлестнул коня нагайкой по левой стороне крупа и ускакал на засветлевший юго-восток.
– Ты меня удивляешь, Мунхэбаяр, – сказал Гомбожап строго. – Нам нельзя вести религиозную пропаганду! Если мы не будем едины, социализма мы не построим!
– Товарищи, вы не должны на меня сердиться, – ответил Мунхэбаяр. – Этот человек муухай, он показался мне опасным. От него человеческой кровью пахнет. Мы, конечно, если сейчас стронемся с этого места, к ночи будем от него далеко. И за неделю с небольшим достигнем Сосново-Озерского. А если бы этот калмык нас спящими застал, прирезал бы.
Мунхэбаяру припомнился давний рассказ Чагдара Булатова, как он случал Сагаалшан и аргамака калмыка-белогвардейца Гардяя, высадившись из поезда на станции Кутулик. Точь-в-точь это он и есть, Гардяй, назвавшийся русским именем Гордей. Головорез!
Все молча ели, хмурились, тянули горький чай без молока.
– Что ж, – Гомбожап начал складывать съестное в вещмешок, – я тоже почуял опасность всем телом. Спевку не будем проводить. В дорогу! Запрягай, возница, наших знатных лошадок!
Хмуро и без слов они тронулись с места. С неба обрушился ливень, а утренний дождь, как известно, до обеда. Мунхэбаяр сидел на своем месте и мок, терпеливо его пережидая, хотя товарищи звали его в укрытие кибитки. Вознице казалось, что мысли его так напряженны и горячи, что капли высыхают, едва долетев до его одежды. Он гадал, от какой опасности он и товарищи убереглись, проснувшись от прикосновения самого легкого духа – рассветного холодка. И о том, что сам он живет в непростом мире. Оказывается, то, что он просиживал дни в сосредоточенных занятиях музыкой и науками, имело смысл. Так он сохранил себя от бушующих в республике грозных послереволюционных противоречий и немирных схваток. Вместо классовой борьбы посвятил себя изучению гармонии. Случайно ли это? Святой Дух вложил в его грудь спасительный дар. И это было Вечное Синее Небо! Дыхание Абая Гэсэра с ним.
А укрывшиеся в кибитке хани нухэд, друзья, слушали, как барабанит по туго натянутой воловьей коже дождь, и им тоже казалось, что он не холодный, а горячий. Парни и девушки не вели разговоров, опасаясь сказать что-нибудь противоречащее идее социализма и прогресса. Гомбожап думал о том, что, оказывается, люди, воевавшие за правое дело, опасны для своих же, потому что души их залиты кровью. И этим он был встревожен. Свой же, красноармеец, оказывался врагом народа. А такие подлежат уничтожению. Они ехали час и другой, и наконец Гомбожап произнес:
– Мы никого не видели, всадник не встречался нам, это был мираж в степи.
– Мы даже и миража не видели, о чем ты, Гомбожап? – негромко откликнулись хани нухэд, друзья.
На душе полегчало, сидящим в кибитке показалось, что у них одна общая душа на всех. Мунхэбаяр остановил монотонный рысистый бег коней.
– Солнце, солнце! – закричал он громко в темноту кибитки и пропел: – Наратай, наратай, наратай удэр!
Он распряг коней у небольшого ложка с водой, заросшего зелеными кустами, давая подопечным напиться, а из кибитки высыпали товарищи. При виде парящей и блистающей на солнце степи им всем захотелось петь. Гомбожап нашел березовый пенек и в шутку сказал, что вокруг этого пенька они будут танцевать ёохор. Солист Цыжип попытался запалить пенек, но тот был пропитан дождевой водой. Тогда Гомбожап извлек неведомо откуда золотой советский рубль «Сеятель» и положил его на пенек вверх гербом СССР в золотых колосьях пшеницы.
– А вот и огонек, – сказал он.
Все взялись за руки и стали водить хоровод вокруг поблескивающего золотого огонька, припевая:
– Ёохор – СССР, ёохор – СССР!
Потом они рассыпались по степи и каждый, раскинув руки, закружился по отдельности. Друзья-товарищи кричали: «Индустрия! Индукция! Механизация! Даешь заводы и фабрики! Товарищу Сталину слава! Слава! Слава!» Воспоминание об утренней встрече с бесприютным всадником съежилось, чтобы отступить в глубину памяти. Путешественники продолжили путь, раскрасневшиеся сквозь смуглость азиатских скул и возбужденные весельем. А Гомбожап снова сидел в раздумьях. Он положил золотую монету на пенек в качестве театрального реквизита, а по сути они исполнили танец во славу золотого тельца. Как бы отнеслась к этому цензура? Рубль – советский, но каков сам архетип? «Избегай непроявленного, будь проще, вернешься в город – золотой рубль отнеси в Торгсин», – посоветовал он сам себе.
Его товарищи не задумывались, как попадут из Сосново-Озерского в Баргузин. Неужели напрямую, когда приемлемый путь, по сути, один – через Улан-Удэ? У Гомбожапа была тайна. Они совершат перелет на двух гидросамолетах Шаврова, Ш-2. Пилот, механик и один пассажир – один Ш-2 поднимает троих. На двух самолетах смогут подняться он и Мунхэбаяр. Остальные вернутся в город на повозке. Но все это было под вопросом. Гидросамолеты еще не садились на еравнинские озера.
Тринадцатого марта тысяча девятьсот тридцать пятого года пилот Бугров выполнил первый полет из столицы Бурят-Монголии в Баргузин. Отдаленные районы республики были обеспечены авиационной связью с Улан-Удэ. Пытливому Гомбожапу до всего было дело. Выбрав Еравну и Баргузин, такие отдаленные друг от друга пункты, для своей экспедиции, он поначалу хотел отправиться в полет, поднявшись с поверхности Байкала поблизости от Усть-Баргузина, до Еравны с посадкой на озеро Сосновое, но, как вы помните, выслушав Мунхэбаяра, принял за основу противоположный маршрут. Ведь из Баргузинской долины можно потом добраться в Улан-Удэ по воздуху, как уже сделал Бугров. Полеты были не слишком надежны, включали неминуемый риск, но Гомбожап, не достигший тридцати лет, вовсе не думал, каким ценным кадром он является для культуры республики и что не дело ему рисковать жизнью.
Мощность отечественного двигателя Ш-2 была сто лошадиных сил. А наших путешественников везли две лошадки. Проведя время в спевках, репетициях и монотонном степном пути, закупив свежее пропитание в Хоринске, но не задержавшись там, они прибыли наконец поздним летним вечером девятого дня в Сосновоозерск к товарищу Жамсо Тумунову. В работе с еравнинской коммунистической молодежью этот комсомолец из агинского села Табтанай шел по правильному пути.
Жамсо обдумывал свою драму, «Сэсэгму», пробуя силы в одноактных пьесах с актерами-сельчанами. Ему легко далось погружение в новую среду: что в Аге, что в Еравне проблемы были общие. Надо только обозреть их взглядом орла, не вдаваясь в подробности межплеменных отношений. А все споры между бурят-монголами были в это время сглажены общностью задачи: построить новое общество, где будут царить справедливость, свобода, равенство и братство. Эти идеи не могли не быть привлекательны для каждого, кто хотел мира и процветания своему народу. У Жамсо был еще не раскрытый к этому времени литературный дар. Он замышлял донести новые идеи при помощи театра, когда актеры и зрители, вживаясь в образы героев сцены, проходят с ними путь освобождения от унизительных пережитков прошлого. Не надо было подсказывать комсомольцу, что именно пьесы помогут становлению нового быта и образа мыслей. Это было близко ему самому. Непринужденная обстановка радости и единения – вот что еще было ему близко. К тому же он был смел, и чувства его были серьезны. Вспомните, как он защитил от ареста свою любимую бабушку Сэжэ, когда был пионером!
И сейчас Жамсо с волнением ждал гостей из Улан-Удэ. Еще бы, Гомбожап Цыдынжапов только что окончил в Москве институт театрального искусства. Сколько советов он может дать начинающему драматургу и постановщику! Ветер перемен летит вслед за его кибиткой!
Из телеграммы, отправленной из Хоринска, следовало, что путешественники прибудут этим вечером. Жамсо показалось, что волнение ожидания разлито по всей природе, окружающей улус. По-особенному шумели березы и ивы, по-особенному садилось солнце, горячо вздохнув на всю степь и уступая волю звенящей прохладе. По-особенному взгудело колхозное стадо, и с особой важностью прошествовали с выменами, полными молока, пестрые коровы. Сгрудившиеся вокруг хусы овечки были так тихи, словно тяжело им было нести шелковистые туки своей пегой шерсти. Когда все, казалось, затихло, иначе взлаяли дворовые псы, словно тоскуя по чему-то далекому. Тонко засвистели короткохвостые птицы-пеночки, что меньше воробья. Зазвенели тоньше пеночек комары, и стало совсем темно. Оставалось гадать: не спрячут ли косматые тучи звездное небо? Не хлопнет ли ветер чьей-то незакрытой дверью, и не понесет по темноте улицы золотистые пряди августовской соломы?
Комсомольцы спорым боевым шагом отправились спать по своим юртам, а Жамсо вышел на темнеющую извилистую дорогу. По ней могут проехать только его гости!
И наконец он услышал нелегкий бег усталых запряженных коней, ворчливое тарахтение окованных железом деревянных колес. Одиночество статного сильного его тела и нежной поэтической души прервалось рукопожатиями, объятиями, похлопыванием по спинам, приветствиями. Гости пошли дружно, разминая затекшие в езде ноги. Так быстро шагали, что лошадки едва поспевали следом.
И вот уже зажегся тусклый свет керосинки, придавая таинственность нехитрому уюту предстоящего ночлега. Проговорили чуть ли не до утра, горя вдохновением поднимать пласты народной жизни к свету добра и обновления.
Следующий день был выходным. Жамсо обскакал на коне улусников, приглашая их на встречу с гостями. И тут перед ним встал тревожный вопрос: в Сосновоозерске немало русских. Обойти их стороной? А если пригласить и говорить на русском, поймут ли улусники, среди которых еще так много неграмотных? Гомбожап собирался рассказать об обновленной Москве, используя множество новых слов и понятий. Конечно, здесь лучше использовать русскую речь. Значит, нужно собирать всех.
Принято считать, что знатные люди горды и спесивы, не то что чужих – своих сторонятся. Не то бедняки: они всегда приходят на выручку друг другу, нужда заставляет забывать, к какому роду-племени принадлежишь. И, надо сказать, народ теперь повсюду был одинаково беден и назывался советским. Ему предстояло создать новую мораль и общее достояние для справедливого и равного централизованного распределения.
Да неужели именно неграмотные и беднейшие слои стояли во главе новых свершений? Они были знаменем власти Советов, но вряд ли обладали каким-то влиянием. Отследить «классовое происхождение» советских деятелей почти невозможно, каждый сочинял его сам, и это называлось «быть творцом своей судьбы».
Вот и Жамсо – по бумагам он из неграмотной крестьянской семьи в самых далеких далях Советского Союза. Совсем как Балта Балтиков, его сын Буда и внук Зоригто! Дядя Жамсо по линии матери, Гомбожап Цыбиков, с которым они не могли не встречаться в родных местах, был в тысяча девятьсот тридцатом году скромным агинским скотоводом.
Но что интересно, он же был раньше профессором Иркутского государственного университета, имел орден Святой Анны третьей степени, что, как помнится, давало до революции дворянство и сто царских золотых рублей ежегодного пенсиона; были у него и ордена Святого Станислава второй и третьей степени, дававшиеся особо отличившимся инородцам. Был Гомбожап Цыбиков и лауреатом премии имени Пржевальского Русского географического общества. Он бы и дальше преподавал в Иркутском университете, если бы не обвинения в панмонголизме, после чего только и оставалось арестовать его и объявить японским шпионом! Он это понял и отправился пасти скот в агинские степи. А сколь блестящая карьера была позади! А еще прежде, во время учебы в Петербургском университете, – стипендия Петра Бадмаева, знатнейшего лекаря Российской империи, дяди Гомбожапа Цыбикова.
Грамоту будущий профессор освоил пятилетним мальчиком в родной юрте; и не умел ли писать и читать Жамсо Тумунов в том же возрасте, раз они из одной семьи? Этот вопрос позднее задавали многие исследователи. В школу крестьянской молодежи Жамсо поступил одиннадцатилетним, в нее принимали после получения начального образования.
Той ночью, когда Жамсо беседовал с группой Гомбожапа Цыдынжапова, заинтересованной во встречах с носителями сказаний, он немного рассказал о себе.
– За мной, ребенком, присматривала бабушка Сэжэ. Женщины и бабушки у нас хранительницы не только домашнего очага, но и очага древней культуры. Они прядут нити и ковры в тишине войлочных юрт, и точно так же они прядут нити и ковры древних и новых сказаний. Бабушка Сэжэ пела нам, детям, улигеры, пересказывала то, что слышала от своих бабушек и мужчин рода. Ежедневно мы были погружены в благое звучание родной речи и в природу степи, навевавшей свои заповедные сказки самым сокровенным способом.
Нухэд, друзья, немного поспорили, что это за сокровенный способ и существует ли познание, не постигаемое и не ограниченное речью? Точнее, спорившие, изначально приверженцы буддистского миросозерцания, могли подтвердить: да, существует. Однако на поверхности бытия совершалась работа советских лозунгов, инструкций, планов, трудовых дел, и мыслям надлежало ограничиваться этим неустанно катящимся на людей оптимистическим валом. При свете солнца совершалась одна работа, а тайные нити, идущие из глубин прошлого в туман будущего, связывали людей незримо и совсем иначе. Новый советский строй будет существовать – как далеко его посылы смогут простираться? Нухэд, друзья, вовсе не думали об этом, им было интересно жить, и они дорожили дружбой.
Жамсо не один отправился верхом, чтобы разнести весть о встрече с гостями. К русским колхозникам поскакал Мунхэбаяр, на удивление прилично говоривший по-русски. Никто не знал, что он вызвался быть вестником потому, что ему хотелось изучить, много ли у русских зеленоглазых девушек. Как быть смелым среди них? Как завоевать хотя бы одно сердце? Парень считал, что он не будет беден и сможет содержать двух жен, вторую возьмет из своих, и это будет выглядеть благородно. И он обязательно посоветуется об этом с убгэн эсэгэ. Но что же значила шутка Биликто-ламы? Он что, сначала женится на Марии Юрьевне, а потом на серенькой мышке? Второе доступно только шаманам.
Мунхэбаяр придержал коня у колхозной хомутарки, и русские мужики, отдыхавшие в свой законный выходной и курившие махру, сидя на старой, отжившей свой век бесколесной телеге, поприветствовали его:
– Сайн байна, товарищ!
– Здравствуйте, товарищи, – по-военному гаркнул Мунхэбаяр. – Сегодня после обеда, в два часа дня, на площадке Сурхарбана будет встреча с артистами из Улан-Удэ. Приглашаем всех вас и ваши семьи! Будет лекция на русском языке, театральные сцены. И прозвучат песни.
– Ты, что ли, будешь петь? – догадался один из мужиков. – Мы хотим услышать «Ямщик, не гони лошадей».
– Про лошадей будет обязательно, – обрадовался Мунхэбаяр. – А еще подскажите мне, уважаемые товарищи колхозники, как найти дорогу к русским девушкам?
Мужики с интересом на него посмотрели.
– Почему же к девушкам? Невесту ищешь на один день?
– В республике равенство мужчин и женщин. Если я сделал сообщение вам, я должен сделать его и девушкам, – нашелся Мунхэбаяр.
– А почему же не бабушкам? – подначил его все тот же мужик.
– Девушки пригласят своих бабушек, – объяснил Мунхэбаяр. – Матерей и старших сестер.
– Складно чешешь, – одобрил мужик. – Девичье звено ударно и сверхурочно работает на прополке яровых. Скачи прямо, потом увидишь тропку направо, а там и красавиц-девушек.
Мунхэбаяр сначала направил коня медленно, а потом пришпорил пятками городских парусиновых туфель и вскоре оказался перед звеном девушек, дружно кланяющихся полевым сорнякам.
– Здравствуйте, колхозницы, – гаркнул он. – Ваша работа похожа на танец, давайте танцевать!
Девушки распрямились и подбоченились, уткнув грязные руки в бока подоткнутых юбок. Они сразу услышали акцент в словах Мунхэбаяра, но все равно удивились, увидев лихого бурята, гарцующего на колхозном вороном. А Мунхэбаяр прошелся перед ними так, что конь беспрестанно махал хвостом то направо, то налево, вместе со всадником заглядывая в глаза в поисках зеленых. Но глаза ему попадались то серые, то синие, то карие. И все они были веселые.
– Девушки, я и не знаю, какую из вас выбрать, – воскликнул Мунхэбаяр, смелея, как всякий всадник смелеет верхом на сильном и верном коне. – Я выбираю всех. Я знаменитый певец советского пролетарского театра. Давайте петь вместе!
Он спешился и, набрав полную грудь воздуха, забасил:
– Растем все шире и свободней… живем мы весело сегодня…
Девушки бросились обнимать его так сильно и неистово, что ему спешно пришлось сунуть туфлю в стремя и взлететь на коня.
– Девушки, – сказал Мунхэбаяр строго, – я приглашаю вас на площадку Сурхарбана на… на… на…
И он ускакал, исчез, словно одурелый дух в пучине становления молодой колхозной жизни.
А в это время более серьезные, как им казалось, парни, чем наш артист, во главе с девятнадцатилетним Жамсо Тумуновым обсуждали предстоящую агитвстречу. Тогда все мероприятия назывались агитационными. В те годы гремело имя Алексея Стаханова, но его шахтерский опыт к селу не подходил. А еще знаменита была Паша Ангелина из Донецкой области, трактористка. Жамсо тогда задумал пьесу о бурят-монгольской Паше Ангелиной, «Басаган-трактористка». Но пока пьеса не складывалась. Надо попробовать поставить сегодня сценку из нее и получить советы новых друзей. Сейчас они дружно работали молотками, сколачивая скамьи для зрителей. Над площадкой развевались красные флаги СССР, РСФСР и БМАССР. Первые два были с изображением серпа и молота, и парни, поглядывая на них и работая молотками, невольно считали, что приобщаются к духу рабоче-крестьянской власти. Скульптурная группа «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной еще не была воздвигнута, но Жамсо Тумунову уже пришла в голову мысль открыть встречу гимнастической сценкой: юноша Цыжип будет держать молоток, а его девушка Гоохон – серп. А Мунхэбаяр споет «Интернационал». Слова этого пролетарского гимна не поддаются пониманию, но что делать! Это почему же, в нашем случае, еравнинцы «заклеймены проклятием»? А «голод» разве не революция приносит? И как это разум может «кипеть», когда у разума одна задача – удерживать равновесие мыслей и поступков от безумства? И разве можно вытерпеть слова «кто был ничем, тот станет всем»? Всякий бурят-монгол гордится своим родом-племенем, уходящим в глубину веков, любой из племени может ли быть «ничем»? И разве под силу кому-то стать всем? Даже Абай Гэсэр не говорил о себе, что он «всё».
У Жамсо были трудности с задуманными им пьесами именно потому, что он не мог связать воедино коммунистические лозунги и действительность. Еравнинская Паша Ангелина – ну зачем ей садиться за руль трактора? Скотоводы, как известно, степь не пашут. После того как трактор пройдется по степи, на ней остается уродливый шрам от его гусениц. Жамсо Тумунов решил, что актеры поставят пока такую сценку. В улус приезжает киноустановка, девушка, ну, к примеру, ее зовут Гоохон, она настоящая красавица, видит на экране бравого парня на тракторе. И решает, что, если уж выходить замуж, то только за тракториста. А где же его найти? И она говорит юноше, который вздыхает по ней, ходя по той тропе, по которой она водит на выпас родительских коз (коза ведь не крупное животное, ее можно вытащить на сцену?), что выйдет замуж только за тракториста. Растерянный юноша вынужден признаться ей в своих чувствах и в том, что он не будет трактористом. У него есть любимый буланый конь, пусть он и отдан теперь в колхоз. Девушке Гоохон кажется, что юноша, Цыжип, объясняется в любви к своему буланому, а не к ней! И она бросает ему: «Тогда я сама стану трактористкой!» На этом сцена заканчивается. Может быть, зрители подскажут, зачем же Гоохон-красавице садиться на неприятно пахнущий трактор? Неужели ради одной всесоюзной девичьей моды?
Прискакал Мунхэбаяр и известил товарищей, что он пригласил на встречу русских девушек.
– Девушек? – переспросил его подъехавший к группе Жамьян Балданжабон. – Одних девушек? А что же юноши?
Он не осмотрел Мунхэбаяра с головы до ног, как это сделали русские мужики, у бурят это считалось неприличным, но представился ему:
– Мы с товарищем Жамсо вместе были направлены в еравнинские степи. Меня зовут Жамьян, я из агинского улуса Хужартай. Я писатель и поставил своей задачей ликвидировать неграмотность среди нашего народа. Спасибо, что вы все приехали. Как я понял, ты Мунхэбаяр и будешь петь нам новые песни.
– Да, это я, – согласился наш артист. – Я пою не только новые песни. Я люблю исполнять старинные улигеры. В этом мой принцип – уважительно относиться к старине.
– Правильно, – одобрил Жамьян. – А русский язык ты знаешь? Как ты считаешь, бурят-монголы должны овладеть русским языком?
– Конечно должны! – воскликнул Мунхэбаяр, помня слова Марии Юрьевны. – Нам надо влиться в дружную семью народов, а этого без русского языка не достичь. И потом, я пою песни из репертуара великого… великого… Я хочу понимать песни русских.
– А вот, скажем, твой отец, он же неграмотный скотовод? – уточнил у Мунхэбаяра Жамьян.
– В том-то и дело, что нет. Мой отец Ринчин участвовал в Первой мировой войне, остался жив, хотя и тяжело пострадал. Он умеет говорить и писать по-русски…
Мунхэбаяр осекся, потому что дальше последовал бы провокационный рассказ про царевен, посетивших солдатский лазарет и вручивших отцу свиток с мантрами.
– Мы видим, – включился в разговор Жамсо, вбив в скамейку последний гвоздь, – что среди нашего народа встречаются люди с самым различным опытом. И самые бывалые за то, чтобы одолевать неграмотность, учить наравне с родным русский язык. Это открывает широкие возможности равенства со всеми народами.
– Я отражу это в своей лекции, – добавил Гомбожап. – Мы – безбожники. У нас нет такого, что у каждого свой национальный божок или свой святой. Мы преклоняемся перед справедливостью для всех. Мы за освобождение труда во имя расцвета наций. И это я понимаю как расцвет всех видов искусств.
– Это мне подходит, – согласился Мунхэбаяр. – Расцвет искусств. Но вот объясните мне, товарищи, пожалуйста, следующее. В Еравнинских степях есть знаменитый Эгитуйский дацан с изображением Сандалового Будды. Неужели он будет закрыт? Разве это не искусство – воздвигать подобные сооружения, наполнять их красивыми предметами и благозвучиями?
– Может, это и искусство, – ответил Жамьян. – Однако оно уводит прочь от общественных задач. Люди должны находить лучшее среди своих и бороться за нового человека. А в буддизме беспрестанный безысходный проворот колеса сансары. Нет идеи прогресса. Вот в чем дело. В двадцати километрах от Эгитуйского дацана пять лет назад построен улус Усть-Эгита с новой школой. Мы поспорим с ламами: куда поведут родители своих детей – в монастырскую школу или в новую советскую? Конечно в новую советскую!
Мунхэбаяр понял, что его новые товарищи настроены решительно. Он не сможет выполнить просьбу Биликто-ламы и поклониться святыням Эгитуя.
Пыльная площадка с рядами скамеек заполнилась сельчанами, и Гомбожап, готовившийся первым держать речь, обратил внимание, что ни один из зрителей не приехал верхом, никто не привязал своего гривастого любимца к одной из многочисленных сэргэ-коновязей. Это встревожило его. Степняки лишились своих поголовий! Впрочем, Гомбожап это знал. А теперь увидел эту печальную картину своими глазами. Еще когда он доучивался в институте театрального искусства, в Москве прошел Седьмой съезд Советов. Докладчики объявили о превращении нэповской страны в социалистическую: «социалистический уклад стал безраздельно господствующим в народном хозяйстве».
Так о чем же рассказать этим бедным людям? О том, что пятнадцатого мая этого года запущена первая линия Московского метрополитена? И он, Гомбожап, ездил на поезде метро? «Ом ах хум ваджра гуру падма сиддхи хум, – прозвучало вдруг в его голове. – Ом-мм…» Что над кремлевскими башнями вознеслись красные армейские звезды? А почему не раньше? А что, до 1935 года все могло вернуться на круги своя, к царизму и многоукладности? А теперь всюду господствует воля пролетарского энтузиазма? Рабочих рук не хватает, и один теперь надрывается за троих. Появились на хлопковых полях комбайны? Однако сколь же далеко хлопковые поля от Еравнинской степи! Гомбожап знал от институтских преподавателей, что страну идейно сплотит кинохроника. В любом улусе и хотоне можно будет немедленно узнать о лучших достижениях новых советских людей. Но киноустановок не хватало, и сейчас рассказывать о том, чего никто себе не представлял, казалось неуместным.
Мунхэбаяр заиграл на скрипке «Марш октябрят». Скрипичное исполнение марша, как вы это себе представляете? Сельчане встретили его исполнение с интересом. Парень был одет в строгий темный костюм, в таких приезжают сюда большие начальники! На дощатые подмостки в легком рабоче-крестьянском танце вышли Дондок и его Зыгзыма, Цыжип и Гоохон. Они воздели руки с серпами и молотками, Мунхэбаяр передал скрипку незнакомому мальчику и а-капелльно запел «Интернационал». Ему нравились там строки:
- Никто не даст нам избавленья —
- Ни бог, ни царь и ни герой,
- Добьемся мы освобожденья
- Своею собственной рукой[7].
Освобождение – это там, в царстве нирваны, ради нирваны стоит жить! Мунхэбаяр пропел на подъеме:
- И если гром великий грянет
- Над сворой псов и палачей,
- Для нас все так же солнце станет
- Сиять огнем своих лучей!
И сорвал дружные аплодисменты. Эти слова были так жизненны! Какие только псы не терзали простой деревенский люд! Шесть лет назад, в двадцать девятом году, первенцы социалистической индустрии – стальные танки давили повсеместно восставших крестьян Центральной России. В Еравне, конечно, не знали об этом никогда, но в Москве Гомбожап слышал шепоток об этом от сокурсников. Здесь, в Еравне, не забыли о хоринском восстании тридцатого года, весть о котором принес один земляк, впоследствии арестованный. Замысел восстания возник за год до его начала в селе Вознесеновском у некоего Шитина. Вскоре восстанием были охвачены Новая и Старая Брянь, Михайловка, Куорка, Мухор-Тала, Павловский, Шалоты, Кижинга, Жибхеген, Хуригт, Заиграево, Бада, Хохотуй. Стратегия восстания разрабатывалась при участии бывшего офицера царской армии подпольщика Лосева. Захват Хоринска и столицы республики Верхнеудинска был назван повстанцами первейшей задачей. Лозунгом восстания стал призыв «Свобода без коммунистов!». Началась мобилизация крестьян. Руководили восстанием в основном бедняки. Когда же в октябре в селе Эдэрмэг свыше ста повстанцев захватили коммуну «Манай зам» («Наш путь»), из Читы были направлены ликвидаторы, в жестоком и долгом бою они подавили восстание. Надо было жить дальше, и вскоре в сверхнапряжении народных сил сельское хозяйство стало подниматься.
Мунхэбаяр насладился аплодисментами и приветливым солнцем дня. Вот что несет слава! Какое это наслаждение! Радость его потонула в новых ощущениях. Гомбожап произнес речь на русском и бурятском:
– Дорогие еравнинцы, уважаемые граждане Страны Советов! Мы строим социализм! Мы строим новое общество добра и справедливости! И когда мы построим его, будет великий праздник! К нему надо готовиться заранее. Не забывать народных песен и древних сказок. Музыки и танцев. К этому празднику мы должны прийти в красивых нарядах, пошитых нашими народными мастерами. Мы поставим спектакли о борьбе за народные идеалы и счастье всех трудящихся. Мы напишем новые песни. Сочиним книги для повышения культуры всех народов. Да здравствует всеобщая грамотность трудящихся, ведущая к победе социализма! Ура, товарищи! Ура!
– Ура-а-а!
Следом Цыжип и Гоохон сыграли сценку «Басаган-трактористка». Жамсо дал им текст, написанный монгольским шрифтом, а это предполагало учтивые и красиво построенные фразы. Таким образом получалось, будто девушка-трактористка знатного рода. Тогда отчего же она пасет коз? Цыжип и Гоохон постарались свести фразы к просторечию. Гоохон вышла на подмостки в концертном тэрлиге с тщательно отмытой и расчесанной белой козочкой. Зрители взволнованно захлопали. Женской половине присутствующих очень понравилась грациозная красавица ямаан, а мужской – грациозная красавица Гоохон. Начальству района – и та и другая, обе. Навстречу девушке с козой вышел, озираясь, робкий юноша Цыжип. Девушка Гоохон не прошла, потупив глаза, мимо. В ее глазах был огонь. Она попросила Цыжипа поступить на курсы трактористов. Для парня это было полной неожиданностью. Козочка резво дернулась. В руке у девушки осталась пеньковая веревочка с ее шеи, а козочка спрыгнула с подмостков и побежала. Ловить ее вызвалось множество пионеров и комсомольцев. Цыжипу и Гоохон пришлось приостановить действие. Автор, великий драматург Жамсо, кинулся улаживать козий переполох. Когда все стихло, Цыжип и Гоохон продолжили. Цыжип произнес монолог верности любимому коню. Гоохон слушала его, сердясь все больше. Она совсем забыла, что у Цыжипа театральная роль! Она поняла, что парень дорожит конем больше, чем ею. А Цыжип старался вовсю. Он вспомнил собственного мохнатого конька, оставленного в родном агинском хотоне, и уже говорил, как он будет тосковать по любимцу, если сядет на железного мангадхая. Гоохон слушала его со всевозрастающим гневом, крутя козью пеньковую веревочку в руке все ожесточеннее.
