Странница. Преграда
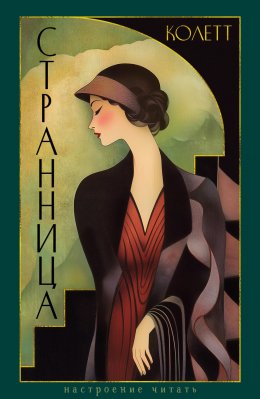
Colette
LA VAGABONDE. L’ENTRAVE
© Л. З. Лунгина (наследники), перевод, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®
Странница
Часть первая
Половина одиннадцатого… А я уже готова, опять слишком рано. Браг, мой партнер, – с его легкой руки я и попала в пантомиму – вечно ругает меня за это, не очень-то стесняясь в выражениях:
– Чертова дилетантка! Спешит как на пожар. Если жить по-твоему, то уже в половине восьмого, за ужином, давясь салатом, надо начинать мазать морду тоном…
Три с половиной года работы в мюзик-холлах и театрах ничему меня не научили: я всегда бываю готова раньше, чем нужно.
Десять тридцать пять… Если я не раскрою сейчас эту книгу, читаную-перечитаную, – она почему-то валяется на гримировальном столике – или газету «Пари-Спор», которую костюмерша исчеркала моим карандашом для бровей, отмечая победителей, я окажусь наедине с собой, лицом к лицу с этой загримированной наперсницей, что уставилась на меня из глубины зеркала своими запавшими глазами, окаймленными жирной лиловатой подводкой. У нее розовые скулы того яркого тона, что у садовых флоксов, и красные в черноту губы, блестящие, будто лакированные… Она долго-долго глядит на меня в упор, и я знаю, что она вот-вот заговорит… Она скажет мне:
«Неужели это ты?.. Совсем одна, в этой камере с белыми стенами, которые нетерпеливые руки, заточенные здесь, не знающие, чем заняться, исчертили сплетенными инициалами и непристойными наивными рисуночками. На этих алебастровых стенах чьи-то ногти, покрытые алым лаком, как твои, процарапали какие-то знаки – как бы вырвавшийся из подсознания вопль одиночества… Вот у тебя за спиной явно женская рука начертила: Мари… Росчерк в конце слова взмывает вверх, будто крик… Неужели это ты, совсем одна, под этим гудящим потолком, который сотрясается, словно корпус работающей мельницы? Почему ты здесь совсем одна? Здесь, а не в другом месте?..»
Да, это опасные минуты прозрения… Кто постучит в дверь моей гримуборной? Чье лицо заслонит меня от глаз моей загримированной наперсницы, которая следит за мной из глубины зеркала?.. Его Величество Случай, мой друг и властелин, надеюсь, окажет мне милость и пришлет вестников из своего сумбурного царства. Я теперь верую только в него и в самое себя. Но главным образом, конечно, в него, ведь он всякий раз успевает вытащить меня из воды, когда, захлебнувшись, я иду ко дну, хватает меня, словно пес, за загривок и трясет, чуть прокусив зубами мою шею… Так что при каждом приступе отчаяния я жду теперь не своего конца, но приключения, маленького банального чуда, того, что соединит блестящим колечком разъятую цепь моих дней.
Это вера, настоящая вера, с ее подчас наигранным ослепленьем, с лицемерием ее отрешений от всего на свете, с упрямой надеждой даже в тот миг, когда орешь не своим голосом: «Все меня оставили, все, все!..» И в самом деле, когда я в сердце своем назову Его Величество Случай иным именем, то стану образцовой католичкой.
Как вздрагивает пол там, наверху! И неудивительно, ведь холод собачий: русские танцоры усерднее обычного бьют чечетку, чтобы согреться. Когда они все вместе хриплыми фальцетами заорут «И-ex!», будет одиннадцать десять. Здесь я узнаю время не по часам. Все выверено до минуты, и так целый месяц, безо всяких сбоев. Десять часов – я прихожу. Госпожа Кавалье поет три песни: «Бродяжки», «Я целую тебя на прощанье», «От горшка два вершка». Антоньев со своими собачками – десять двадцать две. Выстрел, лай – это кончается номер с собачками. Скрежещет железная лестница, кто-то кашляет – это спускается Жаден. Кашель прерывается проклятьями, потому что всякий раз она наступает на подол своего платья, это уже стало каким-то ритуалом. Десять тридцать пять – выступает куплетист Бути. Десять сорок семь – русские танцоры. И наконец, одиннадцать десять – я!
Я… Мысленно произнеся это слово, я невольно поглядела в зеркало. И в самом деле, это я сижу здесь с ярко нарумяненными щеками и подведенными синим карандашом глазами, густая краска на веках оплывает от жары… Неужели я буду ждать, пока весь мой грим не потечет? Буду ждать, пока мое отражение не превратится в разноцветную расплывшуюся кляксу, прилипшую к зеркальному стеклу, словно какая-то нечистая слеза?
Ну и холод, зуб на зуб не попадает! Я зябко потираю руки, какие-то серые от холода под тонким слоем жидкого тона, который, застывая, покрывается, словно паутиной, сеткой мелких трещин. Черт возьми, да батарея же просто ледяная! Ведь сегодня суббота, а по субботам здесь не топят – пусть, мол, весело галдящие, подвыпившие простолюдины согревают зал своим дыханием. А об артистах в гримуборных никто не думает. От удара кулака затряслась дверь, и даже в ушах у меня зазвенело. Я поворачиваю ключ и впускаю своего партнера Брага. Он уже в костюме румынского бандита и искусно загримирован «под загар».
– На выход!
– Знаю. Заждалась уже. Тут околеешь от холода.
На верхних ступеньках железной лестницы, ведущей на сцену, сухой, пыльный, горячий воздух окутывает меня, как удобный, но грязный плащ. Пока Браг педантично следит за тем, чтобы все поставили где положено и чтобы не забывали приподнять у задника софит, изображающий свет заходящего солнца, я машинально смотрю в светящийся глазок в занавеси. Обычная субботняя публика в самом популярном кафешантане этого района. Зал погружен в полутьму, направленные на сцену прожектора его плохо освещают, и вы могли бы смело биться об заклад на сто су, что не увидите там ни одного белого воротничка, ну просто ни единого, от первого ряда партера до галерки. Рыжеватое облако табачного дыма висит в воздухе, распространяя отвратительный запах погасших трубок и дешевых сигар, которые курят где-то в отдалении. Зато на авансцене – настоящий цветник… Прекрасная суббота! Но, как говорит малютка Жаден:
– Плевать я на это хотела, мне со сбора не платят!
С первых же тактов нашей увертюры я чувствую себя легко, словно заново рожденной, невесомой и свободной. Облокотившись о нарисованный на заднике балкон, я безмятежно гляжу на грязный пол (земля и глина, принесенные на подметках башмаков, пыль, клочья собачьей шерсти, раздавленная канифоль – все это толстым слоем покрывает планшет сцены, на который я через несколько секунд должна буду стать голыми коленями) и вдыхаю химический запах искусственной красной герани. С этого мига я себе больше не принадлежу, все пойдет как положено. Я знаю, что не споткнусь во время танца, что не зацеплю каблуком подол юбки, что упаду как подкошенная, когда Браг грубо швырнет меня на пол, но при этом не окровавлю себе локтей и не расквашу нос. И мускул не дрогнет на моем лице, когда в самый драматический момент молоденький рабочий сцены, стоя в кулисах, начнет, как всегда, производить губами громкие физиологические звуки, чтобы заставить нас засмеяться… Бьющий в глаза свет прямо выталкивает меня вперед, музыка управляет моими движениями. Таинственная дисциплина сцены порабощает меня и одновременно защищает. Все идет хорошо.
Все идет даже очень хорошо. Необузданная публика субботнего вечера наградила нас рукоплесканиями, криками «Браво!», свистом, восторженными воплями и громкими непристойностями, которые выкрикивали, конечно же, в знак одобрения. А я даже получила грошовый букетик – он угодил мне прямо в губы, – букетик блеклых, анемичных гвоздик, которые цветочница, прежде чем уложить в свою корзинку, окунает в окрашенную воду, чтобы придать им хоть какой-то цвет… Я уношу его домой, приколов к отвороту жакета: он пахнет перцем и псиной. Уношу я и записку, которую мне только что передали:
Мадам, я сидел в первом ряду партера. Ваш мимический талант заставляет меня предположить, что вам присущи и другие таланты, куда более изощренные и захватывающие. Не доставите ли вы мне удовольствие поужинать сегодня со мной…
Внизу стоит: «Маркиз де Фонтанж». Бог ты мой! Да-да, именно «маркиз», а записка написана в кафе «Дельта»… Сколько отпрысков дворянских семей, казалось давно уже угасших, обжились теперь в том кафе?.. Как это ни покажется неправдоподобным, но я просто носом чую, что этот маркиз де Фонтанж состоит в близком родстве с неким графом де Лавальер, который на прошлой неделе приглашал меня на файф-о-клок в свою холостяцкую квартиру. Банальное жалкое вранье. Но в нем сказывается романтическая тяга к светской жизни и уважение к родовым гербам, которое еще живо в этом шумном квартале шалопаев и забулдыг в видавших виды кепках.
С глубоким вздохом, как обычно, захлопываю я за собой дверь своей квартиры на первом этаже. От усталости? Или оттого, что можно наконец расслабиться? От облегчения или от страха одиночества? Не будем уточнять, не будем!
Что со мной нынче вечером?.. Должно быть, все дело в этом декабрьском ледяном тумане. Иголочки инея дрожат в свете газовых фонарей, окружая их радужными ореолами, и тают на губах, оставляя во рту едкий запах креозота. К тому же этот новый район, раскинувшийся за площадью Терн, в котором я сейчас живу, весь белый, оскорбляет взгляд и угнетает сознание.
В зеленоватом свете фонарей моя улица в эти ночные часы как бы выставляет напоказ гладкую штукатурку своих домов цвета пралине, цвета кофе мокко и желтой карамели – они похожи на оплывший кремовый торт, в котором вместо кусочков нуги белеют блоки бутового камня. Даже мой дом, стоящий чуть на отшибе, выглядит каким-то «невсамделишным», однако его новые стены и тонкие перегородки дают за умеренную плату вполне комфортное прибежище «одиноким дамам» вроде меня. Когда ты «одинокая дама», то есть являешься для домовладельцев парией, внушаешь им ужас и отвращение, то не приходится особо выбирать, живешь где попало и вдыхаешь запах сырой известки… Дом, в котором я живу, великодушно приютил целую колонию «одиноких дам». Квартиру на бельэтаже занимает официальная любовница Яна – главы автомобильной фирмы «Авто Ян». Над ней живет холеная и избалованная подруга графа де Бравай. Еще выше – две сестры-блондинки, к которым ежедневно приходит один весьма респектабельный господин из высоких промышленных кругов. А самую верхнюю квартиру занимает гулящая девка, которая не знает покоя ни днем, ни ночью, словно взбесившийся фокстерьер. От нее все время доносятся какие-то крики, кто-то там барабанит на пианино, кто-то поет, а из окон швыряют на улицу пустые бутылки.
– Она позорит наш дом! – сказала как-то госпожа Авто Ян.
И наконец, на первом этаже, на уровне земли, живу я, которая не кричит, не играет на пианино, не принимает никаких господ, а уж тем более дам. Барышня легкого поведения с пятого этажа производит слишком много шума, я же – слишком мало, и консьержка не упускает случая меня в этом упрекнуть:
– Весьма странно, никогда не поймешь, дома ли мадам или нет. Вас решительно не слышно. Вот уж не подумаешь, что вы артистка!
Ах, до чего же уродлив этот декабрьский вечер! От калорифера почему-то несет больницей. Бландина забыла положить в постель бутылку с горячей водой, а моя собака явно в дурном настроении: ворчит, мелко дрожит от холода и едва удостаивает меня взгляда, чуть подняв свою серо-белую морду. Она даже не вылезла из корзинки! Я вовсе не требую, чтобы меня встречали триумфальными арками и иллюминацией, но все же…
О! Сколько бы я ни искала во всех углах, под кроватью, везде, тут нет никого, никого, кроме меня. И в большом зеркале моей спальни отражается не загримированная цыганка, а… я.
Так вот, значит, я такая, как есть, без грима! В этот вечер мне не удастся избежать встречи с большим зеркалом, разговора с собой, от которого я сто раз уже уклонялась, – начинала его, бежала от него, возобновляла и опять обрывала… Увы, на этот раз – я это заранее чувствую – все попытки отвлечься будут тщетными. В этот вечер мне не удастся и заснуть, это ясно, и прелесть книги – новой книги, только из типографии, пахнущей бумагой, краской, запах которой вызывает в памяти морской прибой, паровозы, отъезды, – прелесть книги не отвлечет меня от себя самой…
Так вот, значит, я такая, как есть, без грима! Одна, одна, и, наверное, на всю жизнь. Уже одна! Рановато. Я уже перешагнула через рубеж тридцати лет, но не почувствовала себя при этом несчастной. Ведь лицо, на которое я сейчас смотрю, – мое лицо – ни для кого не представляло бы никакого интереса, не будь живости выражения, напряженности взгляда и той несмелой улыбки, что вот-вот готова осветить его, той улыбки, которую Маринетти называет gaiezza volpina… Бесхитростная лисичка, тебя и курица одолеет! Лисичка безо всяких желаний, которая помнит лишь капкан и клетку… Веселая лисичка, да, но только потому, что в уголках рта притаилась неосознанная улыбка… Лисичка, уставшая от танца, но неспособная сопротивляться звукам музыки.
А ведь я и в самом деле похожа на лисичку. Но ведь красивая, тоненькая лисица – это же не уродливо, верно? Правда, Браг говорит, что я бываю похожа на крысу, когда вдруг выпячиваю губы и прищуриваюсь, чтобы лучше видеть… Но я не обижаюсь.
До чего же я не люблю себя, когда мой рот, как сейчас, искажен гримасой отчаяния, плечи вяло опущены и все мое унылое тело стало каким-то кособоким – отдыхая, я перенесла центр тяжести на одну ногу!.. Волосы мои развились и висят, словно ветви плакучей ивы, – их надо будет долго разглаживать щеткой, прежде чем они снова заблестят, как бобровая шкурка. Под глазами нестертые тени синей подводки, сомнительные следы облупившегося красного лака на ногтях… Наверное, придется мокнуть в ванне не меньше сорока-пятидесяти минут, прежде чем приведу себя в порядок… Уже час ночи… Чего это я, собственно говоря, жду? Очевидно, нужен удар хлыста, резкий, чувствительный удар, чтобы сдвинуть с места заупрямившуюся скотину… Но мне не от кого его ждать. Потому что… Да потому что я здесь совсем одна! И в продолговатом кадре зеркальной рамы прекрасно видно, что я уже привыкла жить одна.
Ради любого пришедшего сюда человека, будь он хоть кто – посыльный из магазина или моя горничная Бландина, я бы тотчас подняла свою бессильно упавшую голову, подтянулась, выпрямив свое скривившееся тело, я бы соединила опущенные руки… Но этой ночью я так безнадежно одна…
Одна! Похоже, я жалуюсь!
– Раз ты живешь одна, – сказал мне как-то Браг, – значит тебе это нравится, ты сама этого хочешь, ведь так?
Конечно, «мне это нравится», я ведь сама этого «хочу». Но вот только… бывают дни, когда одиночество в мои годы – хмельное вино, которое пьянит свободой, в другие дни оно горькая тонизирующая настойка, но, увы, бывают и такие дни, когда оно яд, от которого бьешься головой об стену.
Но сегодня мне хотелось бы ничего не выбирать, а лишь сомневаться и не знать в точности, отчего я вздрагиваю, скользнув в ледяные простыни, – от страха или от наслаждения.
Одна… и уже давно. Потому что у меня появилась эта привычка говорить сама с собой, с огнем в печи, со своим отражением в зеркале… Это мания, которая бывает у отшельников и заключенных. Но ведь я свободна… и если веду внутренние диалоги, то это из склонности к писательству, к тому, чтобы точно формулировать свои мысли и находить им ритмы.
На меня смотрит из глубины зеркала, из таинственной камеры отражений, образ «писательницы, которая плохо кончила». Про меня также говорят, что я «занимаюсь театром», но меня никогда не называют актрисой. Почему? Тут тонкий нюанс, вежливый отказ публики, да и моих друзей тоже, признавать, что я хоть чего-то достигла на том поприще, которое теперь себе избрала… «Писательница, которая плохо кончила» – вот кем я должна для всех остаться, хотя я больше не пишу, не позволяю себе радости, роскоши писать…
Писать! Иметь возможность писать! Это значит подолгу сидеть, склонившись над пустой страницей, о чем-то задумавшись, машинально что-то чертить на полях, водить пером вокруг кляксы, подыскивая замену неточному слову, зачеркивать его сперва одной чертой, потом множеством мелких, превратить его сначала в колючку, затем разукрасить усиками и лапками, чтобы оно потеряло свой облик, свой смысл, стало бы каким-то фантастическим насекомым и в конце концов улетело бы, будто волшебная бабочка.
Писать… Это значит не сводить загипнотизированного взгляда с отражения окна на серебряной чернильнице и, умирая от счастья, записывать холодеющей рукой слова, в то время как лоб и щеки пылают божественным жаром. А еще это значит потерю чувства времени, ленивое валянье на диване, разгул выдумки, после которого чувствуешь себя разбитой, поглупевшей, но вознагражденной за потраченные усилия теми добрыми сокровищами, которые потом медленно перекладываешь на девственный лист бумаги, лежащий в небольшом кругу света от настольной лампы…
Писать! Скорее обнажить в каком-то порыве бешенства всю свою подноготную на таком соблазнительно чистом листе бумаги. Скорее, скорее, но рука не поспевает за мыслью, отказывает, загнанная бесом нетерпенья… А наутро увидеть на исписанном листе вместо золотого цветка, чудом распустившегося в час вдохновения, высохший стебелек с этаким чахлым увядшим бутоном…
Писать! Это радость и страданье праздных людей! Писать!.. Я и теперь еще испытываю время от времени неодолимую потребность, подобную жажде летом, записывать, описывать… Я хватаю ручку, чтобы начать эту гибельную и разочаровывающую игру, чтобы поймать и зафиксировать раздвоенным кончиком стального перышка блистательное, неуловимое, захватывающее определение… Но это лишь короткие приступы старой болезни, невыносимый зуд уже давно зарубцевавшейся раны…
Ведь нужно так много свободного времени, чтобы писать! И к тому же я не Бальзак… Хрупкая сказочка, которую я пытаюсь сочинить, разом рушится, стоит лишь постучать в дверь посыльному из лавки или подмастерью сапожника со счетом на заказанные мною туфли, или позвонить по телефону моему адвокату или театральному импресарио, чтобы пригласить меня в свою контору и договориться о моем выступлении на «званом вечере в одном весьма фешенебельном доме, хозяева которого, увы, не имеют привычки платить высокие гонорары»…
А с тех пор как я живу одна, мне прежде всего надо было суметь выжить, затем развестись и продолжать жить. Все это потребовало невообразимых сил и упорства. Чтобы достичь чего? Нет у меня другой пристани, кроме этой заурядной комнаты, обставленной дешевой мебелью, так сказать, в стиле Людовика XVI, нету другого места, кроме как перед этим зеркалом, в которое нельзя войти, и я упираюсь лбом в лоб своего отражения!..
Завтра воскресенье. Два спектакля утром и вечером в «Ампире-Клиши». Сейчас уже два часа ночи!.. Писательнице, которая плохо кончила, пора спать.
– Да пошевеливайся ты поскорей! О боже!.. Скорей, слышишь!.. Жаден не явилась.
– Как не явилась? Заболела?
– Еще чего! Загуляла!.. Но нам один черт: выходить на двадцать минут раньше!
Мим Браг выскочил из своего закутка, где он гримируется, – страшный, покрытый тоном цвета хаки, – чтобы предупредить меня, и я опрометью кидаюсь в свою гримуборную, в ужасе от мысли, что могу впервые в жизни не быть готовой вовремя.
Жаден не явилась! Я тороплюсь, дрожа от волнения. С нашей публикой шутки плохи, особенно на воскресных утренниках. Если мы хоть на пять минут «оставим их голодными», как говорит наш Режиссер-Укротитель, – его так прозвали, потому что он единственный, кто умеет управляться с этим залом, затянув паузу между номерами, – то не избежать гневных криков; окурки и апельсиновые корки так и полетят на сцену.
Жаден не явилась… Этого следовало ожидать.
Жаден – наша новенькая певичка. Она так недавно выступает на эстраде, что не успела еще вытравить свои каштановые волосы перекисью водорода. Дитя Внешних бульваров, она одним прыжком оказалась на сцене кафешантана и обалдела от того, что стала зарабатывать двести франков в месяц за исполнение песенок. Ей восемнадцать лет. Удача (?) безжалостно стиснула ее в своих объятьях, и она, по-бойцовски упрямо склонив свою голову и вся подавшись вперед, как бы локтями защищается от ударов грубой, обманной судьбы.
Она поет, как поют белошвейки, как поют на улице, не подозревая даже, что можно петь по-другому. Она безжалостно форсирует свое надсадное, хватающее за душу контральто, которое так подходит к ее румяным щекам и надутым губкам девчонки из предместья. Такую, какая она есть, в чересчур длинном платье, купленном в первой попавшейся лавочке, с каштановыми волосами, которые она даже не завивает, с опущенным плечом, будто от тяжести бельевой корзинки, с пушком на верхней губе, белом от грубой пудры, публика ее обожает. Наша директриса обещала ей с будущего сезона крупный шрифт в афише, как второй «звезде» программы, а может, даже и надбавку. На сцене Жаден так и сияет, там ей море по колено. Каждый вечер она узнает кого-нибудь из зрителей на галерке, своих товарищей по детским развлечениям, и, ничтоже сумняшеся, прерывает вдруг свою душещипательную песенку, чтобы весело подмигнуть им, прыснуть от смеха, как школьница, а то и звонко шлепнуть себя по ляжке… Вот ее-то и нет сегодня в программе. Через полчаса они поднимут в зале невообразимый шум и начнут орать «Жаден! Жаден!», стучать деревянными подметками своих башмаков и звенеть кофейными ложечками в чашках.
Того, что Жаден не явится на спектакль, можно было ожидать. Тут же за кулисами пополз слух, что она вовсе не больна. И наш помреж ворчит:
– Да, грипп у нее, как бы не так!.. В койку она упала, вот что! Там ее живо вылечат. Если бы она по-настоящему заболела, то предупредила бы…
Жаден как будто нашла себе обожателя, причем не из этого района. Жить-то надо… Впрочем, она и так жила то с одним, то с другим – короче, со всеми… Увижу ли я когда-нибудь снова ее тоненькую фигурку, всю подавшуюся вперед, с наклоненной по-бойцовски головой, в надвинутой до бровей пилотке – «последний крик моды», – которую она сама себе спроворила? Еще вчера вечером она, приоткрыв дверь, просунула в щель кое-как напудренную мордашку, чтобы похвалиться своим последним произведением – меховой шапочкой из кролика «под песца», чересчур узкой, плотно прижимающей к голове ее маленькие розовые ушки.
– Прямо вылитый Аттила! – сказал Браг очень серьезным тоном.
Длинный коридор, в который входят все двери крошечных гримуборных, гудит, как потревоженный улей. Оказывается, все предчувствовали этот побег и теперь посмеиваются, все, кроме меня… Бути, комик-куплетист, прогуливается перед моей дверью в гриме гориллы, со стаканом молока в руке и витийствует:
– Яснее ясного! Я-то думал, она проторчит здесь еще дней пять-шесть, ну максимум месяц! Представляю себе рожу нашей хозяйки… Но даже после этого горького опыта она и не подумает прибавить артистам, которые тянут на своих плечах всю программу. Запомните, что я вам скажу: Жаден вернется. Эта эскапада – не более чем экскурсия. У нее свой стиль жизни, ее содержателя надолго не хватит, уж поверьте…
Я отворяю дверь, чтобы поговорить с Бути, не прекращая мазать руки белилами.
– Она вам ничего не рассказывала, Бути?
Он пожимает плечами, повернув ко мне лицо в маске рыжей гориллы с обведенными белым глазами:
– С чего бы! Я ведь ей не мать…
Он маленькими глотками потягивает молоко, голубоватое, как раствор крахмала. Бедный милый Бути со своим хроническим энтеритом и неизменной бутылкой молока! Без красно-белого грима его умное, с мягкими чертами лицо выглядит каким-то болезненно-трогательным. У него красивые нежные глаза и отзывчивое сердце бездомной собаки, готовое обожать всякого, кто его приласкает. Его болезнь и тяжелая профессия день ото дня убивают его, питается он только молоком и макаронами без соуса и при этом находит в себе силы петь и плясать негритянские танцы в течение двадцати минут. По окончании номера он всякий раз, вконец измученный, буквально падает за кулисами, не в состоянии спуститься вниз в свою гримуборную… Его хилое тело, словно труп, распростертое на полу, часто преграждает мне путь на выход, и я совершаю над собой усилие, чтобы не наклониться над ним, не приподнять его, не позвать на помощь. Его товарищи и старый машинист сцены, стоя неподалеку, лишь покачивают головами и говорят со значением: «Бути – из тех артистов, кто выкладывается до конца».
– Скорей, скорей, поезд отходит! Они там, в зале, не так уж бесятся из-за отсутствия Жаден. Нам повезло!
Браг подталкивает меня вверх по железной лестнице. От пропыленной жары и резкого цвета прожекторов у меня начинает кружиться голова. Утро пронеслось, словно беспокойный сон, я оглянуться не успела, как пролетела половина дня, остался только нервический озноб и какое-то томление в желудке, которое бывает, когда тебя вдруг резко будят посреди ночи. Через час уже время обедать, а потом придется брать такси, и все начинать сначала… И так я буду жить еще целый месяц! Нынешний спектакль пользуется, можно сказать, успехом, и его надо сохранить до обновления программы.
– Нам здесь хорошо, – говорит Браг. – Сорок дней можно ни о чем не думать!
И он довольно потирает руки.
Ни о чем не думать… Если бы я могла как он. А у меня и эти сорок дней, и весь год, и вся жизнь – чтобы думать… Сколько еще лет мне суждено таскаться со своим «дарованием», которое все в один голос вежливо именуют «интересным», из мюзик-холла в театр, а из театра в казино. Кроме того, у меня отмечают «выразительную мимику», «четкую дикцию» и «безупречную пластику». Это очень мило с их стороны. Это даже больше, чем можно было бы желать. Но… куда это ведет?
Ну вот! Я чувствую, что надвигается полоса мрачного настроения… Я жду его, как чего-то привычного, со спокойным сердцем, заранее зная, что различу все его обычные этапы и еще раз сумею его одолеть. Никто ничего не узнает. Сегодня вечером Браг сверлит меня своим проницательным глазом, но ограничивается банальной фразой:
– Опять витаешь в облаках, да?..
Вернувшись в гримуборную, я смываю с рук смородинную кровь перед зеркалом, в котором я и моя загримированная наперсница меряемся силами, как достойные друг друга противники.
Страдать… Сожалеть… Продлевать бессонницей и всяким бредом самые глубокие часы ночи – всего этого мне не избежать. Я шагаю навстречу этой неизбежности в каком-то раже мрачной веселости, со всем бесстрашием молодого существа, способного еще сопротивляться, видавшего и не такое… Две привычки позволяют мне сдерживать слезы: привычка таить свои мысли и привычка красить ресницы…
– Войдите!
В дверь мою постучали, и я откликнулась машинально, целиком ушедшая в себя.
Это не Браг, не старая костюмерша, а какой-то незнакомец, высокий, худощавый, темноволосый. Он склоняет голову и выпаливает на одном дыхании:
– Мадам, вот уже неделя, как я каждый вечер прихожу в «Ампире», чтобы аплодировать вам. Извините меня за то, что мой визит, быть может… неуместен, но мне казалось, что восхищение вашим талантом… вашей пластичностью отчасти оправдывает такое… некорректное вторжение и что…
Я ничего не отвечаю этому идиоту. Еще вся мокрая, в полурасстегнутом платье, я, тяжело дыша, смываю с рук красную краску и гляжу на него с таким бешенством, что его красивая фраза испускает дух, так и не дойдя до конца…
Дать ему пощечину? Отпечатать на его щеках мою мокрую, недомытую пятерню? Или гневно крикнуть ему в лицо, так резко очерченное, костлявое, перерезанное линией черных усов, слова, которым я обучилась за кулисами и на улице?..
У этого захватчика угольно-черные печальные глаза… Уж не знаю, как он понял мой взгляд и мое молчание, только выражение его лица вдруг изменилось.
– Простите, мадам, я повел себя как болван и грубый человек, но, увы, слишком поздно это заметил. Выставите меня за дверь, я это заслужил. Но только позвольте прежде выразить вам свое искреннее уважение.
И он поклонился, как бы собираясь уйти, но… не ушел. С уличной мужской наглостью выжидает он секунду-другую награду за то, что так повернул разговор, и – бог ты мой, не такая уж я непреклонная! – получает ее:
– В таком случае, мсье, я скажу вам любезно то, что сказала бы, не щадя вас: уходите!
Я с улыбкой, уже добродушно, указываю ему на дверь. Но он не улыбается. Он стоит, упрямо склонив голову, и кисть его опущенной вдоль тела руки сжата в кулак. В этой позе есть что-то почти угрожающее и вместе с тем неуклюжее – у него сейчас нелепый вид дровосека в воскресном костюме. Свет лампы, висящей под потолком, бликует в его черных, разделенных на пробор, гладких, словно покрытых лаком, волосах. Но его глубоко посаженных глаз я не вижу…
Он не улыбается, потому что хочет мной обладать, это ясно.
Он не желает мне добра, этот человек, он желает меня. Ему сейчас не до улыбок, даже двусмысленных. Меня это начинает тяготить, я предпочла бы, чтобы он был весело возбужден и чувствовал себя уверенно в роли мужчины, который хорошо пообедал, а потом долго пялил глаза на сцену из первого ряда партера…
Страстное желание отягощает его, словно тяжелый меч.
– Чего же вы не уходите, мсье?
Он отвечает поспешно, словно я его разбудила:
– Ухожу, ухожу, мадам! Конечно, ухожу. Прошу вас принять мои извинения и…
– …выражение глубокого к вам почтения! – невольно подхватила я.
Ничего смешного здесь не было, но он смеется, наконец смеется, с его лица слетело то упрямое выражение, от которого я терялась…
– Как мило вы мне подсказали, мадам. Я хотел у вас еще спросить…
– Ну уж нет! Немедленно выметайтесь! Я и так проявила непонятное долготерпение и рискую заболеть бронхитом, если тотчас не скину этого платья, в котором мне было так жарко, как трем грузчикам вместе взятым.
Указательным пальцем я толкаю его к выходу, потому что едва я сказала, что должна снять платье, как на его лице снова появилось мрачное, сосредоточенное выражение… Уже затворив за ним дверь и задвинув задвижку, я слышу его приглушенный, молящий голос:
– Мадам, мадам, я только хотел бы знать, любите ли вы цветы и какие?
– Мсье, мсье, оставьте меня в покое! Я ведь не спрашиваю вас, каких поэтов вы любите и предпочитаете ли вы море горам! Уходите!
– Ухожу, мадам! Всего доброго!
Уф!.. Этот долговязый мужлан прервал мой приступ мрака. И за то спасибо.
Вот такие-то победы я и одерживаю последние три года… Господин с одиннадцатого места в партере, господин с четвертого места ложи на авансцене, сутенер с галерки. Записка, еще одна записка, букет цветов, снова записка – и все! Мое молчание их быстро охлаждает, и я должна признаться, что особенно они не упорствуют в своих домогательствах.
Судьба, которая отныне бережет мои силы, как будто сама отводит от меня упрямых обожателей, этих охотников, которые ни перед чем не отступают… Те, кому я нравлюсь, не посылают мне любовных писем. Торопливые, грубые и неуклюжие записки выдают их желания, но не мысли… Исключение составляет лишь один бедный мальчик, который на двенадцати страницах излагал свою болтливую и униженную любовь. Должно быть, он очень молод. Он воображал себя этаким прекрасным принцем, бедняга, и богатым, и всемогущим: «Я пишу вам все это за стойкой у торговца вином, где я завтракаю, и всякий раз, когда я поднимаю голову, я вижу в зеркале свою противную рожу…»
И тем не менее этот поклонник с «противной рожей» о ком-то мечтал в своих воздушных замках и заколдованных лесах.
А вот меня никто не ждет на моем торном пути, который не ведет ни к славе, ни к богатству, ни к любви.
Впрочем, к любви, это я хорошо знаю, вообще не ведет никакой путь. Это она сама кидается вам наперерез. Она навсегда преграждает вам путь, а если почему-либо сходит с него, то путь ваш оказывается перерытым, разрушенным.
То, что осталось от моей жизни, напоминает детскую игру, состоящую из двухсот пятидесяти маленьких, пестрых, неправильной формы кусочков фанеры. Должна ли я терпеливо подбирать эти кусочки, прикладывая их один к другому, чтобы составить в конце концов простенькую картинку: мирный домик, окруженный густым лесом? Нет, нет, кто-то стер все линии этого милого пейзажа. Я не отыщу даже частичку синей крыши, расцвеченной желтым лишайником, ни нетронутого виноградника, ни дремучего леса без птиц.
Восемь лет в браке и три года в разводе – вот что заполнило треть моей жизни.
Мой бывший муж? Да вы все его знаете. Это Адольф Таиланди, художник, прославившийся своими пастельными работами. Вот уже двадцать лет как он пишет одни и те же портреты женщин: на дымно-золотистом фоне, заимствованном у Леви-Дюрмера, стоит декольтированная дама; ее волосы, будто драгоценная вата, этаким нимбом окружают бархатистое лицо. Кожа у висков, на затененной шее, в округлости груди все такая же немыслимо бархатистая, окрашена радужным отливом, подобным голубоватой дымке на темном винограде, к которому так и тянутся губы.
– Ни Потель, ни Шабо не написали бы лучше, – сказал однажды Форэн, любуясь пастелью моего мужа.
Если не считать уменья изобразить эту пресловутую «бархатистость», то у Адольфа Таиланди, как мне кажется, нет таланта. Но я охотно признаю, что его портреты на редкость привлекательны, особенно для тех женщин, которые ему позируют.
Ну, прежде всего, в каждой своей модели он самым решительным образом прозревает блондинку. Даже скудную шевелюру госпожи де Гюимон-Фотрю он расцветил неизвестно откуда взявшимися ало-золотистыми отсветами, дающими рефлексы на ее матовых щеках и крыльях носа, превратив тем самым эту худосочную брюнетку в блудливую златокудрую венецианку.
В свое время Таиланди сделал и мой портрет… Меня невозможно узнать в этой маленькой вакханке с каким-то странно светящимся носом – солнечный блик прикрыл мое лицо, словно перламутровая маска, – и я до сих пор помню, как была удивлена, обнаружив себя яркой блондинкой. Помню также шумный успех, который имела эта пастель и все последовавшие за ней. Это были портреты госпожи де Гюимон-Фотрю, баронессы Авло, госпожи де Шалис, госпожи Робер-Дюран, певицы Жанны Доре, а потом пошли модели менее прославленные, поскольку их имена сохранились в тайне и обозначались инициалами: мадемуазель Ж. Р., мадемуазель С. С., госпожа У., госпожа фон О., госпожа Ф. В.
Это было уже в то время, когда Адольф Таиланди с цинизмом красивого мужчины, который так ему шел, заявлял:
– Моделями мне могут служить только любовницы, а любовницами – модели.
Что до меня, то я все же обнаружила в нем настоящий талант – талант к вранью. Ни одна женщина, ни одна из его женщин не могла так, как я, оценить его исступленную страсть к вранью, восхищаться ею, бояться и проклинать ее. Адольф Таиланди врал одержимо, сладострастно, неутомимо и почти невольно. Для него адюльтер был лишь одной из форм, и вовсе не самой желанной, все того же вранья. Он буквально расцветал во вранье, врал с такой охотой, разнообразием и щедростью, что годы не смогли этого исчерпать. В то время как он, учитывая тысячи мелочей и предосторожностей, искусно плел тончайшее кружево своих тщательно продуманных предательств с изысканным рисунком, сочиненным его коварством, этой основополагающей чертой его характера, он без удержу тратил свой пыл на грубую, совершенно бессмысленную, хамскую ложь, на глупые детские сказочки.
Я встретилась с ним, вышла за него замуж и прожила с ним больше восьми лет… Что я о нем знаю? Что он рисует пастелью и имеет любовниц. А еще я знаю, что ему каждодневно удается являть себя разным людям в разных обличиях: для одного он «работяга», который думает только о своей профессии, для другой – соблазнительный распутник без совести и чести, для третьей – по-отечески заботливый любовник, который придает мимолетной связи острый привкус кровосмесительства, для четвертой – усталый разочарованный стареющий мастер, украшающий свою осень изысканной идиллией. Есть и такая, для которой он всего лишь еще красивый мужчина, начисто лишенный предрассудков, готовый на любую шалость, а еще есть гусыня из хорошей семьи, влюбленная в него без памяти, которую Адольф Таиланди хлещет наотмашь, терзает, отвергает, потом снова приближает к себе со всей литературной жестокостью «художника из светского романа».
Тот же Таиланди безо всякого перехода появляется в не менее традиционной, но куда более старомодной маске «художника», который, чтобы побороть последнее сопротивление семейной дамочки, матери двоих детей, крошит свои мелки, рвет в клочья набросок, проливает настоящие слезы, от которых намокают его усы а-ля Вильгельм II, и, схватив испанскую фетровую шляпу, очертя голову бежит топиться в Сене.
Есть еще и много других Таиланди, которых я так никогда и не узнаю. Впрочем, еще одного Таиланди я знаю, и, быть может, самого страшного: Таиланди – делового человека, ловкого стяжателя, мошенника, циничного и грубого, то неподвижного, то неуловимого, в соответствии с требованиями момента.
Кто же изо всех этих Таиланди настоящий? Откровенно скажу: не знаю. Я думаю, что такового – настоящего – просто нет… Этот бальзаковский гений вранья вдруг в один прекрасный день перестал приводить меня в отчаяние, даже интересовать перестал. Но прежде он был для меня чем-то вроде ужасного Макиавелли. А на самом деле он всего лишь Фреголи, виртуозный лицедей.
Между тем он продолжал жить как жил. Иногда я думаю с тепловатым сочувствием о его второй жене… Торжествует ли она еще, благодушная, влюбленная, то, что называет своей победой надо мной? Нет, теперь она, испуганная и бессильная, начинает узнавать того, за кого вышла замуж.
Господи! Как я была молода и как любила этого человека! И как страдала!.. Это не крик боли, не жалоба, не жажда возмездия, я иногда произношу эти слова тем же тоном, как говорят: «Если бы вы только знали, как тяжело я болела четыре года тому назад». Когда я теперь признаюсь: «Я ревновала его так, что хотела убить и самой умереть», то это вроде того, как старики рассказывают: «В семидесятом году мы ели крыс…» Они это помнят, но от тех ужасных дней осталось лишь одно воспоминание. Они знают, что ели крыс, но не могут оживить в себе ни дрожи отвращения, ни голодного озноба.
После его первых измен, после бунта и смирения молодой любви, которая так упорствовала в своем желании надеяться и жить, я начала страдать, страдать гордо и упрямо, и заниматься литературой.
Ради удовольствия снова найти себе прибежище в недавнем прошлом я написала большой роман из провинциальной жизни «Плющ на стене», безмятежный, плоский и ясный, как озера на моей родине, целомудренный роман о любви и замужестве, довольно простодушный, милый, который имел неожиданный и ничему не соответствующий успех. Во всех иллюстрированных журналах появилась моя фотография, а «Современная жизнь» присудила мне свою ежегодную литературную премию. Так неожиданно мы, Адольф и я, стали «самой интересной парой в Париже», которую все приглашают на обед и демонстрируют знатным иностранцам… «Вы не знаете чету Таиланди? У Рене Таиланди замечательный талант». – «В самом деле! А он?» – «О! Он неотразим!»
Моя вторая книга, «Рядом с любовью», расходилась куда хуже. Между тем, сочиняя ее, я предавалась сладострастию письма, терпеливой борьбе с фразой, которая вдруг становится податливой и распластывается перед тобой, как ручной зверек… А иногда все по-другому – долгое ожидание, засада, и нужное слово поймано… Верно, второй мой роман плохо продавался, но он принес мне – как это говорят? – ах да: «уважение в литературных кругах». Что же до третьей книги – «Лес без птиц», то она сразу же провалилась и так и не вынырнула. Она-то и есть моя любимица, мой «неведомый шедевр»… Ее находят многословной, сбивчивой, растянутой, непонятной… Но и теперь еще, когда я ее открываю, она мне по-прежнему нравится, да и я себе в ней нравлюсь. Непонятно? Для вас – быть может. Но для меня ее теплая темнота высветляется. Для меня то или иное слово мигом оживляет в памяти запахи и цвета прожитых часов, оно звучит, оно полно жизни и таинственно, как раковина, в которой гудит море. И мне кажется, что я меньше любила бы эту книгу, если бы вы ее тоже любили… Можете не волноваться! Второй такой книги я уже не напишу, я просто не смогу.
Теперь у меня другая работа, другие заботы, и главная из них – зарабатывать себе на жизнь, менять на звонкую монету свои движения, танцы, звуки своего голоса… К этому я быстро привыкла и даже вошла во вкус, проявив чисто женскую жадность к деньгам. А то, что я зарабатываю себе на жизнь, – это факт. В минуты доброго расположения я говорю себе и не устаю это радостно повторять: «Я сама зарабатываю себе на жизнь!» Мюзик-холл, где я выступаю как пантомимистка, танцовщица, а при случае – и как актриса, превратил меня в честную, жесткую коммерсантку, которая, себе на удивление, стала считать, вести деловые переговоры и торговаться…
Никто не понимал нашего разрыва. Но кто бы мог понять мое прежнее долготерпенье, мое трусливое жалкое попустительство? Увы! Простить трудно лишь первый раз… Адольф очень скоро убедился, что я принадлежу к лучшей породе истинных самок, к тем, которые, простив в первый раз, готовы, если с ними обходиться умело, терпеть обман и постепенно к нему привыкнуть… О, каким он был умелым учителем! Как ловко сочетал снисходительность с требовательностью. Случалось даже, что он поднимал на меня руку, когда я проявляла излишнюю строптивость, но не думаю, чтобы он это делал охотно. Человек, потерявший самообладание, не бьет так расчетливо, а он бил меня время от времени исключительно для того, чтобы поднять свой авторитет. Во время нашего развода все были склонны обвинять меня одну, чтобы обелить «неотразимого Таиланди», виноватого лишь в том, что он нравится и предает. Я чуть было не отступила, совсем растерялась и едва не вернулась к своей прежней покорности из-за того шума, который поднялся вокруг нас…
– Представляете, он изменяет ей уже восемь лет кряду, а она только спохватилась!..
Меня посещали друзья, пользующиеся большим весом в обществе, и авторитетно заявляли: «Такова жизнь». Приходили и пожилые родственники, чей самый серьезный аргумент звучал так:
– Что делать, детка!..
Что делать? Это я очень хорошо знала. С меня было довольно. Что делать? Лучше умереть, чем дальше влачить эту жалкую жизнь униженной женщины, у которой «есть все, чтобы быть счастливой». Лучше умереть или отведать горечь нищеты перед самоубийством, но только не видеть больше Адольфа Таиланди, того самого Адольфа Таиланди, который так берег интимность супружеских отношений и умел предупредить меня, не повышая голоса, но выпячивая свою страшную челюсть жандармского адъютанта:
– Я завтра начинаю писать портрет госпожи Мотье. И будьте любезны, чтобы не было такой недовольной рожи.
Лучше умереть, пережить самые страшные крушения, чем вдруг заметить неуклюжее движение, когда прячут помятое письмо, или присутствовать при фальшиво-безразличном разговоре по телефону, или перехватить красноречивый взгляд лакея, или слушать, как он бросает мне небрежным тоном:
– Если не ошибаюсь, вы собирались провести два дня у вашей матушки?
Лучше навсегда покинуть этот дом, чем унизиться до того, чтобы весь день гулять с одной из любовниц моего мужа, в то время как он в полной безопасности развлекается с другой. Лучше навсегда покинуть этот дом и умереть, лишь бы не делать больше вида, что ни о чем не подозреваешь, не ждать ночи напролет, лежать не сомкнув глаз в слишком большой пустой кровати, не строить больше планов мести, которые рождаются в темноте и становятся все более и более замысловатыми от гневных ударов отравленного ревностью сердца, но разом исчезают при повороте ключа в замке, когда знакомый голос весело восклицает:
– Как, ты еще не спишь?
С меня было довольно.
Можно привыкнуть к голоду, к зубной боли, к резям в желудке, можно даже привыкнуть к отсутствию любимого существа, но к ревности привыкнуть невозможно. И случилось то, что Адольф Таиланди, который обычно все до мелочи учитывал, не мог предвидеть: в тот день, когда он, чтобы непринужденней расположиться с госпожой Мотье на большом диване в своей мастерской, весьма бесцеремонно выставил меня за дверь моей же квартиры, я домой не вернулась. Я не вернулась ни в этот вечер, ни в следующий, ни потом. И вот тут-то и кончается – вернее, начинается моя история.
Не буду говорить о коротком и печальном периоде моей новой жизни, когда я принимала все с тем же мрачным видом и порицания, и утешения, и советы, и даже поздравления. Я вела себя так, что у моих самых упорных друзей – их было совсем немного, – которые звонили в дверь моей крошечной, снятой не выбирая квартирки, вскоре опустились руки. Навещавшие меня люди давали мне понять, что они бросают вызов общественному мнению, нашему святому, всевластному и гнусному общественному мнению, и я, оскорбленная этим, в приступе ярости разом разорвала все нити, связывающие меня с моим прошлым.
Ну так что же? Одиночество? Да, одиночество, не считая двух-трех друзей. Упрямцы, не отлипавшие от меня, готовые терпеть все мои фокусы. Как нелюбезно я их встречала, но как я их любила! И как боялась, провожая, что они больше не вернутся!..
Одиночество? Да, одиночество. Оно пугало меня, как лекарство, которое могло стать смертельным. А потом я обнаружила, что… я всего-навсего продолжаю жить одна. Я давно к этому привыкла, с самого детства, и лишь первые годы замужества ненадолго прервали эту привычку, а потом с первых же супружеских измен все пошло по-прежнему – я жила стиснув зубы, слез уже не было, и это самое банальное в моей истории. Сколько женщин знают этот уход в себя, эту терпеливую покорность, пришедшую на смену бунту и рыданиям? Я отдаю им должное, а тем самым и возношу себя: только в страдании женщина может преодолеть свою посредственность. Ее выдержка не имеет предела, ее терпение можно испытывать, злоупотреблять им, не боясь, что она умрет, – конечно, при условии, что физический страх или религиозные соображения не позволят ей прибегнуть к спасительному самоубийству.
«Она умирает от горя… Она умерла от горя…» Услышав эти стереотипные фразы, не испытывайте сочувствия, а покачайте головой скептически: женщина не может умереть от горя. Это такое могучее животное, его не так-то легко убить. Вы, наверное, думаете, что горе ее подтачивает? Ничуть не бывало. Родившись немощной, слабой, она обретает благодаря страданию железные нервы, несгибаемую гордость, способность выжидать и таиться – и это придает ей значительность и презрение к тем, кто счастлив. Страдание и притворство, как ежедневная опасная гимнастика, делают ее сильной и гибкой… Ибо она постоянно пребывает во власти соблазна, самого захватывающего, самого сладостного, самого привлекательного, – соблазна отомстить. Случается, что она, слишком слабая либо слишком любящая, убивает… В этом случае она явит миру пример озадачивающей женской выдержки. Она изумит своих судей, утомит их во время нескончаемых заседаний, исчерпает их силы, словно матерая волчица, петляющая, чтобы вконец измотать преследующую ее свору молодых собак… Вы можете не сомневаться, что долгое терпенье и тайные страданья сформировали, закалили, ожесточили эту женщину, о которой все говорят:
– Ну, она из железа!..
Нет, она просто «из женщины», и этим все сказано.
Одиночество… Свобода… Моя веселая и трудная работа пантомимистки и танцовщицы… Радостные и усталые мышцы, новая забота, которая помогает забыть старую, – самой зарабатывать себе на хлеб, на одежду и жилье… Вот какой сразу же стала моя судьба, причем к этому надо еще добавить яростное недоверие и отвращение к той среде, в которой я прежде жила и страдала, дурацкий страх перед всеми мужчинами, да и женщинами тоже… У меня появилась болезненная потребность не знать, что происходит вокруг меня, и общаться с совсем уж примитивными созданиями, которые почти не думают… И еще одна странность, которая появилась у меня очень скоро: я чувствовала себя в безопасности, огражденной от мне подобных, только на сцене – барьер рампы оборонял меня от всех.
Еще одно воскресенье… Пасмурные холодные дни сменились ясными, и мы с собакой, чтобы проветриться, решили погулять часочек, от одиннадцати до полудня, в Булонском лесу… Это животное меня просто разоряет. Не будь ее, я бы поехала в лес на метро, но мне не жалко трех франков на такси, потому что прогулка с ней доставляет мне удовольствие. Ее черная как сажа шерсть, которую я долго расчесываю щеткой и полирую фланелькой, блестит на солнце. Сейчас весь Булонский лес принадлежит моей маленькой Фосетте, и она хозяйничает в нем, вереща по-поросячьи и шелестя сухими листьями…
Как хорош Булонский лес в такое ясное воскресенье! Это наш с Фосеттой лес, наш парк, – ведь мы, городские странницы, совсем не попадаем за город… Фосетта бегает быстрее меня, но зато я хожу быстрее нее, и, когда она играет со мной в «поезд» и не тянет меня за собой на поводке, вывалив язык и сверкая обезумевшими глазами, она с трудом поспевает за мной, сбоит, как лошадь, то и дело переходя с трусящей рысцы на нелепый галоп, и прохожие смеются.
Негустой розоватый туман умеряет яркость солнечных лучей, и на блеклое солнце можно глядеть не щурясь… Над оголенными клумбами поднимаются, дрожа и серебрясь, отдающие грибами испарения земли. Вуалетка прилипла мне к носу, и я вся, разогретая от бега, подхлестнутая холодом, устремленная вперед… Ну что, собственно говоря, во мне изменилось с моих двадцати лет? Таким вот зимним утром в самые мои юные годы разве я чувствовала себя бодрее, гибче и счастливей телом, чем сейчас?
Так думала я, пока носилась по лесу… Когда же пришла домой, усталость вернула меня к действительности – это уже была совсем другая усталость. В двадцать лет я бы безотчетно наслаждалась, погрузившись в полудрему-полумечту, этим мимолетным утомлением. А теперь? Теперь же моя усталость кажется мне горькой, она подобна печали тела.
Фосетта с рождения – настоящая комедиантка и создана для богатой жизни, она испытывает подлинную страсть к подмосткам и на улице так и норовит вскочить в любую шикарную машину… А ведь купила я ее у танцовщика Стефана, и она ни дня не жила у какой-нибудь богатой актрисы. Танцовщик Стефан – мой товарищ. Сейчас он работает в том же заведении, что и я, в «Ампире-Клиши». Этот белокурый галл, которого с каждым годом все больше пожирает туберкулез, не может не замечать, как тают его бицепсы, его розовые бедра, покрытые поблескивающим золотистым пушком, весь его красивый мускулистый торс, которым он с полным основанием гордится. Ему уже пришлось сменить профессиональный бокс на танцы и на фигурное катание на роликах по наклонной сцене. С этим номером он и выступает у нас. К тому же он преподает танцы и выкармливает на продажу карликовых бульдогов. Зимой его мучает кашель. Часто во время представлений он заходит ко мне в гримуборную, долго кашляет, садится и предлагает купить у него «бульдожку, девочку, серой масти, неземной красоты, которая не получила золотой медали только из-за интриг…».
Я иду в подвале по коридору, куда выходят все квадратные гримировальные загоны, как раз в тот момент, когда танцовщик Стефан, закончив свой номер, сбегает вниз по железной лестнице. Широкоплечий, с узкой талией, затянутый в польский зеленый доломан, отороченный искусственным мехом под шиншиллу, в меховой шапочке, лихо сбитой на ухо, этот голубоглазый парень с нарумяненными щеками еще до сих пор привлекает к себе женские взгляды. Но он худеет, медленно, но неуклонно, и его бурные успехи у дам лишь ужесточают его болезнь.
– Привет!
– Привет, Стефан! Публика есть?
– Полным-полно, Какого… они здесь торчат, эти му… когда за городом такая благодать? Слушай, купи у меня породистую сучку. Весит всего шестьсот граммов… Я с трудом выпросил ее у знакомых… Не упускай случая.
– Шестьсот граммов!.. Благодарю тебя, но у меня слишком маленькая квартира.
Он смеется в ответ и не настаивает. Я хорошо знаю этих породистых сучек весом в шестьсот граммов, которых продает Стефан. В каждой – не меньше трех кило. Но это не бесчестность, это коммерция.
Что он будет делать, танцовщик Стефан, когда болезнь изъест его второе легкое, когда он уже не сможет танцевать и спать со своими замужними подругами, которые покупают ему сигары, галстуки и платят за его аперитивы в кафе?.. В какой больнице, в какой богадельне найдет последний приют его красивая опустелая оболочка?.. Ох! Как все это невесело и как невыносимо сознавать, что столько людей в беде!..
– Привет, Бути! Привет, Браг… Слышно что-нибудь о Жаден?
Браг молча пожимает плечами, всецело поглощенный подводкой бровей, для чего он использует темно-лиловый цвет, потому что «так получается более свирепый вид». У него есть особый синий карандаш для нанесения морщин, особая красно-оранжевая краска для внутренней стороны губ, особый охристый тон для лица, особый жидкий кармин для крови, а главное – особые белила для маски Пьеро, секрет которых, уверяет он, «я бы не выдал и родному брату!» Впрочем, он очень ловко управляется со своим гримом, несмотря на свою манию многоцветия, которая является единственной комической чертой этого умного, пожалуй, даже чересчур серьезного мима.
Бути, худой как жердь, в широченном клоунском балахоне, делает мне таинственный знак.
– Я видел ее, нашу малютку Жаден. На бульваре, с каким-то типом. Вот такие перья на шляпе! Вот такая муфта! А морда, и не говорите!.. За сто франков в час!
– Если она и в самом деле получает сто франков за час, то жаловаться ей не приходится, – рассудительно заметил Браг.
– Не спорю, старик, но, поверь, недолго ей гулять на бульваре. Эта девчонка не знает цены деньгам, я давно за ней наблюдаю. Она со своей матерью живет в одном дворе со мной…
Из моего гримировального загона сквозь распахнутую дверь уборной Брага я вижу симпатягу Бути, который вдруг замолчал, так и не закончив фразы. Он поставил запечатанную бутылку с молоком, чтобы его согреть, на трубу отопления, которая проходит на уровне пола через все гримуборные. Густой красно-белый клоунский грим скрывает подлинное выражение его лица. И все же мне кажется, что с того дня, как Жаден исчезла, Бути стал мрачнее обычного.
Чтобы покрыть белым тоном плечи и колени, которые все в синяках, – Браг не очень-то бережет меня, когда швыряет наземь, – и попудрить их, я притворяю свою дверь. Впрочем, я не сомневаюсь, что Бути больше ничего не скажет. Как и все здесь, как и я сама, он никогда не говорит о своей личной жизни. Из-за этого молчания, из-за этой неизменной деликатной стыдливости я не смогла верно оценить своих товарищей, когда начала работать в мюзик-холле. Самые экспансивные и тщеславные говорят о своих успехах и честолюбивых надеждах с непременным пафосом и полным отсутствием юмора. Самые злые позволяют себе поносить на чем свет стоит и заведение, в котором работают, и своих товарищей по сцене. Самые болтливые пересказывают остроты, услышанные ими на подмостках или за кулисами, и только, может быть, один из десяти испытывает потребность сказать: «У меня жена, двое детей, моя мать хворает, моя подружка мучает меня…»
Молчание, которое они хранят по поводу своей личной жизни, – это как бы вежливая форма сказать вам: «Все остальное вас решительно не касается». Едва успев снять грим и надеть платок или шляпу, они расходятся в разные стороны с поспешностью, продиктованной и гордостью, и скрытностью в равной мере. Почти все они удивительно горды и бедны. Даже аккомпаниатора никто в мюзик-холле к себе не приближает. Симпатия, которую я испытываю ко всем моим товарищам по сцене, никому не отдавая предпочтения и никак ее не выражая, возрастала за эти три года по мере того, как я их лучше узнавала.
Артисты кафешантана… Как плохо их знают, как все их незаслуженно чернят, как никто не хочет их понять! Наивные фантазеры, неукротимые честолюбцы, они исполнены нелепой старомодной веры в Искусство. Только они, последние из актерской братии, смеют еще утверждать со священным трепетом в голосе:
– Артист не должен… Артист не может принять… Артист никогда не согласится…
Да, слов нет, они горды, потому что, если у них и срывается с языка: «Ну и гнусная же профессия!» – или: «Вот проклятая жизнь!», я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь прошептал: «Я несчастен…»
Они горды и готовы к тому, чтобы существовать для мира только один час из двадцати четырех часов суток! Ведь несправедливая публика, даже если она им аплодировала, тут же их забывает. Какая-нибудь газета может с нескромной настойчивостью день за днем следить за жизнью мадемуазель Икс из «Комеди Франсез», и ее высказывания по поводу моды, политики, кухни и любви будут еженедельно развлекать миллионы бездельников во всем мире. Но вот вы, бедный милый Бути, такой умный и нежный, – кому придет в голову интересоваться, что вы делаете, о чем думаете, о чем молчите, когда вас поглощает полночная тьма и вы торопливо шагаете по бульвару Рошешуар, такой тощий, чуть ли не прозрачный, в своем долгополом пальто в английском вкусе, купленном на распродаже в «Самаритэне»?
Уж в который раз перемалываю я в мыслях своих все эти невеселые дела. А мои пальцы тем временем делают свою обычную работу: жирный белый тон, жирный розовый, пудра, румяна, коричневые тени, красные, черные… Едва я кончаю гримироваться, как слышу, что острые когти скребут дверь моей уборной. Я тут же ее отворяю, потому что узнаю настойчивую лапу маленького брабантского терьера, который «работает» в первом отделении нашего спектакля.
– Это ты, Нелли?
Она входит уверенная, серьезная, словно секретарша, пользующаяся доверием начальства, и милостиво разрешает погладить свою шерсть на ребрах, все еще вздрагивающую после выступления, в то время как ее зубы, пожелтевшие от возраста, разгрызают сухое печенье. У Нелли рыжая лоснящаяся шерсть, черная обезьянья мордочка и блестящие красивые беличьи глаза.
– Дать еще печеньице, Нелли?
Хорошо воспитанная, она соглашается без улыбки. В коридоре Нелли ожидает ее семья. Она состоит из высокого поджарого господина, молчаливого и непроницаемого, который никогда ни с кем не перекинется словом, и двух светлых колли, хорошо воспитанных и очень похожих на своего хозяина. Откуда взялся этот человек? Какие дороги привели сюда его и этих собак, похожих на трех разорившихся князей? Жест, которым он снимает шляпу и кланяется, изобличают в нем светского человека, так же как и его резко очерченное продолговатое лицо… Мои товарищи, которые все подмечают, за глаза называют его «великим князем».
Он терпеливо ждет в коридоре, пока Нелли справится с крекером. Нет ничего более печального, более достойного и более надменного, нежели этот человек и его три собаки, горделиво принявшие свою судьбу странников.
– Прощай, Нелли!
Я притворяю дверь и прислушиваюсь к удаляющемуся стуку когтей по доскам пола… Увижу ли я ее еще когда-нибудь? Ведь сегодня как раз две недели, как идет наша программа, и, быть может, заканчивается контракт номера «Антоньев и его собаки». Куда они теперь направятся? Где будут блестеть красивые карие глаза Нелли, которые мне как бы говорят: «Да, ты меня гладишь… Да, ты меня любишь… Да, у тебя есть для меня пачка крекеров… Но завтра или там послезавтра мы уедем. Не жди от меня ничего, кроме простой вежливости милой собачки, которая умеет ходить на передних лапах и делать сальто-мортале. Нежность, так же как и отдых, и чувство уверенности в завтрашнем дне, для нас – недоступная роскошь…»
Если небо ясное, то с восьми утра до двух часов дня в окна моей квартирки на первом этаже дома, зажатого, словно скалами, огромными новостройками, попадает солнце. Сперва сверкающий мазок задевает мою кровать, потом он увеличивается, становясь как бы квадратной скатеркой, и тогда перина на моих ногах посылает на потолок теплый розовый отсвет… И я, нежась в постели, жду, чтобы солнце доползло до моего лица и ослепило меня сквозь прикрытые ресницы, и тогда тени прохожих за окном скользят по мне, словно синие крылья. А потом я либо вскакиваю с постели, заряженная энергией утра, чтобы начать лихорадочно обихаживать мою собаку, мыть ей уши и расчесывать жесткой щеткой ее шерсть, чтобы она блестела… Либо пристрастно разглядываю в неподкупном свете дня огорчительные знаки, которые уже запечатлелись на моем лице: сухой муар век, горькие складки, появляющиеся в уголках рта, когда я улыбаюсь, и тройной ряд морщинок вокруг шеи, называемый ожерельем Венеры, который чья-то незримая рука с каждым днем прорезает все глубже и глубже.
Этот придирчивый осмотр и прервал сегодня своим появлением мой партнер Браг – как всегда, оживленный, серьезный и наблюдательный. Я принимаю его безо всяких церемоний, словно у себя в гримуборной, накинув лишь крепоновое кимоно, к тому же разукрашенное в один из дождливых дней отпечатками лап Фосетты в виде четырехлепестковых сероватых цветков… Для Брага мне не надо ни пудрить нос, ни увеличивать синей чертой разрез глаз… Браг глядит на меня только во время репетиций, чтобы сказать: «Не делай этого жеста, это неизящно… Не запрокидывай голову с раскрытым ртом, ты становишься похожей на рыбу… Не моргай глазами, как белая крыса… Не верти задом, ты же не кобыла…»
Пусть не первым шагом, но первым своим движением на сцене я уж, во всяком случае, обязана Брагу, и если я до сих пор исполнена к нему доверия ученицы, то и он не упускает случая напомнить мне, что я всего лишь способная любительница. Иными словами, он всегда проявляет нетерпимость в споре со мной, ему важно настоять на своем. Вот он входит, привычным движением приглаживает волосы на затылке, словно поправляет парик, и, так как его свежевыбритое каталонское лицо выражает заинтересованную серьезность, столь для него характерную, я не могу понять, с доброй ли он пришел вестью или с дурной… Он разглядывает солнечное пятно, как драгоценный предмет, затем поворачивается к окнам и спрашивает:
– Сколько ты платишь за этот первый этаж?
– Я тебе уже говорила: тысячу семьсот.
– И в доме к тому же лифт!.. Шикарное солнце, можно подумать, что мы в Ницце!.. Но я ведь пришел по делу: у нас появилась халтура.
– Когда?
– Когда? Сегодня вечером.
– Ой!
– Что за «ой!»? Ты недовольна?
– Нет-нет! Будем играть нашу пантомимку?
– Никакой пантомимки. Выступление слишком ответственное. Ты будешь танцевать, а я покажу им своего «Пьеро-неврастеника».
Я вскакиваю со стула, всерьез разволновавшись.
– Я не могу танцевать. К тому же я потеряла в Эксе ноты. И девчонка, которая мне аккомпанирует, куда-то переехала… Вот дня через два…
– Это исключено, – невозмутимо отвечает Браг. – У них должна была выступать Бадэ, но она заболела.
– Ну вот, только этого не хватало. Мы что, всякой бочке затычки? Показывай своего Пьеро, если хочешь; я танцевать не буду.
Браг не спеша закуривает и роняет всего два слова:
– Пять сотен.
– На двоих?
– Нет, тебе. И мне столько же.
Пять сотен!.. Четверть моей квартплаты. Браг курит, не глядя на меня, – он знает, что я соглашусь.
– Пять сотен – это, конечно… А в котором часу?
– В полночь, разумеется… Так что поторапливайся, чтобы найти ноты и прочее… Ясно? Ну пока, до вечера… Ах да, ведь Жаден вернулась!..
Я снова отворяю дверь, которую он прикрыл за собой.
– Не может быть! Когда?
– Вчера вечером, ты только ушла… Ну и рожа у нее!.. Впрочем, сама увидишь, ее взяли назад… Тысяча семьсот, говоришь?.. Позавидуешь! И на каждом этаже живут женщины!
Он уходит, как всегда серьезный и оживленный.
Халтура… Выступление в частном доме. Эти три слова ввергают меня в ужас. Я не смею сказать этого Брагу, но себе я в этом признаюсь, поглядев в зеркало, – у меня и вправду похоронный вид, и трусливые мурашки бегут по спине…
Вновь увидеть их!.. Тех, с кем я так резко порвала. Которые некогда звали меня «госпожа Рене», как бы нарочно не желая присвоить мне фамилию моего мужа. Вновь увидеть этих мужчин и этих женщин! Особенно женщин, которые обманывали меня с моим мужем или знали, что я обманута… Прошло время, когда я в каждой женщине видела любовницу Адольфа, нынешнюю или будущую, мужчины же никогда не внушали мне никаких опасений, для этого я была слишком влюбленной женой. Но я сохранила с тех времен дурацкий страх перед гостиными, где я могу встретить свидетелей или соучастников моих бывших страданий…
Предстоящее вечером выступление портит мне обед с моим старым верным и наивным другом Амоном, уже вышедшим из моды художником, который время от времени навещает меня, и мы вместе едим макароны… Мы почти не разговариваем, он сидит, то и дело откидывая на спинку глубокого кресла свою тяжелую голову – голову больного Дон Кихота, – а после обеда мы играем в особую жестокую игру: мучаем друг друга. Он вспоминает Адольфа Таиланди – не для того, чтобы меня огорчить, но чтобы оживить то время, когда он, Амон, был счастлив. А я говорю с ним о его молоденькой злючке-жене, на которой он женился в миг безумия и которая бросила его месяца через четыре после свадьбы, сбежав уж и не помню с кем…
Мы позволяем себе провести в таких печальных беседах несколько часов, после чего чувствуем себя исчерпанными, постаревшими, на лицах наших появляются глубокие складки, рот пересыхает, потому что мы говорим друг другу только то, от чего можно прийти в отчаяние, и, расставаясь, клянемся больше никогда так не терзать друг друга… Однако в следующую субботу мы снова встречаемся у меня за столом, радуемся, что мы опять вместе, но тут же выясняется, что мы неисправимы: Амон вспоминает давнюю сплетню про Адольфа Таиланди, а я в свою очередь, чтобы довести до слез моего лучшего друга, вытаскиваю из ящика любительский снимок, на котором стою рука об руку с молоденькой госпожой Амон, белокурой, агрессивной, прямой, как змея, поднявшаяся для удара… Однако сегодня наш завтрак не клеится. А ведь Амон, оживленный и озябший, принес мне изумительные грозди темного винограда, какие бывают только в декабре, и каждая виноградина цвета сливы, словно маленький бурдючок, полна сладостного прозрачного нектара. Вот только это проклятое предстоящее выступление в частном доме с утра портит мне настроение.
В четверть первого ночи мы с Брагом приезжаем на улицу Булонского леса. Роскошный особняк – как там, наверное, величественно скучают… Импозантный швейцар ведет нас в «гостиную для артистов» и предлагает мне помочь снять пальто, но получает резкий отказ: неужели он думает что я, задрапированная всего лишь несколькими метрами тончайшего газа, скрепленного на плече скарабеем, с четырьмя нитками бус на шее, буду ждать своей очереди развлекать этих господ?
Воспитанный куда лучше меня, швейцар не настаивает и оставляет нас одних. Браг потягивается, глядя на себя в зеркало, – с намеленным лицом и в широченной блузе он кажется бестелесным духом… Он тоже не любит выступать в частных домах. Не то чтобы ему не хватало, как мне, «огней рампы», отделяющих артистов от публики, – он невысоко ставит «клиентов» из частных гостиных и возвращает светским зрителям долю того презрительного равнодушия, которое они проявляют к нам, артистам.
– Подумать только! – восклицает Браг. – Эти люди не в состоянии правильно написать мою фамилию, – и он протягивает мне картонную карточку. – Видишь, они называют меня «Брань» в своей программке!
И в самом деле обидевшись, он исчезает за зеленой портьерой, поджав кроваво-красные губы, потому что другой слуга, не менее импозантный, чем швейцар, очень вежливо пригласил его на выход, тоже исказив его имя.
Через четверть часа настанет мой черед… Я гляжусь в зеркало и нахожу себя уродливой – может, из-за того, что тут нет резкого электрического света, к которому я привыкла в своей гримуборной: он окутывает стены, как бы промывает зеркала, высветляет грим и придает бархатистость лицу… А вдруг место для выступления не покрыто ковром? Хоть бы они раскошелились, как говорит Браг, на какое-нибудь подобие рампы… Этот парик Саломеи сжимает мне виски и усиливает мигрень. Мне зябко…
– Твой черед, старуха! Иди продавать свой талант.
Едва войдя в гостиную, Браг тут же принимается стирать с лица слой белил, исчерченный бороздками струящегося пота. Продолжая говорить, он надевает пальто:
– Все там из высшего общества, это ясно. И сидят тихо. Переговариваются, конечно, вполголоса и громко не смеются… На, возьми два пятьдесят, моя доля за такси… Я ухожу.
– Ты меня не подождешь?
– Нам все равно в разные стороны. Ты в Терн, а я на Монмартр. А кроме того, у меня завтра в девять утра урок… Спокойной ночи, до завтра.
Ну все! Пошла!.. Моя жалкая рахитичная пианисточка уже сидит за инструментом. Чуть дрожащей от волнения рукой я поправляю сине-лиловую легчайшую ткань, которой я как бы спеленута. Пятнадцать метров газа – это и есть мой костюм…
Сквозь тонкую газовую сетку, в которую я поймана, я сперва вообще ничего не вижу Мои чуткие босые ноги касаются жесткого шерстяного ворса настоящего персидского ковра…
Увы, рампы нет…
Короткое музыкальное вступление пробуждает и заставляет встрепенуться голубоватую куколку бабочки, которую я изображаю, музыка расковывает меня. Мало-помалу обволакивающая меня ткань разматывается, наполняется воздухом, взлетает, плавно опускается мне на плечи, и я предстаю почти обнаженной перед сидящими в зале, которые прервали свою бешеную болтовню, чтобы получше меня разглядеть…
Я их вижу, вижу помимо своей воли. Танцуя, изгибаясь, вертясь, я их вижу и узнаю!..
В первом ряду женщина, еще довольно молодая, которая длительное время была любовницей моего бывшего мужа. Она не ждала увидеть меня сегодня, а я давно уже не думала о ней… Ее огромные синие глаза – единственное, что в ней было красивого, – полны недоумения и страха… Не меня она боится, но мое внезапное появление резко верную ее прошлое – она столько страдала из-за Адольфа, готова была все бросить ради него, устраивала бурные сцены с рыданьями и криками, собиралась убить своего мужа и меня, бежать с Адольфом. Но он уже не любил ее, она была ему в тягость. Он заставлял меня проводить с ней целые дни с просьбой – да что я говорю, с просьбой: с приказом! – вернуться не раньше семи вечера. Нельзя себе представить более удручающего времяпрепровождения, чем эти прогулки, – две обманутые женщины, которые друг друга ненавидят. Случалось иногда, что эта несчастная принималась рыдать, и я безжалостно глядела на ее слезы, гордясь тем, что сдерживаю свои…
И вот она – в первом ряду. Стульями заняли все свободное пространство, и она сидит так близко от меня, что я могла бы, будто в насмешку, коснуться рукой ее белокурых волос – она теперь красится, потому что сильно поседела. Она заметно сдала за эти четыре года и глядит на меня с ужасом. Сквозь меня она прозревает свой грех, свое отчаяние, свою любовь, которая, быть может, уже умерла…
Я знаю и сидящую за ней женщину… и еще одну. Они обе приходили ко мне пить чай каждую неделю, когда я была замужем. Возможно, они тоже спали с моим мужем. Впрочем, это не имеет значения… Ни одна из них не подает виду, что мы знакомы, но мне ясно, что они меня узнали, потому что одна изображает рассеянность и тихо, но нарочито оживленно разговаривает со своей соседкой, другая демонстративно подчеркивает свою близорукость, а третья усиленно обмахивается веером и, покачивая головой, безостановочно шепчет:
– Как жарко, как жарко!..
С тех пор как я порвала с этими фальшивыми подругами, они все изменили свои прически… Теперь они причесаны по новой моде – волосы шапкой прикрывают уши и подхвачены лентой или металлическим обручем, что придает этим женщинам вид выздоравливающих больных с немытыми головами… Не видно больше милых затылков – ведь волосы больше не зачесывают кверху, – ни нежных висков, вообще ничего не видно, кроме маленьких мордочек: челюсть, подбородок, рот, нос, – и потому они все стали теперь похожи на каких-то зверюшек… Вдоль стен зала и в глубине, за рядами стульев, – темная линия стоящих мужчин. Они устремлены вперед с тем острым любопытством и ленивой галантностью, которые светский человек испытывает к женщине, по слухам, «деклассированной», которой они прежде почтительно целовали кончики пальцев в ее гостиной, а теперь она, полуголая, танцует перед ними…
Ну хватит! Что-то я сегодня слишком ясно все вижу, и если не возьму себя в руки, то вконец испорчу свой танец… И я танцую, только танцую… Вот прекрасная змея свивается в кольцо на персидском ковре, вот египетский кувшин наклоняется, проливая поток душистых волос, вот собирается и возносится грозовая синяя туча, вот хищный зверь рвется вперед, замирает, настороженно изогнувшись, вот сфинкс цвета белого песка лежит, опершись локтями о пол, и напряженная грудь покоится между лапами. Я беру себя в руки и ничего не упускаю. Танцуй! Танцуй! Да разве эти люди в зале существуют? Нет, реальны только танец, свет, свобода, музыка… Ритмом передать свою мысль, выразить ее в красивых жестах. Одно мое ничем не стесненное движение – разве его недостаточно, чтобы посрамить эти плотные тела, затянутые в жесткие корсеты, оскорбленные модой, которая непременно требует худобы?
Но есть и более увлекательное занятие, нежели их унижать. Я хочу хоть на мгновение их покорить! Еще одно небольшое усилие: уже головы сидящих в зале, тщательно причесанные, украшенные драгоценностями, послушно поворачиваются вслед за мной. Сейчас погаснет в их глазах мстительный пламень, эти очарованные звери покорятся мне и улыбнутся…
Танец окончен, аплодисменты и негромкий шум прерывают возникшее очарование. Я исчезаю, чтобы тут же вернуться на поклоны и одарить всех улыбкой… В самом конце этой большой гостиной я замечаю мужчину, который, жестикулируя, кричит «браво!». Мне знакомы и этот голос, и эта высокая темная фигура.
Да ведь это же как будто тот тип, что приперся ко мне в гримуборную… Долговязый мужлан!.. Все сомнения на этот счет разом рассеиваются, потому что он, потупив глаза, входит в гостиную для артистов, где, кроме меня, находится и моя аккомпаниаторша. Он не один, его сопровождает другой долговязый мужлан, по повадке судя – хозяин дома.
– Здравствуйте, мадам, – приветствует он меня.
– Здравствуйте, мсье…
– Разрешите мне поблагодарить вас за то, что вы согласились принять участие… и выразить вам наше восхищение…
– Да полноте, мсье…
– Я – Анри Дюферейн-Шотель.
– Весьма рада…
– А это мой брат, Максим Дюферейн-Шотель, который жаждет быть вам представлен.
Мой вчерашний Долговязый Мужлан снова кланяется и ухитряется схватить для поцелуя мою руку, которой я придерживаю свой синий газовый шлейф… Он стоит молча и явно чувствует себя куда менее уверенно, нежели накануне в моей гримуборной…
Тем временем Дюферейн-Шотель № 1 смущенно мнет в руках запечатанный конверт.
– Я… Должен ли я передать это господину Саломону, вашему импресарио, или, быть может, непосредственно вам?..
Дюферейн-Шотель № 2, ставший вдруг пунцовым, несмотря на смуглость кожи, метнул на брата гневный взгляд, и в этот момент оба оказались удивительно похожими друг на друга.
Чего же тут смущаться? Я весело прихожу им на помощь:
– Мне, мсье, просто мне! Давайте сюда ваш конверт или лучше суньте его в мои ноты, потому что, признаюсь вам, костюм, в котором я танцую, не имеет карманов!..
Оба хохочут с облегчением, по-мальчишески, а я, отклонив лукавое предложение Дюферейн-Шотеля № 2, который пугает меня хулиганами в районе площади Терн, возвращаюсь домой одна, радостно сжимая в руке купюру в пятьсот франков, и ложусь спать.
Чтобы опустить руку в ящик для записок артистам, висящий на стене у входа в мюзик-холл, где билетеры проверяют билеты, я вынуждена потревожить красивого «кота» в кепке – этакого типичного представителя тех уличных молодцов, которыми кишмя кишит район вокруг «Ампире-Клиши». Хотя благодаря рисункам, карикатурам, театрам и кафешантанам уже давным-давно высмеян внешний облик сутенеров, они по-прежнему остаются верны своим свитерам, цветным сорочкам без воротничков, кепкам, пиджакам, кокетливо обтягивающим ягодицы из-за того, что руки всегда засунуты в карманы, прилипшим к губам погасшим окуркам и домашним туфлям на войлочной подметке, чтобы неслышно ступать… По субботам и воскресеньям эти господа наполовину заполняют наш зал, теснятся на балконе, а кое-кто из них раскошеливается на лишние два франка двадцать пять сантимов, чтобы заранее приобрести билеты у самой рампы. Это наши верные и страстные поклонники. Они вступают в разговоры с артистами, шикают, освистывают, устраивают овации и умеют бросить двусмысленное словечко или выкрикнуть явную непристойность, которые будоражат весь зал.
Бывает, они просто пьянеют от своего успеха, и тогда поднимается невесть что. С одной стороны балкона на другую идет переброска известными шутками на самом что ни на есть площадном жаргоне, потом все начинают орать как полоумные и швырять друг в друга тем, что попадется под руку, и тогда тут же появляется наряд полиции… Артисту, исполняющему в это время свой номер, надлежит скромно выжидать с нейтральным выражением лица окончания этого безумия, иначе все апельсинные корки, скомканные программки и мелочь изменят свое направление и полетят на сцену. Из соображений элементарной безопасности артисту нельзя продолжать петь прерванную песню.
Но это, повторяю, лишь краткие вспышки, перепалки, которые случаются только в субботние и воскресные вечера. Служба порядка очень хорошо поставлена в «Ампире-Клиши», где во всем чувствуется твердая рука госпожи директрисы – Хозяйки!
Энергичная брюнетка, вся в драгоценностях, она восседает в эту пятницу, как и каждый вечер, за конторкой возле билетеров. От ее блестящих шустрых глаз ничто не ускользает, и служители, убирающие зрительный зал, ни за что бы не рискнули оставить невыметенными даже самые темные углы. В этот момент взгляд ее ужасных глаз испепеляет крепко скроенного мужчину, по виду – настоящего бандита, пришедшего, чтобы зарезервировать на субботу свое излюбленное место в центре первого ряда балкона, напротив сцены, одно из тех плетеных кресел, в котором можно расположиться, так сказать, по-жабьи: подавшись вперед, облокотившись о барьер и уперев подбородок в сложенные кисти рук. Хозяйка решительно отказывает ему, но без лишнего шума, с видом истинной укротительницы диких зверей.
– Забирай свои сорок пять су, и чтобы духа твоего здесь не было!
Крепыш, беспомощно уронив руки, стоит перед ней, покачиваясь, как медведь:
– Это почему же, госпожа Барне? Что я такого сделал?
– И ты еще спрашиваешь: «Что я такого сделал?» Думаешь, я не видела тебя в прошлую субботу? Ведь это ты сидел на первом кресле балкона, так или не так?
– Ну сидел…
– И это ты встал во время пантомимы и закричал: «Она показывает только одну сиську, а я заплатил за билет две монеты, по одной за каждую!» Так или не так?
Крепыш, красный как рак, прижимая руку к сердцу, пытается оправдаться:
– Ну я… Но, госпожа Барне, поверьте, я умею себя вести. Ну поверьте, госпожа Барне, я знаю, что так поступать нехорошо!.. Я обещаю, госпожа Барне, что больше я…
Королева «Ампире» безжалостно взмахивает десницей:
– Ты мне не запудривай мозги! Я ведь тебя видела, верно? Этого довольно. Раньше, чем через неделю, билета тебе не будет. Кому говорю, спрячь свои сорок пять су и не появляйся здесь до следующей субботы или воскресенья. А теперь – марш отсюда!
Сцена изгнания крепыша, наказанного на неделю, стоит того, чтобы я потеряла еще несколько минут. Ссутулившись, он выходит, бесшумно ступая своими войлочными подметками, и только на улице его физиономия обретает свое привычное наглое выражение. Но видно, что душа у него ни к чему не лежит, походка его уныла, и на некоторое время нет разницы между этой опасной тварью и ребенком, оставленным без сладкого.
На железной лестнице, ведущей в гримуборные, вместе с теплым воздухом от калорифера, отдающим сырой известкой, углем и почему-то нашатырным спиртом, до меня то внятно, то невнятно доносится пенье Жаден. Этакая маленькая дрянь, она все-таки вернулась к своей публике и снова овладела ею! Стоит только послушать, как громовые волны хохота прокатываются по залу, как захлестывает сцену одобрительный гул ей в поддержку.
Ее теплое, чуть с хрипотцой контральто, уже потускневшее от кутежей, а быть может, и от начала туберкулеза, расплавляет сердца публики самым низменным и безотказным путем. Забреди случайно какой-нибудь знаменитый антрепренер, «весьма дальновидный и тонкого художественного вкуса», в наш вертеп, он тут же воскликнул бы, услышав пение Жаден:
– Я беру ее, создаю ей рекламу, и вы увидите, что я из нее сделаю через три месяца!
Самовлюбленную и озлобленную неудачницу – вот что он из нее сделает… Опыты такого рода обычно не сулят ничего хорошего: где она, наша плохо причесанная Жаден, могла бы ярче блистать, чем здесь?
Вот она уже спускается по лестнице – ей-богу, точно такая же, какою удрала отсюда: чересчур длинное платье, подол которого изодран каблуками ее туфель, пожелтевшая от несущегося из зала табачного дыма косынка а-ля Мария-Антуанетта, кое-как прикрывающая ее юную тонкую шею с торчащими ключицами, приподнятое плечико и дерзкий рот со вздернутой верхней губой, нежный пушок которой превратился от слоя дешевой грубой пудры в некое подобие усиков…
Я испытываю настоящую радость, что снова вижу ее, эту уличную девчонку с вульгарной речью. Она тоже прямо скатывается с последних ступенек лестницы, чтобы кинуться ко мне и схватить мои руки своими горячими лапками: ее многодневный загул нас странным образом как-то сблизил…
Она идет за мной в мою гримуборную, и там я позволяю себе весьма сдержанно выразить ей свое осуждение:
– Я не нахожу слов. Жаден, это просто отвратительно! Разве так можно – бросать своих товарищей!
– Я ездила к матери, – говорит Жаден с самым серьезным видом.
Но в зеркале она видит, что у нее выражение лица лгуньи, и ее разбирает смех: ее детская мордочка становится круглой и собирается в складки, как у ангорских котят.
– Да кто мне поверит!.. Тут наверно, без меня сдохнуть можно было от скуки!
Она так и сияет от наивного тщеславия и в глубине души удивлена, что на время ее отсутствия «Ампире-Клиши» не закрылось…
– А я не изменилась, верно?.. Ой, какие красивые цветы! Разрешите?
И ее цепкие пальцы воровки, когда-то ловко хватавшие апельсины с рыночных лотков, вытаскивают большую темно-красную розу прежде, чем я успеваю распечатать маленький конвертик, приколотый к огромному букету, который ждал меня на гримировальном столике: «МАКСИМ ДЮФЕРЕЙН-ШОТЕЛЬ, в знак глубокого уважения».
Дюферейн-Шотель! Так вот, оказывается, какая фамилия у Долговязого Мужлана. С того вечера, как мы выступали в их особняке, я, ленясь открыть справочник «Весь Париж», в мыслях называла его то Тюро-Данген, то Дюжарден-Бомец, то Дюге-Труин…
– Вот это клевые цветы! – восклицает Жаден, пока я раздеваюсь. – Это от вашего друга?
Я протестую с ненужной искренностью:
– Нет-нет! Это в знак благодарности… за один вечер…
– Как жалко, – говорит Жаден со знанием дела. – Это цветы от человека из хорошего общества. Тот тип, с которым я проваландалась все эти дни, тоже дарил мне такие…
Я не в силах не расхохотаться – Жаден, рассуждающая о качестве «цветов» и «типов», неповторима… Она краснеет под осыпающейся, словно мука, дешевой пудрой и обижается:
– Чего это вы ржете? Небось думаете, я свищу, что это был мужчина из общества? Спросите-ка лучше у машиниста сцены, у Каню, сколько монет я принесла вчера вечером! Вы только-только ушли.
– Сколько?
– Тысячу шестьсот франков, дорогуша! Это не брехня, спросите у Каню, он их видел.
Выражает ли мое лицо изумление? Сомневаюсь…
– А что вы будете с ними делать, Жаден?
Она беспечно вытягивает нити из обтрепанного подола старого сине-белого платья:
– В кубышку не положу, это уж точно! Позвала в кафе всех рабочих сцены. Пятьдесят дала Мириам, чтобы она купила себе новую тряпку, она попросила в долг. А потом и другая подружка, и третья, стали плакаться, что они без гроша… Может, и правда… А, вот и Бути пришел! Привет, Бути!
– А, загульная, явилась! Привет!
Бути, галантно убедившись, что я уже в кимоно, отворяет дверь моей гримуборной и, тряся протянутую Жаден руку, повторяет «привет-привет». Жесты его высокомерны, а голос нежный… Но Жаден тут же забывает о нем и, стоя за моей спиной, продолжает говорить, обращаясь к моему отражению в зеркале:
– Поймите, столько денег мне просто тошно иметь!
– Но… Вы купите себе новые платья… Хотя бы одно, чтобы заменить вот это.
Она откидывает тыльной стороной руки легкие прямые волосы, которые распадаются на пряди.
– Да что вы! Это платье еще вполне послужит до постановки ревю. И что скажут они, увидев, что я бегаю на сторону, чтобы зашибить деньгу, и возвращаюсь сюда в пижонских платьях!..
Она права. Они – это ее знаменитая здешняя публика, требовательная, ревнивая, которой она вроде бы изменила и которая готова ей это простить, но только если она вновь появится точно так же плохо одетой и плохо обутой и будет по-прежнему выглядеть дешевой уличной девчонкой. Короче говоря, она должна быть точь-в-точь такой, какою была до побега, до своего проступка… Помолчав немного, Жаден снова начинает болтать, она явно в своей тарелке, несмотря на мрачное, напряженное молчание Бути:
– Я, знаете, купила себе то, что мне было больше всего нужно: шляпу и муфту с шарфом. Но вы бы видели, какую шляпу! Я вам потом ее покажу… Ну пока! Бути, ты остаешься?.. Учти, Бути, я теперь богатая. Я могу купить тебе все, что захочешь!
– Это слишком мало для меня, спасибо.
Бути ведет себя подчеркнуто холодно, всем своим видом выражая неодобрение. Если бы я сказала вслух, что он любит Жаден, я стала бы всеобщим посмешищем. Поэтому ограничусь тем, что буду так думать.
Бути вскоре уходит, я остаюсь одна с букетом роз, большим, но вполне заурядным букетом, стянутым светло-зеленой лентой… Иного букета и не мог преподнести Долговязый Мужлан, а ведь именно таков мой новый поклонник!
«В знак глубокого уважения»… За последние три года я получила немало таких «знаков», признаюсь в этом со всей откровенностью, но никакого «уважения» я в них не замечала. И все же эти «знаки» почему-то тайно тешат мою еще не утраченную наследственную буржуазность, словно за ними не таится, каким бы «уважением» они ни прикрывались, одно намерение, всегда одно и то же.
В первом ряду партера я, несмотря на свою близорукость, замечаю господина Дюферейн-Шотеля-младшего. Он сидит прямо, словно аршин проглотил, с серьезным выражением лица, а его черные волосы блестят, как шелк цилиндра. Обрадовавшись тому, что я его увидела и узнала, он безотрывно следит за всеми моими движениями на сцене, поворачивая голову на собачий манер, вроде Фосетты, которая вот так глядит на меня, когда я одеваюсь, чтобы уйти из дому.
Идут дни. Ничто не меняется в моей жизни, кроме того, что появился человек, который терпеливо выслеживает меня.
Миновали Рождество и Новый год. Шумное, лихорадочное веселье сотрясало наш кафешантан в рождественскую ночь. Больше половины зрителей были пьяны и все как один орали. С авансцены, где сидели дамы в сверкающих блестками платьях, швыряли на галерку мандарины и двадцатисантимовые сигары. Жаден, которая еще с утра набралась, перепутала текст песни и принялась лихо отплясывать какой-то дикий танец, задирая юбку так, что были видны во всю длину чулки со спущенными петлями, а растрепавшиеся волосы шлепали ее по спине… Это был и вправду очень веселый вечер, а хозяйка нашего заведения с величественным видом восседала в своей ложе и мысленно подсчитывала королевскую выручку, не спуская при этом глаз с бокалов на откидных столиках, привинченных к спинкам кресел…
Браг тоже напился как следует, в нем вдруг взыграла какая-то скабрезная фантазия, он скакал за кулисами, будто маленький черный похотливый козел, а потом в своей гримуборной сымпровизировал монолог человека, мучимого эротическими галлюцинациями. Он потешно отбивался от преследовавших его демонов, выкрикивая: «Ой, нет, хватит!.. Оставь меня!..» – или: «Только не так, только не так!.. Ну ладно уж, один разок!..» – и сопровождая это вздохами и стонами, словно его вконец истерзал сладострастный бес.
Что же до Бути, то он, скорчившийся от желудочных спазм, то и дело прикладывался к бутылке с подогретым голубоватым молоком…
Вместо рождественского ужина я съела прекрасный виноград, выращенный в теплице, который принес мой старый друг Амон. Мы отпраздновали Рождество вдвоем с Фосеттой – она грызла конфеты, присланные Долговязым Мужланом, а я боролась со своего рода ревностью – чувством, похожим на горе ребенка, которого забыли пригласить на елку…
А что бы я, собственно говоря, хотела? Ужинать с Брагом, или с Амоном, или с Дюферейн-Шотелем? Бог ты мой, конечно нет! Так что же? Я не лучше и не хуже других, и бывают минуты, когда мне хочется запретить людям веселиться в то время, как я тоскую…
Мои друзья, настоящие, верные, такие как Амон, – об этом стоит сказать – все неудачники, все живут в печали. Может быть, нас всех связывает что-то вроде «солидарности несчастья»? Нет, я так не думаю.
Мне скорей кажется, что я привлекаю и удерживаю возле себя меланхоликов, людей одиноких, обреченных на отшельническую жизнь либо на бродячую, вроде меня… Людей, похожих друг на друга…
Я переживаю эти пустяковые мысли, возвращаясь после визита к Марго.
Марго – младшая сестра моего бывшего мужа. С детства она мрачно откликается на это забавное уменьшительное имя, которое идет ей как корове седло. Она живет одна, и всем своим обликом – седеющими, коротко стриженными волосами, блузой с русской вышивкой и длинным черным жакетом – удивительно похожа на нигилистку.
Разоренная мужем, угнетенная братом, обобранная своим поверенным в делах и обворованная слугами, она ушла в какую-то мрачную безмятежность, проявляющуюся одновременно в неизбывной доброте и в молчаливом презрении к миру. По укоренившейся издавна привычке ее обкрадывать окружающие продолжают общипывать ее ренту, и она, как правило, не препятствует этому, но иногда ее вдруг охватывает бешенство, и тогда она выбрасывает на улицу свою кухарку из-за какой-нибудь жалкой морковки, из-за обсчета в десять франков.
– Я не против, чтобы меня обворовывали, – кричит Марго, – но пусть это делают хоть элегантно.
Потом она на долгое время вновь замыкается в своем высокомерном презрении к окружающим.
В годы моего замужества я мало знала Марго, которая всегда была холодна, учтива и малословна. Ее сдержанность не поощряла моей откровенности.
Однако в тот день, когда мой разрыв с Адольфом стал уже окончательным, она очень вежливо, без лишних слов, выставила из своего дома моего изумленного мужа и с тех пор больше с ним никогда не виделась. Так я узнала, что в лице Марго приобрела союзницу, друга и поддержку – ведь это она ежемесячно дает мне те триста франков, которые оберегают меня от нищеты.
– Прими их, не упирайся, – сказала мне Марго. – Ты не причинишь мне никакого урона. Это те же десять франков, которые ежедневно выцыганивал у меня Адольф.
Конечно, я не найду у Марго ни утешения, ни той веселой атмосферы, которую мне рекомендовали для исцеления. Но Марго, несомненно, любит меня на свой лад – правда, обескураживающий, выражающий ее отчаяние и порой приводящий в отчаяние и меня, особенно когда она предрекает мне печальный конец.
– Тебе, дочь моя, – сказала она мне сегодня, – здорово повезет, если ты снова не влипнешь в историю с каким-нибудь господином в духе Адольфа. Ты создана, чтобы тебя сожрали, точь-в-точь как я. Ну что я, как дура, проповедую тебе, все равно вернешься на круги своя – сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Ты ведь из тех, для кого одного Адольфа мало, опыт тебя ничему не учит.
– Я не перестаю вам удивляться, Марго, всякий раз все та же обвинительная речь, – ответила я ей со смехом. – «Ты такая, ты сякая, ты из тех, кто… из тех, которые…» Дайте мне сперва согрешить, а уж потом будете на меня сердиться.
Марго кинула на меня один из тех взглядов, которые делают ее такой значительной, – она словно взирает на тебя с какой-то недосягаемой высоты!
– Я не сержусь на тебя, дочь моя. И не буду на тебя сердиться, когда ты согрешишь, как ты это называешь. Но только тебе будет очень трудно не совершить глупости, потому что есть только одна глупость: начать все сначала… Кто-кто, а уж я это знаю… И при этом, – добавила она со странной улыбкой, – я ведь никогда не знала волнений страсти…
– Так что же мне делать, Марго? Что вы осуждаете в моей нынешней жизни? Должна ли я, как вы, отгородить себя от мира из страха пережить еще большее несчастье и, как вы, отдавать свое сердце только гладкошерстным терьерам брабантской породы?
– Нет! Не вздумай этого делать! – воскликнула Марго с детской непосредственностью. – Маленькие брабантские терьеры! Нету более злых тварей! Вот от этой мерзавки, – и она указала на маленькую рыжую собачку, удивительно похожую на бритую белочку, – я не отходила пятнадцать ночей, когда она болела бронхитом. А если я себе разрешаю хоть на час оставить ее одну дома, то она, представь себе, делает вид, что не узнает меня, когда я возвращаюсь, и лает до хрипа, будто я бродяга!.. Ну а помимо этого, дитя мое, как ты поживаешь?
– Спасибо, Марго, очень хорошо.
– Покажи язык… Теперь глаза… Пульс?
Она оттянула мне веки, уверенной рукой, со знанием дела, словно я была брабантской собачкой. Ведь мы с Марго знаем цену здоровью, знаем, как страшно его потерять. Жить одной – с этим еще можно справиться, к этому можно приноровиться, но болеть одной, дрожать в лихорадке, кашлять по ночам, которым нет конца, плестись на подгибающихся ногах к окну, в которое стучит дождь, а потом уже без сил брести до постели, смятой, влажной… И все одна, одна, одна!..
В прошлом году в течение нескольких дней я на себе испытала, как ужасно валяться в постели, метаться в бреду и сквозь затуманенное сознание испытывать мучительный страх умереть вот так, вдали от всех, всеми забытой… С тех пор по примеру Марго я старательно лечусь, не забываю, что у меня есть кишечник, желудок, горло, кожа, слежу за их состоянием с маниакальной пристальностью, как хороший хозяин за своим добром… Сейчас я думаю о странном выражении Марго. Она сказала, что «никогда не знала волнений страсти»… А я?
Страсть… Когда-то очень давно, мне кажется, я думала о ней…
Страсть? Вопросы чувственности… Марго как будто считает, что это важно. Лучшая литература, да и худшая, впрочем, тоже, стараются меня убедить, что, когда говорит чувственность, все другие голоса умолкают. Надо ли этому верить?
Браг как-то сказал мне тоном врача:
– Жить так, как ты живешь, вредно для здоровья. – И добавил, как Марго: – Впрочем, тебе все равно этого не избежать, как и всем остальным, запомни мои слова.
А я не люблю об этом думать. У Брага есть манера все за всех решать и становиться в позу всеведающего… Но слова Брага ничего не значат… Так или иначе, я не люблю об этом думать.
В нашем мюзик-холле я часто присутствую, отнюдь не прикидываясь ханжой, при разговорах, в которых со статистической и анатомической точностью обсуждаются вопросы секса, и выслушиваю их с тем же отчужденно-уважительным интересом, с каким читаю в газете сообщение о жертвах чумы в Азии. Я готова ужасаться, но все же предпочитаю не вполне верить тому, что говорят. Так или иначе, я не люблю думать обо всем этом…
А еще есть человек – Долговязый Мужлан, который ухитряется… как бы это сказать… жить в моей тени, шагать по моим следам с собачьей преданностью…
В гримуборной я нахожу цветы, а Фосетта получает в подарок никелированную мисочку для еды. Дома на моем письменном столе стоят рядком три крошечных зверька: аметистовая кошка, слоник из халцедона и крошечная жаба из бирюзы. Кольцо из нефрита цвета древесной лягушки соединяет стебли роскошных белых лилий, которые мне вручили первого января… Что-то я чересчур уж часто стала встречать на улице Дюферейн-Шотеля, который всякий раз кланяется мне с наигранным изумлением…
Он заставляет меня слишком часто вспоминать, что существует желание – этот властный полубог, этот выпущенный на волю хищник, который бродит вокруг любви, но не подчиняется ей, – заставляет вспоминать, что я одна, здоровая, еще молодая, даже, пожалуй, помолодевшая за время моего затянувшегося духовного выздоровления…
Чувственность? Да, я не лишена ее… Во всяком случае, она у меня была в те времена, когда Адольф Таиланди снисходил до того, что занимался со мной любовью. Чувственность робкая, обыденная, расцветающая от простой ласки, пугающаяся всяких изысков и полной раскрепощенности… Чувственность, которая медленно возгоралась, но и медленно затухала, – одним словом, здоровая чувственность…
Измена и годы страданий усыпили ее. Надолго ли? В дни веселья и бодрого самочувствия я восклицаю: «Навсегда!» – радуясь своей чистоте, тому, что я не такая женщина, как все…
Но бывают и другие дни, когда я все вижу в истинном свете и жестко говорю сама себе: «Будь начеку! Не расслабляйся ни на миг! Все те, кто пытается к тебе приблизиться, таят в себе опасность. Но злейший враг – это ты сама! Не успокаивай себя, повторяя, что ты мертва, опустошена, без плоти: зверь, о котором ты забываешь, спит, он как бы зазимовал в тебе, и этот долгий сон лишь придает ему силу…»
Я стараюсь не вспоминать, какой я была прежде, из страха стать – живой! Я ничего не хочу, ни о чем не сожалею… до грядущего крушения моей доверчивости, до неизбежного кризиса, и я с ужасом предвижу, как снова подкрадется ко мне печаль и обхватит меня своими мягкими сильными руками, поводырь и спутник всех услад…
Вот уже несколько дней, как мы с Брагом начали репетировать новую пантомиму. Там будет лес, пещера, старый троглодит, молодая дриада и фавн в самом расцвете сил.
Фавна изображает Браг, лесную нимфу – я, а что до старого троглодита, то о нем еще думать рано. У него роль эпизодическая, и на нее, говорит Браг, «у меня есть на примете один мой ученик, ему восемнадцать лет, он отлично сыграет доисторического старца!»
С десяти до одиннадцати утра нам разрешили репетировать на сцене мюзик-холла. В это время убранные кулисы и задники обнажают глубину сцены, которая расстилается перед вами во всей своей наготе. Как там печально и тускло, когда я прихожу на репетицию! Я, конечно, без корсета, вместо блузки на мне свитер, а под короткой юбкой – черные сатиновые штаны.
Как я завидую Брагу, что он всегда бывает самим собой – собранный, подтянутый, волевой. Я вяло борюсь с холодом, скованностью тела и с отвращением вдыхаю спертый воздух непроветриваемого зала с его запахами вчерашнего пота и кислого пунша. Пианист разбирается в нотах. Я никак не могу разъять сцепленные пальцы, движения мои угловаты, плечи зябко вздернуты, я чувствую себя бездарной, неуклюжей, потерянной…
Браг, привыкший к моей уверенной неподвижности, знает секрет, как меня расковать. Он безостановочно одергивает меня, скачет вокруг, словно пес, иногда выкрикивает поощрительные слова, громкие междометия, которые меня подстегивают…
Из зала на сцену несутся клубы пыли – уборщики выметают вместе с прилипшей к коврам уличной грязью все, что осталось на полу со вчерашнего вечера: скомканные бумажки, вишневые косточки, окурки, пепел…
За нами – ведь нам отдана не вся сцена, а лишь незначительная ее часть шириной не больше двух метров – группа акробатов работает на толстом ковре. Эти красивые розовокожие белокурые немцы молчаливы и упорны. На них омерзительные репетиционные трико, и в паузах между номерами, когда они отдыхают, их забавы тоже похожи на акробатические трюки. Двое, например, пытаются с каким-то странным, сонным смехом удержать равновесие в позе, в которой удержать его совершенно немыслимо… Впрочем, не исключено, что через месяц они совершат это чудо. Их номер кончается тем, что акробаты с серьезными лицами выстраивают пирамиду, которую венчает самый молоденький из них, мальчуган с личиком девочки и длинными золотистыми локонами. Его подкидывают вверх и ловят – кто на ладони, кто на стопу. Со стороны кажется, что он просто летает, и локоны этого воздушного существа то развеваются по горизонтали, то вздымаются вверх и трепещут, как пламя, над его головой, когда он падает вниз, оттянув носочки и прижав руки к телу.
– Ритм! Держи ритм! – кричит Браг. – Опять не сделала как надо! Ну и репетиция, все мимо денег!.. Неужели так трудно сосредоточиться на том, что делаешь?
Надо признаться, что и в самом деле это нелегко. Над нами на трех трапециях сейчас летают гимнасты, издавая резкие крики, словно ласточки… Сверкают никелированные трапеции, скрипят наканифоленные ладони о полированные перекладины… Как щедро тратят они свою элегантную пружинистую силу! С каким неизменным презрением относятся к опасности… В конце концов это вдохновляет меня, возбуждает, заражает… Но только я начинаю двигаться как надо – красоту каждого завершенного движения я ощущаю словно сияние драгоценной диадемы в своих волосах, только начинаю точно передавать пластические выражения испуга или желания, нас прогоняют со сцены… Обретя форму слишком поздно, я трачу остаток неизрасходованной энергии на то, чтобы погулять с Фосеттой, которую любая репетиция приводит в тихое бешенство, и поэтому, едва оказавшись на улице, она кидается на огромных псов. Мы идем домой пешком, и она, как гениальный мим, терроризирует всех встречных собак, искажая свою мордочку японского дракона в страшных гримасах, тараща глаза и задирая верхнюю губу, при этом она обнажает бледно-розовые десны и белые клыки, торчащие косо, словно доски расшатанного ветром забора.
Выросшая за кулисами мюзик-холла, она знает его лучше, чем я, уверенно семенит по темным коридорам подвала, скатывается вниз по лестницам, находит дорогу по привычным запахам мыльной воды, рисовой пудры и нашатырного спирта… Ее мускулистое тело привыкло к поглаживанию покрытых белилами рук. Она милостиво сгрызает сахар, который статисты собирают для нее с блюдечек в нижнем кафе. Капризная, она иногда требует, чтобы я взяла ее вечером с собой на спектакль, а в другие дни, свернувшись калачиком в своей корзинке, глядит, как я ухожу, с презреньем бездельной старухи, для которой нет важней дела, чем в покое заняться пищеварением.
– Сегодня суббота, Фосетта, побежали, не то Амон придет раньше нас!
Мы бежали как безумные, вместо того чтобы нанять фиакр, потому что воздух сегодня утром очень мягкий и напоен уже предощущением весны… И столкнулись с Амоном как раз в тот момент, когда он подошел к моему светлому, словно обмазанному сливочным маслом, дому. Но на этот раз Амон был не один: он стоял на тротуаре и разговаривал с Дюферейн-Шотелем-младшим по имени Максим, прозванным Долговязым Мужланом…
– Как! Снова вы?!
И, не дав ему времени опомниться, я строго спрашиваю Амона:
– Вы знакомы с господином Дюферейн-Шотелем?
– Конечно, – спокойно отвечает Амон. – Вы тоже, как я вижу. Но вот я знал его, когда он был еще совсем маленьким. У меня до сих пор хранится фотография мальчика с белой повязкой на руке и надписью: «В память о первом причастии Максима Дюферейн-Шотеля, 1 мая 18…»
– Правда! – воскликнул Долговязый Мужлан. – Это мама вам ее послала. Она находила, что я на ней очень красив.
Я не смеюсь вместе с ними. Я недовольна тем, что они знакомы. Я чувствую себя неуютно в ярком полуденном свете, с растрепанными волосами, кое-как забранными под меховую шапку, с блестящим носом, явно требующим пудры, с пересохшим от жажды ртом…
Я пытаюсь прикрыть складками юбки свои репетиционные башмачки со шнуровкой, сильно разношенные, – сквозь их ободранное шевро проглядывает синеватая мездра, но они хорошо стягивают щиколотку и их стертая подметка стала гибкой, как у балеток… Тем более что Долговязый Мужлан пялит на меня глаза, словно впервые увидел. Я перебарываю внезапно нахлынувшее глупое желание разреветься и спрашиваю его зло, будто собираюсь укусить:
– В чем дело? Что, у меня нос запачкан?
Он не торопится с ответом.
– Нет… Как странно, когда видишь вас только вечером, никогда не подумаешь, что у вас серые глаза, – из зала они кажутся карими.
– Я знаю. Мне это уже говорили. Послушайте, Амон, наш омлет остынет. Прощайте, мсье.
Впрочем, я его тоже никогда не видела при свете дня. Его глубоко сидящие глаза – не черные, как я полагала, а коричневого цвета с рыжеватым отливом, как у пастушьих собак…
Они бесконечно долго трясли друг другу руки. А потом Фосетта, эта продажная сучка, стала кокетничать с мсье, растянув в улыбке свою людоедскую пасть до ушей. А тут еще этот Долговязый Мужлан, как только услышал про омлет, с мольбой поглядел на меня, словно нищий, почуявший запах жаркого. Неужто он ждет, чтобы я его пригласила? Нет уж!..
Я сержусь на Амона, хоть это и несправедливо. Я молча наспех мою руки и физиономию перед тем, как присоединиться к моему старому другу в маленькой гостиной, которая служит мне кабинетом и где Бландина накрывает на стол. Я ведь давно уже упразднила в своей квартире ту унылую и бесполезную комнату, которую называют столовой и где люди проводят не более одного часа в сутки. К тому же Бландина живет у меня, а снимать для нее комнату было бы мне не по карману.
– Вот новости! Вы, оказывается, знакомы с Максимом! – восклицает Амон, разворачивая салфетку.
Так я и знала!
– Я? Знакома? Да я его совсем не знаю! Просто выступала в доме его брата и там его видела. Вот и все.
При этом я не упоминаю – почему? – о нашей первой встрече, о том, как Долговязый Мужлан, взволнованный, ворвался ко мне в гримуборную…
– А он вас знает. И восхищен вами. Мне даже кажется, что он влюблен.
О проницательный Амон! Я гляжу на него с насмешливой снисходительностью, которую вызывает у женщин мужская наивность.
– Он знает, что вы любите розы и фисташки в шоколаде. Он заказал ошейник для Фосетты.
Я вспыхиваю:
– Он, видите ли, заказал ошейник для Фосетты!.. Но, в конце концов, меня это не касается, – добавляю я со смехом. – У Фосетты нет никаких моральных устоев, она, не сомневаюсь, примет этот подарок, она на это способна.
– Мы, естественно, говорили о вас… Я думал, что вы большие друзья…
– О, вы бы об этом знали, Амон.
Мой старый друг опускает глаза, польщенный… Ведь в дружбе тоже есть ревность.
– Он очень славный малый, уверяю вас.
– Кто?
– Максим. Я познакомился с его матерью в… в общем, лет тридцать тому назад, нет, пожалуй, тридцать пять…
Этого еще не хватало! Теперь я должна выслушивать историю Дюферейн-Шотелей, матери и сына… Рано овдовев, она сама стала вести все дела семьи… Лесопилки в Арденнах… Гектары леса… Максим – младший сын, немного ленивый, но мать его балует… Куда умней, чем кажется. Ему тридцать три с половиной… Вот как! Мой ровесник.
Амон наклоняется ко мне через маленький столик и разглядывает меня с вниманием художника-миниатюриста:
– Вам в самом деле тридцать три, Рене?
– Никому не рассказывайте. Может, не догадаются.
– Да никогда…
– О, я знаю, что со сцены…
– И в жизни тоже.
Амон ограничивается этим комплиментом и возвращается к истории семьи Дюферейн-Шотелей. Я медленно ем виноград. Я недовольна. Этот Долговязый Мужлан все-таки умудрился проникнуть в мою жизнь, хоть я ему это не разрешала. В этот час мы с Амоном должны были, как обычно, ворошить свои дурные воспоминания, расцветающие еженедельно от горького аромата наших дымящихся чашек чая…
Бедный Амон! Ведь это ради меня он изменил своей печальной, но дорогой ему привычке. Я знаю, что мое одиночество его пугает. Если бы он посмел, он сказал бы мне, по-отцовски желая меня пристроить: «Вот, дорогая, тот любовник, который вам нужен! Молод, здоров, в карты не играет, не пьет и денег достаточно… Благодарить будете!»
Еще четыре дня, и я расстанусь с «Ампире-Клиши».
Всякий раз, когда заканчивается длительный срок моих выступлений в каком-нибудь мюзик-холле, я испытываю в последние дни странное чувство скорого освобождения, к которому я вовсе не стремлюсь. Конечно, прекрасно, что я стану свободной и смогу проводить вечера дома, но все же я этому почему-то не радуюсь, и мое восклицание «Наконец-то!» звучит не совсем искренне.
Однако на этот раз мне кажется, что я и в самом деле рада наступающим каникулам, и, сидя в гримуборной Брага, я рассказываю своему партнеру, чем я их заполню, хотя знаю, что ему на это наплевать.
– Прежде всего я закажу новые чехлы для всех диванных подушек, потом передвину диван в самый угол комнаты, а над ним на стене повешу бра.
– Отлично, – серьезно отвечает Браг, – прямо как в публичном доме.
– Дурак!.. У меня столько дел накопилось. Я забыла, когда занималась своей квартирой.
– Конечно, – все тем же серьезным тоном поддакивает Браг. – А для кого ты все это собираешься делать?
– Как для кого? Для себя!
Браг отворачивается от зеркала и глядит на меня: у него подведен только правый глаз, и кажется, что ему его подбили.
– Для себя? Для себя одной?.. Извини, но, по мне, это просто… глупость! А кроме того, неужели ты полагаешь, что я допущу простой нашей пантомимы? В ближайшее же время тебе придется отправиться в какой-нибудь перворазрядный зал в провинции или за границу… К слову сказать, наш импресарио просил передать тебе, чтобы ты зашла к нему.
– Как? Уже?
Браг с безапелляционным видом пожимает плечами:
– Спокойно! Я наизусть знаю эти ваши «уже». А если бы я сказал, что работы нет, ты бы пищала, как комар: «Когда мы уедем? Когда мы уедем?» Все вы, бабы, одинаковы.
– Это точно, – подтвердил с порога печальный голос.
Это Бути. Он за этот месяц еще похудел и с каждым выступлением выкладывается все больше и больше. Я поглядываю на него как бы невзначай, чтобы его не ранить. Но что можно разглядеть под этой красной маской с обведенными белым глазами?.. Мы молчим и вслушиваемся в голос Жаден, доносящийся оттуда, сверху, со сцены:
- Ты говоришь: «Марго, найди укромный уголок!»
- Ты говоришь: «Хочу воткнуть… в петлицу свой цветок».
- О-ля-ля-ля, о-ля-ля-ля, как закачалась земля!..
Композитор вальса «Ландыш», опытный профессионал, сделал весьма двусмысленную цезуру во второй строке.
– Итак, еще четыре дня повтыкает она ландыш, и все, – вдруг говорит комик, поглядев в потолок.
– Да, еще четыре дня… А мне тут нравилось. Спокойно…
– Ну, знаешь… Что до спокойствия… – возражает Бути, – есть и более спокойные места. Вы-то легко найдете себе что-нибудь получше. Не хочу сказать ничего дурного о публике, но все-таки здесь полно всякого сброда. Я знаю, – ответил он на мой жест, что мне, мол, все это безразлично, – везде можно чувствовать себя на месте, но все же… Вы только послушайте, как они орут там, наверху. Неужели вы думаете, что женщина – я хочу сказать, молодая женщина, у которой нет никаких представлений о жизни, которая любит веселье и кутежи, – может здесь набраться чего-нибудь путного… Чокнутая, заводная, ну такая, как Жаден, например…
Бедный Бути. Страдания любви пробуждают в нем вдруг аристократизм и презрение к этой публике, которая так хорошо принимает нас, аристократов. Он ищет для Жаден извинения и находит его, сам придумывает теорию влияния среды, в которую я не верю.
Русские танцоры уже уехали. Антоньев, «великий князь», со своими собаками – тоже. Куда? Неизвестно. Никто из нас даже не поинтересовался этим. Их место заняли другие номера, приглашенные кто на неделю, кто на четыре дня. Потому что готовится новое ревю. Я встречаю на сцене и в коридорах незнакомые лица, обмениваюсь полуулыбками или вместо приветствия просто поднимаю и опускаю брови.
Из старой программы остались только мы. Жаден, которая получит – о боже! – роль в новом ревю, и Бути. Мы грустно разговариваем по вечерам, как ветераны «Ампире-Клиши», которых забыли тут при передислокации полка новобранцев.
Где и когда я повстречаюсь с теми, кого здесь знала? В Париже, в Лионе, в Вене или в Берлине? Быть может, никогда, быть может, нигде. Мы встречаемся на пять минут в конторе господина Саломона, нашего импресарио. Крепкие актерские рукопожатия, чрезмерно громкие голоса. Только успеваешь понять, что мы еще существуем, обменяться друг с другом неизбежным «Как дела?» и узнать, что либо «порядок», либо «что-то пока не вытанцовывается».
Что-то пока не вытанцовывается… За этой неопределенной фразой мои бродячие товарищи скрывают жизненные крушения, отсутствие работы, денежные затруднения, а подчас и нищету… Они никогда не признаются в своем поражении, поддерживаемые героической гордостью, за которую я их так люблю…
Кое-кто из них, уже потеряв всякую надежду, вдруг получает какую-нибудь крошечную роль в настоящем театре, но, странное дело, они вовсе не хвалятся этим. Никому не известные, они терпеливо выжидают, пока им снова не улыбнется удача и они не получат долгожданного ангажемента в мюзик-холле, выжидают того благословенного часа, когда они снова наденут юбку с блестками или фрак, пахнущий бензином, и в дрожащем свете прожекторов наконец-то выступят в своем репертуаре!
– Нет, что-то не вытанцовывается, – говорит мне один из таких бедолаг и добавляет: – Подался в кино.
Кинематограф, который поначалу был форменным бедствием для безвестных артистов мюзик-холла, теперь их спасает. Они лишь приноравливаются к этой безличной деятельности, не приносящей им ни славы, ни удовольствия, они его не любят, к тому же кинематограф заставляет их изменять своим привычкам, путает их распорядок дня, часы еды, отдыха, работы. Во времена кризисов сотни эстрадных артистов спасает кино, но лишь единицы остаются там навсегда. В кино и без них хватает и статистов, и звезд.
– Что-то не вытанцовывается… Нет, не вытанцовывается…
Эту фразу бросают, как бы не придавая ей значения, но вместе с тем серьезно, однако излишне не педалируя, не жалуясь, а небрежно помахивая шляпой или потертыми перчатками. Безработный эстрадник всегда хорохорится, на нем пальто в талию, с преувеличенно широкими полами – по предпоследней моде, ибо главное, без чего он никак не может обойтись, – это вовсе не приличный костюм, а заметное пальто, которое все прикрывает, – и поношенный жилет, и видавший виды пиджак, и брюки, пожелтевшие на коленках, – броское пальто, шикарное, которое обязано производить впечатление и на директора, и на импресарио, такое, в каком легко произнести с лихостью, словно рантье, знаменитую фразу «что-то пока не вытанцовывается».
Где мы окажемся через месяц?.. Вечером Бути потерянно бродит по коридору, покашливает, пока я наконец не приоткрываю дверь и не приглашаю его посидеть несколько минут у меня. Он осторожно усаживается, откинув свою тощую, как у худой собаки, спину на расшатанный, белый, облупившийся стул и поджимает ноги, чтобы не мешать мне. Вскоре появляется и Браг: он примащивается, как бродяга, на трубе парового отопления, чтобы зад был в тепле. Я стою между ними, заканчивая свой туалет, и при каждом движении обмахиваю их подолом своей красной с желтой вышивкой юбки… Нам не хочется разговаривать, но мы все же болтаем, преодолевая потребность молчать, прижаться друг к другу и дать волю чувствам…
Из нас троих Браг наиболее активен, он сохраняет любопытство, ясность ума и коммерческий интерес к будущему. Что до меня, то будущее здесь ли, там ли… Мой поздно пробудившийся вкус – благоприобретенный, несколько искусственный – к перемене мест, к поездам прекрасно уживается с врожденным спокойным фатализмом мещанки. Отныне я принадлежу богеме, и гастроли влекут меня из города в город. Да, я стала актеркой, но актеркой, любящей порядок, которая сама чинит свои аккуратные тряпки и не расстается с замшевой сумочкой, где в одном отделении лежат медяки, в другом – серебро, а в потайном кармашке тщательно упрятаны золотые монеты…
Ну и пусть я странница – я покорно готова ходить по одному и тому же кругу, как и эти мои товарищи, мои братья… Всякий раз отъезд меня и печалит, и опьяняет, это правда, и что-то от меня остается там, где я побывала, – новые страны, небо, ясное или покрытое тучами, жемчужное море под дождем хранят частицы меня, которые прикипают ко всему так страстно, что мне кажется, будто я оставляю на своем пути тысячи маленьких фантомов, моих отражений, – их подхватывают волны, убаюкивает листва деревьев, обволакивают облака… Но один маленький призрачек, тот, что больше всех похож на меня, не остается ли он дома, не сидит ли в углу у камина, тихий и мечтательный, склоненный над книжкой, которую забывает читать?..
Часть вторая
Какой прелестный, уютный уголок! И как трудно представить себе вас в мюзик-холле, когда видишь здесь, между этой лампой под розовым абажуром и вазой с гвоздиками!
Вот что сказал уходя мой поклонник в тот день, когда он впервые пришел ко мне на обед вместе с Амоном, этим старым сводником…
Итак, у меня появился поклонник. Иначе чем этим вышедшим из моды словом я его назвать не могу. Он не мой любовник, не человек, с которым я флиртую, не мой сутенер… Он мой поклонник.
«Прелестный, уютный уголок»… В тот вечер я горько рассмеялась ему вслед… Неяркая лампа, хрустальная ваза, в которой мерцает вода, кресло, придвинутое к столу, просиженный диван, вмятины в котором умело скрыты ловко разбросанными подушками, – и случайный гость, окинув все поверхностным взглядом, ослеплен, он воображает, что в тускло-зеленых стенах женщина высшего порядка ведет свою уединенную жизнь, отдавая все свободное время книгам и раздумьям… Но ведь он не заметил пустой запыленной чернильницы, давно высохшего пера, неразрезанной книжки, лежащей на пустой коробке из-под писчей бумаги…
Сухая ветка остролистника, съежившаяся, словно вытащенная из пламени, засунута в глиняный горшок… Небольшая пастель – эскиз Адольфа Таиланди – в рамке с треснутым стеклом, которое давно уже надо бы заменить… Небрежно, наспех, на один вечер сколотое булавкой подобие абажура из какого-то обрывка бумаги до сих пор прикрывает электрическую лампочку над камином. Тяжелая пачка фотоснимков, наклеенных на серые паспарту, сцены нашей пантомимы «Превосходство» – пятьсот штук, – лежит на резной шкатулке из слоновой кости XV века, рискуя ее проломить.
От всей обстановки веет безразличием, запущенностью, так и слышится вопрос «А зачем?», словно ожидается скорый отъезд… Уютно? Да какой уют может возникнуть вокруг лампы с выгоревшим абажуром? Я рассмеялась и устало вздохнула после ухода моих двух гостей. И ночь тянулась бесконечно, меня мучило какое-то смутное чувство стыда, пробужденного неумеренным восхищением Долговязого Мужлана. Его наивный восторг увлеченного мужчины открыл мне глаза на самое себя, как случайно брошенный взгляд в стекло витрины на углу улицы или в зеркало в подъезде вдруг обнаруживает огорчительные изменения твоего лица и фигуры…
Потом были и другие вечера, которые приводили ко мне Амона с моим поклонником или поклонника без Амона… Мой старый друг добросовестно изменяет своей, как он называет, грязной профессии. То он опекает с непринужденностью бывшего светского остроумца своего протеже, одиночные визиты которого, искренне признаюсь, были бы мне в тягость, то исчезает, но ненадолго, заставляя себя ждать, однако ровно столько, сколько надо, тратя на меня свою уже несколько заржавевшую дипломатию бывшего завсегдатая художественных салонов…
К их приходу я не наряжаюсь, остаюсь в каждодневной блузке с застроченными складками и в темной прямой юбке. Я не «делаю себе лица», не крашу туб, плотно сжатых в гримасе усталости, не подвожу глаз, которые от этого кажутся погасшими, – упорству моего поклонника я противопоставляю вялый облик девицы, которую хотят насильно выдать замуж…
Пожалуй, я стала лишь следить, причем скорее для себя, чем для них, за обманчиво-обжитым видом своего интерьера, в котором я сама так мало нахожусь.
Бландина наконец соблаговолила вытереть пыль в укромных уголках моего кабинета-гостиной, а мягкие подушки в кресле у стола хранят следы моего отдыха.
У меня есть поклонник. Почему именно он, а не кто-то другой? Понятия не имею. С удивлением гляжу я на этого человека, который ухитрился проникнуть в мой дом, черт возьми! Он так этого добивался. Он не упускал ни одного подходящего случая, и Амон ему в этом помогал. Однажды, когда я была одна дома, я открыла дверь, услышав робкий звонок: как можно было не впустить этого человека, который смущенно стоял рядом с Амоном, неуклюже держал в руках розы и умоляюще глядел на меня? Так он и ухитрился проникнуть в мой дом. Видно, этого было не избежать…
Всякий раз, когда он приходит, я разглядываю его лицо так, будто вижу его впервые. От носа к уголкам рта у него уже пролегли глубокие складки, которые скрываются в усах. У него красные губы, темно-красные, какие бывают у очень смуглых брюнетов. Его волосы, брови, ресницы – все это черное как смоль, как у дьявола. Понадобилось яркое солнце, чтобы я в один прекрасный день увидела, что, несмотря на всю эту черноту, глаза у моего поклонника серые, темно-серые с рыжими искрами.
Когда он стоит, можно и вправду подумать, что он долговязый мужлан, так он несгибаемо прям, так неестественно держится, худой как скелет. Но когда он сидит или полулежит на диване, он словно обретает свободу и вдруг становится как бы другим человеком, ленивым, раскованным, с гармоничными жестами и беспечно откинутой на подушки дивана головой…
Когда я знаю, что он меня не видит, я исподтишка наблюдаю за ним – меня несколько смущает сознание того, что я ведь его совсем не знаю, что его пребывание в моем доме выглядит так же нелепо, как пианино на кухне.
Необъяснимо, почему он, влюбленный в меня, не встревожен тем, что так мало меня знает. Видимо, он просто об этом не думает и занят лишь тем, чтобы успокоить меня и затем покорить. Он очень быстро научился – держу пари, по совету Амона – скрывать от меня свое желание, говоря со мной, смягчать и взгляд, и голос, но если он, со звериной хитростью, делает вид, что забыл, чего он, собственно, от меня хочет, он не предпринимает решительно никакой попытки узнать меня, расспросить, угадать мою сущность, и я замечаю, что он куда внимательнее следит за игрой света на моих волосах, чем вслушивается в мои слова…
Как все это странно!.. Вот он сидит подле меня, тот же луч солнца касается его щеки и моей, и если его ноздря окрашивается при этом в карминный цвет, то моя – в ярко-коралловый… Он как бы отсутствует, он в тысяче миль отсюда. Меня так и подмывает встать и сказать: «Почему вы здесь? Уходите!» Но я почему-то этого не делаю.
Думает ли он о чем-нибудь? Читает ли? Работает ли?.. Мне кажется, он принадлежит к весьма многочисленной и вполне заурядной категории людей, которая интересуется всем на свете и ни черта не делает. Настоящего ума у него, похоже, нет, но зато есть быстрота понимания и более чем достаточный запас слов, которые он произносит очень красивым глухим голосом. А еще он легко смеется, легко впадает в какое-то ребяческое веселье, как, впрочем, и многие мужчины. Вот каков он, мой поклонник.
Чтобы быть до конца правдивой, скажу и о том, что мне больше всего в нем нравится: порой у него бывает отсутствующий взгляд, словно чего-то ищущий, потаенная улыбка, вспыхивающая только в глазах, свойственная натурам страстным, но сдержанным.
Конечно, он путешествовал, как все: не очень далеко, не очень часто. И читал он то, что все читали, он знает «немало людей», но не может назвать, кроме брата, хотя бы трех близких друзей. Я прощаю ему всю эту ординарность за его удивительное простодушие, в котором, однако, нет ничего униженного, и еще потому, что он не умеет рассказывать о себе.
Его взгляд редко встречается с моим – я всегда отвожу глаза. Я ни на минуту не забываю, зачем он здесь и почему проявляет такое терпенье. И все же как отличается этот человек, который садится сейчас на диван, от той наглой твари, что ворвалась ко мне в гримуборную, одержимая вожделением! По моему поведению совсем не видно, что я помню нашу первую встречу, – разве только то, что я почти не разговариваю с Долговязым Мужланом. Когда он пытается со мной заговорить, я всегда отвечаю очень кратко либо, обращаясь к Амону, говорю ему то, что может служить ответом моему поклоннику… Этот способ непрямого разговора придает нашим беседам какую-то замедленность и нарочитую веселость…
Мы с Брагом все еще репетируем новую пантомиму. То в «Фоли-Бержер», куда нас пускают по утрам, то в «Ампире-Клиши», где нам на час предоставляют сцену. А еще мы мечемся между кабачком «Гамбринус» – там обычно во время гастролей репетирует труппа Баре – и танцевальным залом Карнуччи.
– Что ж, вырисовывается в общих чертах, – говорит Браг, скупой на похвалы как другим, так и себе.
«Старый троглодит» репетирует вместе с нами. Это отощавший, всегда голодный мальчик лет восемнадцати, которого Браг то и дело хватает за грудки, поминутно одергивает и так поносит, что мне его становится жалко.
– Зачем ты так наваливаешься на мальчишку, он вот-вот заплачет.
– Пусть плачет! Я ему еще сейчас ногой по заднице врежу. Слезы – это не работа.
Быть может, Браг и прав… «Старый троглодит» глотает слезы, старается изогнуть спину на доисторический манер и самоотверженно охраняет Дриаду, которая изгаляется перед ним в белом трико…
Как-то утром на прошлой неделе Браг дал себе труд лично зайти ко мне, чтобы предупредить, что назначенная на завтра репетиция отменяется. Он застал у меня Амона и Дюферейн-Шотеля, мы втроем завтракали. Мне пришлось попросить Брага посидеть с нами хоть несколько минут, я предложила ему кофе, представила его своим гостям… Я заметила, что Браг нет-нет да и поднимает свои черные блестящие глаза на моего поклонника, с любопытством и одобрением разглядывает его, – он был явно доволен, и от этого я почему-то смутилась. Просто глупость какая-то!..
Когда я провожала Брага до дверей, он не задал мне ни одного вопроса, не позволил себе ни фамильярной шутки, ни двусмысленного намека, и от этого мое смущение лишь усугубилось. Чтобы не показаться смешной, я не посмела пуститься в объяснения типа: «Знаешь, это один мой приятель… Это друг Амона, он привел его ко мне завтракать…»
На Фосетте теперь красный сафьяновый ошейник, украшенный позолоченными гвоздиками в спортивном духе, – на редкость безвкусный предмет. Я не посмела сказать, что нахожу его безобразным… А она – проклятая угодливая сучка! – пресмыкается перед этим хорошо одетым господином, который пахнет мужчиной и табаком и ласково похлопывает ее по спине. Бландина тоже лезет из кожи вон, до блеска протирает оконные стекла, а когда приходит мой поклонник, сама, без моей просьбы, приносит поднос с чаем…
Все, следуя примеру Амона, находятся как бы в заговоре против меня, все они за Максима Дюферейн-Шотеля… Но увы! Мне не стоит большого труда оставаться равнодушной!..
Равнодушной и более чем бесчувственной: отвергающей. Когда я пожимаю своему поклоннику руку, то прикосновение к его длинным пальцам, теплым и сухим, вызывает у меня удивление и неприязнь. А если я ненароком дотрагиваюсь до сукна его сюртука, меня пронизывает нервная дрожь. Когда он говорит, я невольно отстраняюсь, чтобы меня не обдало его дыханием… Я ни за что бы не согласилась завязать ему галстук и предпочла бы скорее пить из стакана Амона, чем из его… Почему?
Да потому что… он – муж-чи-на. Помимо своей воли я все время помню, что он муж-чи-на. Амон не мужчина для меня, он – друг. И Браг не мужчина – он товарищ. Бути – тоже товарищ. Стройные мускулистые акробаты, у которых благодаря серому обтягивающему трико обнаруживается вся скульптурная рельефность их мужской стати… что ж, они тоже не мужчины, они – акробаты!
Когда на сцене Браг так сжимает меня в объятьях, что трещат ребра, или прижимается губами к моим губам, изображая страстный поцелуй, приходило ли мне когда-нибудь в голову, что он – существо другого пола?.. Нет, никогда! А вот любой, даже случайно брошенный взгляд моего поклонника или даже самое невинное его рукопожатие напоминают мне, зачем он здесь и на что надеется. Какое это было бы прекрасное времяпрепровождение для кокетки! Какой возбуждающий флирт!
Несчастье заключается в том, что флиртовать я не умею. К этому у меня нет никакой склонности, да и нет опыта, легкомыслия, а главное… О это главное!.. Мне мешает память о муже!
Стоит мне хоть на одно мгновенье представить Адольфа Таиланди за его любимым занятием, когда он, исполненный азарта, выходит, так сказать, «на охотничью тропу», готовый на все, чтобы соблазнить свою очередную жертву, я сразу становлюсь холодной, скованной, враждебной ко всему, что имеет отношение к «любви»… Я слишком хорошо знаю выражение его лица после очередной победы: плывущий взгляд, детский рот в хитроватой ухмылке, чувственное подрагиванье ноздрей, улавливающих любой летучий запах… Бог ты мой! Все эти уловки, вся эта кухонная возня вокруг любви – вокруг цели, которую даже нельзя назвать любовью, – неужели я могу быть к ним причастной, ими пользоваться? Бедный Дюферейн-Шотель! Порой мне кажется, что это вас здесь обманывают, что я должна была бы вас предупредить… Предупредить о чем? О том, что я стала старой девой, что не испытываю никаких желаний, что я на свой лад заточила себя в монастырь, избрав в качестве кельи гримуборную мюзик-холла.
Нет, я вам всего этого не скажу, потому что мы с вами обмениваемся, словно на втором уроке иностранного языка по системе Верлица, лишь самыми простейшими фразами, в которых чаще всего употребляются такие слова, как хлеб, соль, окно, температура, театр, семья…
Вы мужчина? Тем хуже для вас! Все в моем доме помнят об этом, но не как я, а чтобы вам служить, начиная с Бландины, которая глядит на вас с нескрываемым обожанием, до Фосетты, чья собачья улыбка от уха до уха говорит о том же: «Наконец-то! В доме появился мужчина. Вот он – МУЖЧИНА!»
Я не умею с вами разговаривать, бедный Дюферейн-Шотель. Я колеблюсь между тем языком, на котором говорю я, резким, с оборванными фразами, где каждому слову придается его первородное значение, – язык бывшего синего чулка, – и тем живым, грубоватым образным жаргоном, на котором говорят в мюзик-холле и который пестрит всякими там «обалденно!», «кончай выступать!», «в гробу я их видел», «меня ободрали».
Поскольку я колеблюсь, то предпочитаю молчать.
– Дорогой Амон, я так рада, что мы обедаем вместе! Сегодня нет репетиции, светит солнце, да еще вы здесь, со мной. Все хорошо!
Мой старый друг, которого ни на миг не отпускает ревматическая боль, улыбается мне. Он польщен. Как он постарел, похудел, стал почти невесомым, и от этого кажется еще выше. Заострившийся, чуть искривленный нос… До чего же он похож на Рыцаря Печального Образа…
– Но мне кажется, что мы уже имели удовольствие вместе обедать на этой неделе, не правда ли? Сколько нежности вы дарите, милая Рене, такому старому скелету.
– Правда, я полна нежности к вам. Сегодня такая чудная погода. Мне как-то удивительно весело и еще… мы одни!
– Что вы хотите сказать?
– Конечно, вы сами догадались: здесь нету этого Долговязого Мужлана.
Амон печально склоняет свое продолговатое лицо:
– В самом деле, я замечаю, что вы испытываете к нему какое-то отвращение.
– Вовсе нет, Амон! Вовсе нет! Я испытываю… Я ничего не испытываю!.. Вот уже несколько дней, как я думаю, не сказать ли вам всю правду: дело в том, что я не нахожу в себе и тени какого-либо чувства к Дюферейн-Шотелю. Разве что некоторое недоверие.
– Это уже кое-что.
– Знаете, за все это время у меня не сложилось о нем никакого мнения.
– В таком случае я с радостью предложу вам свое. Это честный, порядочный человек, его репутация ничем не омрачена. Никаких историй.
– Этого мало.
– Мало? Я могу к этому отнестись только как к провокации. К тому же вы не даете ему возможности говорить о себе.
– Этого еще не хватало! Вы только представьте себе, как он положит свою огромную ручищу на свое огромное сердце: «Поверьте, я не такой, как все…» Ведь это он сказал бы мне, верно? В такие моменты мужчины обычно говорят то же, что и женщины.
Амон устремляет на меня ироничный взгляд:
– Люблю вас, Рене, когда вы вот так приписываете себе опыт, которого, к счастью, у вас нет. «Мужчины поступают так… мужчины говорят это…» Откуда у вас такая уверенность? Мужчины!.. Мужчины! Вы что, знали многих мужчин?
– Одного-единственного. Но зато какого!..
– А я про что говорю. Уж не обвиняете ли вы Максима в том, что он напоминает вам Таиланди?
– Нет. Он мне никого не напоминает. Никого… У него не живой ум, он не духовен…
– Влюбленные всегда глупеют. Вот я, когда любил Жанну…
– А я сама, когда любила Адольфа! Но это, так сказать, сознательная глупость, почти доставляющая наслаждение. Помните, когда мы с Адольфом были приглашены на обед, у меня всегда был жалкий вид, вид «бесприданницы», как говорила Марго? Мой муж красовался, улыбался, острил, блистал… все смотрели только на него, а если кто-нибудь и замечал меня, то только чтобы его пожалеть. Мне все давали понять, что без него я ноль, не существую!..
– О, вы несколько преувеличиваете, позвольте вам заметить.
– Ничуть, Амон! Не спорьте! Я изо всех сил старалась быть незаметной. Я его так любила, как… как идиотка.
– А я! А я! – восклицает Амон, оживляясь. – Помните, как моя куколка Жанна высказывалась о моих картинах: «Анри с рождения очень добросовестный, но старомодный», а я стоял и помалкивал?
Мы смеемся, мы радуемся, чувствуем себя помолодевшими оттого, что ворошим горькие и унизительные воспоминания… Ну зачем мой старый друг портит эту субботу, так полно отвечающую установившейся у нас традиции, упомянув имя Дюферейн-Шотеля? Я недовольно поджимаю губы:
– Опять вы о том же. Не приставайте ко мне с разговорами об этом господине! Что я о нем знаю? Что он аккуратен, прилично воспитан, любит бульдогов и курит сигареты. А что он к тому же еще и влюблен в меня – это, будем скромны, никак особо его не характеризует.
– Но вы делаете все от вас зависящее, чтобы его так никогда и не узнать.
Амон теряет терпенье и с неодобрением щелкает языком:
– Ваше право… Ваше право!.. Вы рассуждаете как ребенок, уверяю вас, мой дорогой друг!..
Я освобождаю руку, которую он прикрыл своей ладонью, и почему-то говорю торопясь:
– В чем вы меня уверяете? Что он предмет неординарный? Да и что вы хотите, в конце концов? Чтобы я спала с этим господином?
– Рене!
– Бросьте, давайте называть вещи своими именами! Вы хотите, чтобы я поступала как все? Чтобы я наконец решилась? Этот или другой – какая, в конце концов, разница? Вы хотите разрушить мой с таким трудом обретенный покой? Хотите, чтобы у меня появилась другая забота помимо терпкой, но такой укрепляюще-естественной заботы зарабатывать себе на кусок хлеба? А может, вы посоветуете мне завести любовника из соображений здоровья, как принимают кроветворное лекарство? Зачем мне это? Чувствую я себя хорошо и, слава богу, не люблю, не люблю… И никогда больше никого, никого, никого не буду любить!
Я прокричала это так громко, что он смущения замолчала. Амон, существенно менее взволнованный, нежели я, дал мне время поостыть. Кровь, бросившаяся мне в лицо, отхлынула к сердцу…
– Вы больше никого не будете любить? Возможно, это и правда. Но, поверьте, это было бы печальнее всего… Вы молодая, сильная, нежная… Да, это воистину было бы печальнее всего…
Я прямо задохнулась от возмущения и, едва сдерживая слезы, гляжу на своего друга, который посмел мне такое сказать.
– О, Амон! И это вы… Вы говорите мне!.. После всего, что с вами… с нами случилось, вы еще надеетесь на любовь?
Амон отводит взгляд в сторону, его глаза, светлые молодые глаза, контрастирующие с его морщинистым лицом, устремлены в окно, и он невнятно произносит:
– Да… Я вполне счастлив теперь… И готов жить так, как сейчас живу. Но сказать, что я ручаюсь за себя, заявить: «Отныне я никого больше не полюблю» – нет, на это бы я не решился…
На этом странном ответе Амона наш спор иссяк, потому что я терпеть не могу говорить о любви… Я могу выслушать не моргнув глазом любую скабрезность, но вот о любви говорить не люблю… Мне кажется, если бы я потеряла любимого ребенка, я никогда не могла бы произнести его имя.
– Приходи сегодня ужинать в «Олимп», – сказал мне Браг на репетиции, – а потом зайдем навестить ребят, которые сейчас работают в ревю в «Ампире-Клиши».
Я далека от того, чтобы обмануться: речь, конечно, идет явно не о приглашении на ужин. Мы ведь всего-навсего товарищи, и законы товарищества между артистами – а они существуют – не терпят в этих вопросах никакой двусмысленности. Итак, я вечером встречаюсь с Брагом в баре «Олимп», пользующемся весьма дурной славой. Дурной славой? О, это меня ничуть не заботит. Я больше не должна блюсти свою репутацию и потому безо всякого смущения, но, признаюсь, и без удовольствия переступаю порог этого маленького монмартрского ресторана, где от семи до десяти вечера царит благопристойная тишина, зато всю остальную часть ночи ресторан гудит от безудержной гульбы: крики, звон посуды, звуки гитар. В прошлом месяце я иногда ходила туда обедать, второпях, одна или с Брагом, перед тем как бежать в «Ампире-Клиши».
Официантка, явно провинциалка, с невозмутимой медлительностью, никак не реагируя на адресованные ей крики, подает нам свиную корейку с тушеной капустой – блюдо здоровое, хоть и тяжелое, особенно, наверное, для слабых желудков дешевых проституточек этого квартала, которые ужинают одни, без мужчин, за соседним столиком. Они едят с тем ожесточением, которое возникает перед полной тарелкой у животных и у недоедающих женщин. Да, в этом баре не всегда бывает весело!
В дверях появились две женщины, совсем молоденькие, тоненькие, в идиотских шляпках, которые, казалось, плыли, нелепо покачиваясь, на волнах их взбитых причесок, и Браг тут же стал насмехаться над ними, хотя, я знаю, в глубине души их жалел. Одна из девиц просто поражала своим обликом, в горделивой посадке ее головы был какой-то дьявольский вызов, а в противоестественной худобе, подчеркиваемой узким платьем из розового сатина-либерти, купленном в лавчонке на углу, – особая грация. Несмотря на ледяной ветер этого февральского вечера, она куталась не в пальто, а в тоненькую накидку из такого же сатина, только синего цвета, сильно вылинявшего, расшитого серебряными нитями… Она окоченела, просто обезумела от холода, но ее серые, полные какого-то ожесточения глаза не допускали никакого сочувствия. Казалось, она готова оскорбить, исцарапать каждого, кто сокрушенно скажет ей: «Бедная девочка!»
В этой особой стране, имя которой Монмартр, девчонки, гибнущие от гордости и нищеты, прекрасные в своей крайней обездоленности, являются отнюдь не редкой разновидностью, и я частенько встречаю их то тут, то там. В поношенных платьицах из тончайшей материи перелетают они от столика к столику в ночных харчевнях на монмартрском холме. Веселые, пьяные, злые как собаки, готовые вцепиться в глотку любому обидчику, они никогда не бывают ни мягкими, ни нежными, они ненавидят свою профессию, но никуда не денешься – «работают». Мужчины с добродушным презрением, смеясь, называют их «чертовыми куклами», потому что эти отпетые создания никогда ни в чем не уступят, ни за что не признаются, что голодны, что замерзают, что любят; помирая, они упрямо будут твердить: «Нет, нет, я не больна!» Когда же их бьют смертным боем, они хоть и истекают кровью, но яростно дают сдачи. Да, я знаю породу этих девчонок, и о них я думаю, глядя на только что вошедшую в «Олимп» закоченевшую гордячку.
Глухой говор голодных людей наполняет бар. Двое накрашенных парней вяло переругиваются через весь зал из конца в конец. Девочка-подросток, которая вместо обеда не спеша потягивает мятную воду в зыбкой надежде, что вдруг кто-нибудь угостит ее ужином, словно бы нехотя встревает в их спор. Нажравшаяся до отвала бульдожка тяжело дышит на потертом ковре, шаром выкатив свое брюхо, на котором, будто гвоздики, торчат блестящие сосцы…
Мы с Брагом болтаем, разомлев от жара газовых ламп. Я мысленно перебираю в памяти все дешевые ресторанчики во всех городах, где мы вот так сиживали, усталые, ко всему равнодушные, но все же любопытные, перед тарелками с какой-то непонятной едой… У Брага железный желудок, ему нипочем скверная пища привокзальных буфетов и гостиниц, а я, если «телятина по-господски» или «баранина по-домашнему» оказываются жесткими, как подметка, накидываюсь на сыр и омлет…
– Послушай, Браг, вон тот, спиной к нам, – это не танцор Стефан?
– Где?.. А! Конечно, он… С подружкой.
С такой «подружкой», что я прямо столбенею: брюнетка лет пятидесяти, не меньше, да еще с усами… А танцор Стефан, словно почувствовав наши взгляды, полуоборачивается к нам и заговорщицки подмигивает, так, как это делают на сцене: мол, «Тсс, тайна!» – но с таким расчетом, чтобы это видел весь зал.
– Бедняга! – шепчет Браг. – Тяжелый у него хлеб… Кофе, пожалуйста, мадемуазель! Мы сматываемся!.. – кричит он официантке.
Кофе здесь напоминает чернильную жижу с оливковым отливом, которая оставляет внутри чашечки трудно смываемый след. Но поскольку я больше не могу позволить себе пить хороший кофе, то я даже полюбила эти горячие горькие отвары, пахнущие лакрицей и хиной… В нашей профессии скорее можно обойтись без мяса, но не без кофе!..
Нам так долго не подают кофе, что танцор Стефан «смотался» раньше нас – он теперь участвует в ревю в «Ампире-Клиши»; торопясь за своей перезрелой спутницей, он, бесстыдно ухмыльнувшись, изображает тяжелоатлета, рывком подымающего штангу весом двести килограммов, а у нас хватает духа рассмеяться… Потом и мы выходим из этого унылого заведения, которое называется «увеселительным», где все в этот час дремлет в тусклом свете ламп под тусклыми абажурами: и обожравшаяся бульдожка, и изможденные девчонки, и провинциалка-официантка, и управляющий с нафабренными усиками…
На Внешнем бульваре и на площади Бланш гуляет ледяной ветер, он срывает с нас дрему, и я с радостью чувствую, что меня захлестывает какая-то стихия активности, потребность ра-бо-тать… Потребность таинственная и неопределенная, которую я с одинаковым успехом могу удовлетворить и танцами, и писательством, бегом, или игрой в театре, или даже толканием ручной тележки…
Словно охваченный тем же ощущением жизни, Браг вдруг говорит мне:
– Знаешь, я получил записку от Саломона… Поездка, о которой я тебе говорил, вроде состоится. День в одном городе, два дня в другом, неделя в Марселе, неделя в Бордо… Ты по-прежнему готова ехать?
– Я? Да хоть сейчас! А почему ты спрашиваешь?
Он искоса глядит на меня:
– Не знаю… Просто так… Иногда… Я знаю, как бывает в жизни…
А, понятно! Браг, конечно, не забыл о Дюферейн-Шотеле и, видно, думает, что… Мой резкий смех не разубеждает его, а лишь еще больше запутывает, но я чувствую себя нынче такой веселой, такой задорной, будто я уже в пути… О да! Уехать, вновь уехать, забыть и кто я есть, и название города, приютившего меня вчера, и ни о чем не думать, и любоваться красотой пейзажа, который мчится вдоль поезда, и запечатлевать его в своей памяти – вот это свинцовое озеро, в котором небо отражается не голубым, а зеленым, вот эта сквозная ажурная звонница, множество ласточек вокруг…
Однажды, я помню… Уезжая из Рена майским утром… Помню, поезд очень медленно ехал вдоль ремонтирующихся путей, между белыми, как кипень, кустами цветущего терновника, розовым великолепием яблонь, отбрасывающих на траву голубые тени, и молодыми вязами с прозрачной нефритовой листвой… На опушке леса стояла девочка лет двенадцати и глядела, как я проезжаю мимо нее. Меня поразило ее сходство со мной. Серьезная, с чуть насупленными бровями, с персиковыми щечками – какими были мои, – с выгоревшими на солнце волосами, она держала пушистую веточку в руке, загорелой и исцарапанной, как моя. И это замкнутое лицо, эти глаза без возраста, скорее мальчишечьи глаза, которые, казалось, все на свете воспринимают всерьез, – тоже мои, в самом деле мои!.. Да, перед кустами подлеска стояло мое нелюдимое детство и, ослепленное восходящим солнцем, глядело прищурясь, как я проезжаю мимо…
– Может быть, соблаговолишь переступить порог?
Эта ироничная фраза Брага возвращает меня к действительности – оказывается, мы уже дошли до подъезда «Ампире-Клиши», расцвеченного фиолетовыми огнями, такими яркими, что, как говорит Браг, они «просто ранят задницу глаз», и мы входим в подвал – знакомый запах отсыревшей штукатурки, нашатырного спирта, крема «Симон» и дешевой рисовой пудры вызывает у меня почти приятное отвращение… Мы пришли сюда повидать товарищей, а не смотреть ревю.
Я вхожу в свою большую гримуборную, которую теперь занимает Бути, а та, в которой прежде гримировался Браг, преображена ослепительным присутствием Жаден, исполняющей в этом ревю три роли.
– Скорей, скорей! – кричит она нам. – Вы как раз поспеете к моей песенке «Париж ночью»!
Увы!.. Жаден на этот раз облачили в костюм эстрадной звезды! Черная юбка, черный корсаж с большим вырезом, ажурные чулки, красная бархатка на шее, а на голове – традиционный парик в форме каски, украшенный алой, как кровь, камелией! Ровным счетом ничего не осталось от той народной, за душу хватающей прелести уличной девчонки, которая как-то кособоко стояла на сцене…
Впрочем, этого надо было ожидать… Как быстро и неумолимо превратило время такую свеженькую, отчаянную озорницу в рядовую кафешантанную певичку «Ну как дела?.. Что нового?.. У вас вытанцовывается?..» – а я все гляжу на Жаден, которая мечется по своей гримуборной, и с горечью замечаю, что ходит она уже «изячной» актерской походкой, как все, подтянув живот и выкатив грудь, что говорит поставленным голосом и даже ни разу не ругнулась с тех пор, как мы пришли…
Бути, который будет танцевать с Жаден неизбежный галоп, лихо заломил шелковую кепку, он молча сияет. Еще немного, и он сказал бы нам: «Вот таким путем!» – указав жестом хозяина на свою партнершу. Покорил ли он ее наконец? Он небось тратит немало сил – во всяком случае, я в этом уверена, – чтобы убить в Жаден все самобытное. И вот они оба, перебивая друг друга, рассказывают, что готовят «сенсационный» номер для «Кристал-палас» в Лондоне и рассчитывают заработать кучу денег!
Как быстро все меняется!.. Особенно женщины… Вот Жаден, например, за несколько месяцев потеряет всю свою пикантность, свою покоряющую естественность и непредсказуемую эксцентричность. Подлая наследственность консьержек и алчных, мелочных торговок, пробьется ли она в натуре этой шальной восемнадцатилетней девчонки, которая пока еще так расточительно тратит и себя, и свои жалкие гроши? Почему, глядя на нее, я вспоминаю «Группу Белл» – немецких партерных акробатов с английской фамилией, которых мы с Брагом встретили в Брюсселе? Они не знали себе равных по силе и грации, от вишневых трико их тела казались беломраморными, однако, несмотря на свой успех и хорошие заработки, они впятером теснились в двух крошечных комнатушках без всякой мебели, где сами готовили себе на чугунной печурке, и все свободное время – нам это рассказывал импресарио – вели подсчеты, зачитывали до дыр биржевые ведомости, до хрипоты спорили о золотых приисках и о египетском кредитном банке! Деньги, деньги, деньги!..
Без пустой болтовни Жаден наш визит был бы томительным. После того как Бути, который выглядит теперь не таким тощим, как прежде, сказал, что чувствует себя лучше и что «кое-что вытанцовывается на следующий сезон», воцарилось тягостное молчание, и мы обе ощутили неловкость, не зная, о чем говорить. Ведь мы – случайные друзья, которых свел случай и случай разведет. Я перебираю лежащие на столике грим и растушевки с актерским смаком, с ненасытной жаждой гримироваться, переживаемой всеми, кто выступал на сцене… К счастью, прозвенел звонок, и Жаден вскочила:
– Ой, быстро наверх! Пожарник уступит вам свое место в осветительской ложе. Вы увидите, как я их всех уложу песенкой «Париж ночью»!
Сонный пожарник охотно уступает мне табурет из плетеной соломы в маленькой ложе. Я сижу, прижав лицо к решетке, сквозь которую проходит луч теплого красноватого света, и, оставаясь невидимой, могу рассмотреть два ряда до среднего прохода в партере, три ложи бенуара и напротив… кусочек аванложи, где сидит дама в шляпе с огромными полями – жемчуг, кольца, платье с блестками – и двое мужчин, не кто иные, как братья Дюферейн-Шотель, старший и младший, оба в черном с белым, начищенные и отутюженные. Они резко освещены и в обозримом мною квадрате выделяются среди публики.
Женщина, которую я вижу, – не просто женщина, а дама: видимо, госпожа Дюферейн-Шотель-старшая. Моего поклонника как будто очень забавляет комический проход старьевщиц в интермедии, а вслед за ними – женщин-кучеров, ищущих клиентов.
Спев куплеты с подтанцовыванием, они тоже покидают сцену.
Наконец появляется Жаден, которая сама себя объявляет:
– А я – я королева ночного Парижа!
И тут я вижу, как мой поклонник оживленно склоняется над программкой, а потом поднимает глаза и весьма пристально разглядывает мою подружку сверху донизу – от парика в форме каски до щиколоток, обтянутых ажурными чулками…
Странным образом именно он и становится для меня спектаклем, потому что я вижу только профиль малютки Жаден, которую слепящая рампа делает курносой, будто лучи света обглодали ее лицо, черную ноздрю и вздернутую губу над сверкающими, как лезвие ножа, зубами…
С красной лентой на шее, изогнутой, словно колено водосточной трубы, эта юная девочка кажется мне вдруг похожей на какую-нибудь сладострастную нимфу Ропса. Когда, исполнив свою песенку, она дважды выходила кланяться, притиснув каблучки друг к другу и прижимая пальчики к губам, мой поклонник хлопал ей своими огромными смуглыми ладонями, да так старательно, что, прежде чем исчезнуть, она послала ему персональный воздушный поцелуй, кокетливо выпятив подбородок.
– Ты что, заснула, что ли? Я уже дважды тебе сказал, что нельзя здесь больше оставаться. Видишь, ставят декорации «Гелиополиса».
– Да-да, иду…
Мне и в самом деле кажется, что я засыпала, а может быть, очнулась от тех бездумных мгновений, которые обычно предшествуют какой-нибудь особенно горькой мысли, предвещают какое-то душевное напряжение.
– Ну так решайся или откажись. Тебе это подходит или нет?
Оба они, и Браг, и Саломон, теснят меня и взглядами, и словами. Один посмеивается, чтобы меня успокоить, другой обиженно ворчит. Тяжелая рука, рука Саломона, ложится на мое плечо:
– Вот контракт так контракт!
Я держу его в руках, этот напечатанный на машинке контракт, и перечитываю, наверное, в десятый раз, боясь пропустить между пятнадцатью краткими строчками какой-нибудь подвох, неясный пункт, который можно понять двояко… Но главным образом я перечитываю его, чтобы выгадать время. Потом я гляжу в окно и вижу сквозь накрахмаленные тюлевые занавески чистый унылый двор…
Похоже, что я сосредоточенно думаю, но на самом деле я вовсе не думаю. Колебаться не значит думать… Я рассеянно разглядываю этот кабинет, который я столько раз видела, обставленный в английском стиле, со странными фотографиями на стенах: поясные портреты каких-то дам, сильно декольтированных, тщательно причесанных, улыбающихся этакими «венскими» улыбками. Портреты мужчин во фраках, про которых трудно сказать, кто они – певцы или акробаты, мимы или наездники…
Итак, сорок дней гастролей по полтораста франков в день – это составит ровно шесть тысяч франков. Ничего не скажешь, кругленькая сумма. Но…
– Но, – говорю я наконец Саломону, – я не желаю, чтобы ты отстегнул себе мои шестьсот монет! Десять процентов – да это просто грабеж среди бела дня!
Я вновь обрела дар речи, умение ею пользоваться и нашла те самые слова, которые подходили для этого случая. Саломон стал цвета своих волос, а именно кирпичного, даже его бегающие глазки налились кровью, но с его толстых губ сорвалась почти любовная мольба:
– Дорогая, золотце мое, только не говори глупостей… Месяц… Целый месяц я занимался твоим маршрутом! Спроси у Брага! Месяц я из кожи вон лезу, чтобы найти для тебя точки класса… самого высшего!.. И афиши как у… как у госпожи Отеро! Да, да!.. И ты так меня благодаришь? У тебя что, совсем нет сердца? Десять процентов! Да ты должна была бы дать мне двенадцать, слышишь?
– Слышу. Но я не желаю, чтобы ты отстегнул себе мои шестьсот франков. Ты их не стоишь.
Маленькие красные глазки Саломона становятся еще меньше. Его тяжелая рука на моем плече вроде бы ласкает меня, но хочет раздавить:
– О ядовитое семя! Погляди-ка на нее, Браг! И этому ребенку я сделал ее первый договор!
– Этот ребенок давно уже вырос, старина, и ему необходимо обновить свой гардероб. Мой костюм в пантомиме «Превосходство» уже никуда не годится. А за новый надо отдать не меньше тридцати золотых, и башмачки для танца сносились, и тюлевое покрывало, а еще все аксессуары! Ты даешь мне на них деньги, старый негодяй?
– Ты только погляди на нее, Браг! – повторяет Саломон. – Мне стыдно за нее перед тобой! Что ты о ней думаешь!
– Я думаю, – спокойно говорит Браг, – что она поступила бы правильно, согласившись на эти гастроли, но совершила бы ошибку, если бы дала тебе шестьсот франков.
– Хорошо. Верните мне контракт.
Тяжелая рука отпускает мое плечо. Саломон как-то разом сморщился, побледнел и сел за свой письменный стол в английском стиле, не удостаивая нас даже взглядом.
– Кончайте ломать комедию, Саломон! Когда я начинаю злиться, мне уже на все плевать, и если меня дурачат, то я не задумываясь откажусь от любого ангажемента.
– Мадам, – отвечает Саломон с достоинством, ледяным тоном, – вы говорили со мной как с человеком, которого вы презираете, и это ранило мое сердце!
– Слушай, ты… – вдруг вмешивается Браг, не повышая голоса, – кончай трепаться! Шестьсот франков с ее доли, четыреста пятьдесят с моей… Ты что, принимаешь нас за немецких акробатов? Дай-ка сюда эти листочки, сегодня мы подписывать не будем. Мне нужны сутки, чтобы посоветоваться со своей семьей.
– Тогда все погорело, – бросает Саломон скороговоркой, но как-то неуверенно. – Люди, которые подписали этот контракт, – директора шикарных заведений, они… не любят, когда их заставляют ждать, они…
– …сидят задницей в кипящем масле, знаю, – прерывает его мой товарищ. – Так вот, скажи им, что я зайду к тебе завтра… Пошли, Рене!.. А ты, Саломон, получишь с каждого из нас по семь с половиной процентов. Я считаю, что и это чересчур щедро.
Саломон вытирает платком сухие глаза и мокрый лоб:
– Да-да, вы оба хорошие свиньи!
– Но и про вас не скажешь, Саломон, что вы так хороши…
– Оставь его, Рене, ведь это золотой человек! Он сделает все, как мы хотим. А кроме того, он тебя любит, ведь так, Саломон?
Но Саломон дуется. Он отворачивается от нас, словно толстый ребенок, и говорит плачущим голосом:
– Нет. Уходите. Я не хочу вас больше видеть. Я переживаю настоящее горе. С тех пор как я занимаюсь контрактами, меня впервые так унизили! Уходите, мне необходимо побыть одному. Я не желаю вас больше видеть.
– Ладно. До завтра.
– Нет-нет! Между нами все кончено!
– Так, значит, в пять часов?
Саломон, не вставая из-за стола, поднимает к нам полные слез глаза:
– В пять? Я еще должен из-за вас отменить свидание в «Альгамбре»! Не раньше шести, слышите?
Обескураженная, я пожимаю его короткопалую лапу, и мы выходим.
Обилие прохожих и уличный шум делают разговор практически невозможным, и мы молчим. Я заранее боюсь малолюдья бульвара Мальзерб, где Браг наверняка начнет спорить со мной и меня уговаривать. А собственно, чего меня уговаривать, я и так готова уехать… Амон, конечно, будет недоволен. Марго скажет: «Ты, конечно, права, дочь моя», хотя и подумает обратное и даст мне прекрасные советы, а может быть, несколько упаковок патентованных пилюль от мигрени, запора и температуры.
А Дюферейн-Шотель, что он скажет? Представляю себе, какое у него будет лицо. Он утешится, ухаживая за Жаден… Уехать… Кстати, а когда?
– Какого числа мы уезжаем, Браг? Я не обратила на это внимания, читая контракт.
Браг пожимает плечами и останавливается рядом со мной в толпе прохожих, которые покорно ждут, когда наконец белый жезл ажана прорубит проход в потоке машин, чтобы мы могли перейти с тротуара бульвара Осман на площадь Сент-Огюстен.
– Только ты так ведешь себя, когда предлагают выгодную поездку, мой бедный друг! Мадам кричит, мадам прямо становится на уши, на одно мадам согласна, на другое – не согласна, а потом вдруг говорит: «Я даже не обратила внимания на дату!»
Я милостиво разрешаю ему насладиться своим превосходством. Обращаться со мной как с новичком, как с ученицей, которая только и делает, что совершает непоправимые ошибки, – одно из главных удовольствий Брага… Мы бежим, повинуясь указанию ажана, до бульвара Мальзерб…
– С пятого апреля по пятнадцатое мая, – продолжает Браг. – Ты не против, тебя здесь ничто не удерживает?
– Ничто…
Мы идем вверх по бульвару, тяжело дыша от тепловатой сырости, которая поднимается с мокрой мостовой. После короткого ливня все вдруг начало таять, темно-серый булыжник отражает, как в кривом зеркале, разноцветные огни. Продолжение бульвара теряется в густом мареве, рыжеватом от остатка сумеречного света… Я невольно оборачиваюсь, гляжу вокруг, ищу – что? Ничего. Нет, ничто меня здесь не удерживает, ни здесь, ни в другом любом месте на земле. Нет, не возникнет из тумана дорогое мне лицо, как возникает из темной воды белая лилия, мне некому крикнуть в порыве чувств: «Не уходи!»
Итак, я еще раз уеду. До пятого апреля еще далеко – сегодня пятнадцатое февраля, но я чувствую себя уже уехавшей. Браг называет города, гостиницы и цифры, цифры… Но я пропускаю все это мимо ушей.
– Ты меня хоть слушаешь?
– Да.
– Значит, до пятого апреля ты ничем не занята?
– Насколько я знаю, ничем.
– У тебя нет маленького скетча или комической сценки, годной для гостиных, чтобы тебе было чем заняться на это время?
– Да вроде нет.
– Если хочешь, я подыщу тебе что-нибудь, чтобы ты поработала недельку-другую.
Я расстаюсь со своим товарищем, поблагодарив его за внимание, я глубоко тронута тем, что он пытается занять меня в мое простойное время, зная, что ничто так не деморализует, не обедняет и не ввергает актеров в депрессию, как вынужденное безделье…
Три головы поворачиваются в мою сторону, когда я вхожу в свою маленькую гостиную: Амона, Фосетты и Дюферейн-Шотеля. Плотно придвинувшись к столику, освещенному лампой с розовым абажуром, они в ожидании меня играли в экарте. Фосетта умеет играть в карты на бульдожий манер: усевшись на стуле, она внимательно следит за движением рук партнеров, готовая схватить на лету отбрасываемую карту.
Амон воскликнул: «Наконец-то!» Фосетта тявкнула: «Гав!» А Дюферейн-Шотель ничего не сказал, но мне показалось, что он вот-вот залает…
Радостный прием, приглушенный свет отогрели меня после зябкого уличного тумана, и в порыве сердечной радости я воскликнула:
– Добрый вечер! Знаете, я уезжаю!
– Уезжаете? Как, когда?
Не обращая внимания на то, что в интонации моего поклонника, помимо его воли, появилось что-то приказное, инквизиторское, я снимаю перчатки и шляпу.
– Я расскажу вам все во время обеда. Прошу вас, останьтесь оба, ведь это уже почти прощальный обед. Доигрывайте ваш экарте, а я тем временем пошлю Бландину за котлетами и надену халат, я так устала!
Я возвращаюсь, утопая в складках кимоно из розовой фланели, и сразу же замечаю, что у обоих, и у Амона, и у Дюферейн-Шотеля, какой-то решительный, заговорщицкий вид. Ну и пусть, мне-то что до этого? Мое хорошее настроение, пожалуй, на руку моему поклоннику: я предлагаю ему обмыть предстоящую поездку и угостить нас «Сен-Марсо». Он бросается, даже не надев шляпы, в бакалейную лавочку по соседству и возвращается с двумя бутылками шампанского.
В каком-то лихорадочном оживлении, чуть-чуть навеселе, я гляжу на своего поклонника не колючим взглядом, как обычно, – такого взгляда он никогда еще не видел. Я громко смеюсь – такого смеха он тоже никогда не слышал. Я закидываю наверх широченный рукав своего кимоно, обнажая до плеча руку «цвета банана», как он говорит… Я веду себя предупредительно, мило, я почти готова подставить ему щечку для поцелуя: ну и что тут, в конце концов, особенного? Ведь я уезжаю! Больше я его не увижу! Сорок дней? Да за это время все мы можем умереть!
Бедный поклонник, как я все-таки плохо с ним обошлась!.. Я нахожу его приятным, тщательно одетым, хорошо причесанным… Так смотрят на того, кого больше не увидят! Ведь когда я вернусь, я его забуду, и он тоже меня забудет… с малюткой Жаден или с какой-нибудь другой… Но, скорее всего, все-таки с малюткой Жаден.
– Ма-лют-ка Жа-ден!
Я громко произнесла ее имя, и это показалось мне весьма остроумным.
Мой поклонник, который сегодня вечером почему-то смеется с трудом, смотрит на меня, насупив брови угольщика:
– Что «малютка Жаден»?
– Она вам здорово пришлась по вкусу в тот вечер в «Ампире-Клиши»?
Дюферейн-Шотель наклоняется вперед, явно заинтересованный. Его лицо выходит из зоны, затененной абажуром, и я теперь вижу оттенок его карих глаз и рыжину со светлыми искрами – такими иногда бывают некоторые агаты.
– Вы были в тот вечер в зале? Я вас не видел!
Перед тем как ответить, я допиваю шампанское и говорю с таинственным видом:
– Да-да, не угодно ли!..
– Смотрите-ка! Оказывается, вы были там!.. Да, она мила, эта малютка Жаден. Вы с ней знакомы? Я нахожу ее очень привлекательной.
– Привлекательнее меня?
Я заслужила, чтобы на эту необдуманную, дурацкую, недостойную меня фразу он ответил бы иначе, нежели просто удивленным молчанием. Я готова провалиться сквозь землю… Но какая разница? Ведь я уезжаю!.. Я начинаю говорить о своем маршруте… Объеду всю Францию, но выступления будут только в больших городах, и афиши, как у… как у госпожи Отеро! И какие прекрасные места мы будем проезжать, и на юге будет тепло и солнечно… И… И…
