Время героев
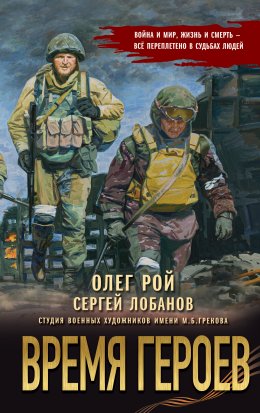
В оформлении обложки использована работа Е. А. Соловьевой «Герои Z», 2022 г. (Студия военных художников имени М. Б. Грекова Министерства обороны Российской Федерации).
В книге использованы репродукции картин Студии военных художников имени М. Б. Грекова Министерства обороны Российской Федерации.
© Рой О., 2025
© Лобанов С., 2025
© ФАУ Студия военных художников Минобороны России, иллюстрации, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Олег Рой
Повесть и рассказы
Три Сашки
Пролог
Как известно, учеба в школе начинается второго сентября. Первого сентября – не учебный, а праздничный день, даже если он приходится на понедельник, как в этом году. Тем более если школа новая и ученикам только предстоит знакомиться друг с другом.
Эта школа была совсем новой. Город стремительно рос, вместо двух- и трехэтажных домов бывшего пригорода вырастали двадцатитрехэтажные «небоскребы», и три старенькие школы, в которых когда-то еще висели портреты Сталина и Хрущева, уже не справлялись с нагрузкой, даже в две смены. В итоге новая пятиэтажная школа на месте автопарка решила проблему, но контингент, что учительский, что ученический, в ней был «сборной солянкой» со всего немаленького района.
В тот день история была последним уроком, и десятый «А» класс, успевший уже перезнакомиться, думал не об учебе, а о том, что ребята будут делать после уроков. Сентябрь – это почти лето, даже на Урале. А летом, сразу после каникул, об учебе как-то не думается…
– Александр Леонидович Северов, – произнес парень по имени Данила, обладатель аристократической фамилии Юсупов. – Кто-нибудь знает, что это за штрих?
Его ближайшее окружение отрицательно качало головами – учителя истории никто из них не знал. Только одна рыжая девочка, симпатичная, но пока еще не настолько, чтобы притягивать внимание одноклассников, неуверенно сказала:
– Вроде был такой в нашей школе. Говорили, что на пенсию ушел год назад. Или два?
– Какой-нибудь старый скуф, – заметил Данила, зевая. – Свалить, что ли? Что толку здесь торчать?
Ему никто не возразил, но не потому, что все были с ним согласны. Причина была в другом: Данила повернулся лицом к окну и не мог видеть того, что происходило у него за спиной, где была дверь в класс. Пользуясь тем, что никто не стал с ним спорить, Данила продолжил:
– Ок, я понимаю, зачем нужны математика, физика, химия или биология. Информатика – вообще без вопросов. Даже язык – самого колбасит, когда в Сети пишут так, будто русский им не родной. География, астрономия, обществознание – все понятно. А история зачем? Ну было там в прошлом всякое-разное, интересное или не очень. Ну прикольно, конечно, почитать про битвы, интриги, союзы-договоры, но это же не наука! Это сплошная развлекаловка. Типа «Игры престолов»…
– Так-так, – донесся у него из-за спины тихий, но твердый, уверенный голос. – И почему же молодой человек считает, что история это не наука?
Данила резко обернулся и увидел то, что не заметил раньше. На пороге класса стоял пожилой мужчина. Одет он был просто – неброский темно-серый костюм, черная водолазка; мужчина опирался на тросточку с причудливой рукоятью. «Такие ставят на оружие, для удобства захвата», – подумал парень. Вообще во внешности учителя было что-то такое, что выдавало в нем военного. Он даже больше напоминал офицера, чем их учитель НВП, до пенсии работавший в городском военкомате и ушедший в отставку майором.
Данила понял, что это их новый учитель истории. Несмотря на то что ситуация складывалась не в его пользу, парень решил не отступать. За свои слова надо отвечать, правильно?
– Во-первых, – сказал он, – в каждой науке есть свои законы, которые всегда работают одинаково. А в истории похожие ситуации могут развиваться по самым разным сценариям. То есть и это во-вторых, хорошо зная прошлое, мы все равно не сможем… – он замялся, подбирая слова, – выбрать для себя однозначно правильную тактику. Знание истории ничего не дает в практическом плане…
– Вот в этом ты, мой друг, ошибаешься, – улыбнулся учитель, проходя в класс. – И в том, что у истории нет своих законов, и в том, что знание истории нельзя применить на практике.
На ходу мужчина сильно припадал на левую ногу. Очевидно, тросточка нужна была ему не как модный аксессуар.
– Я не представился, – сказал мужчина, опираясь рукой на столешницу учительского стола. – Меня зовут Александр Леонидович Северов, я ваш новый учитель истории. На самом деле я благодарен моему юному другу, – Александр Леонидович кивнул в сторону Данилы, – за то, что он затронул такую важную тему. Действительно, неразумно тратить время на то, что не принесет ни пользы, ни радости, но история – не одна из этих вещей. И это вовсе не набор скучных дат и занимательных рассказов. У истории, как и любой науки, есть свои четкие правила.
– Да я что, – опять смутился Данила, – я не спорю, просто вы первый, кто говорит об этом. До этого нас загружали как раз датами и фактами, не объясняя, зачем нам все это знать.
– Я тебя хорошо понимаю. – Учитель сделал многозначительную паузу, и парень, поняв, к чему это, назвал свое имя:
– Данила. Данила Юсупов.
– Хорошее имя, – кивнул Александр Леонидович. – И фамилия славная. Так вот, я понимаю, что ты хочешь узнать. Ты говоришь, что важно то, что есть, то, что будет. Но то, что есть, произошло от того, что было; то, что будет, рождается прямо сегодня. И сегодняшний день завтра тоже будет историей, абзацем из учебника. И уже твои дети и внуки прочтут его. А ведь это – твоя жизнь. Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример. – Учитель обернулся к доске, поискал машинально мел, но, сразу заметив, что доска интерактивная, взял висящий сбоку стилус и написал: «Освобождение Бахмута».
– Освобождение Бахмута, – произнес он, обернувшись к классу. – Это уже история. Со своими датами и своими деталями. Но эту историю сделали ваши современники, некоторые из них немногим старше вас или вообще ваши сверстники.
– У меня брат на СВО, – сказал крупный, но не толстый парень, сидевший рядом с симпатичной девочкой в круглых, как у Гарри Поттера, очках, казавшейся еще более хрупкой на его фоне.
– А у меня дядя, – добавила девушка с волосами, пряди которых были выкрашены в алый и голубой цвет. – Он там невесту нашел, в госпитале, скоро свадьба.
– Да я сам хотел пойти, – удивил всех Данила. – Как в прошлую войну: сказал, что паспорт посеял и мне вообще восемнадцать. Так сразу по компьютеру пробили…
– Вот видишь, – сказал Александр Леонидович, – а ты говоришь, зачем нужна история…
– Так не сработало же! – возразил ему Данила.
– Потому что историю мало просто знать, – объяснил учитель. – Надо уметь делать из нее правильные выводы. Я мог бы тебе подсказать кое-что, но не буду: ты сам, своей головой, до всего дойдешь. Моя задача в другом – в том, чтобы дать тебе методику, которой ты мог бы для этого воспользоваться.
– И какая же это методика? – заинтересовался Данила.
– История – это наука прежде всего о причинно-следственных связях. – Лазерной указкой, встроенной в стилус, Александр Леонидович указал на написанное на доске слово. – Мы освободили Бахмут: это факт. Но почему? Что послужило причиной, что сделало это возможным? Потому что мы умеем анализировать и делать правильные выводы из событий прошлого.
22 июня 1941 года Гитлер с союзниками вероломно напал на СССР. Об этом наше руководство предупреждали и Рихард Зорге, и другие агенты. Мы могли бы нанести превентивный удар, но побоялись того, что это оттолкнет от нас мировое сообщество – то самое, которое за три года до этого натравило на СССР финских радикальных националистов, а потом их поддерживало.
Чуть выше слов «Освобождение Бахмута» учитель написал дату: 08.08.08, а между ними – 20.02.22. Потом добавил стрелочки от верхней даты к нижней и от нее – к словам.
– Итак, – продолжил он, – мы знаем эти факты из нашей истории. И вот, 8 августа 2008 года Запад наносит удар по базе миротворцев в Цхинвале – как финны обстреляли войска Красной армии 26 ноября 1939 года, и как до того несколько раз, якобы случайно, обстреливали нашу базу в Ханко. Мы провели блестящую операцию по принуждению Грузии к миру; казалось бы, на этом можно было бы и остановиться… если не знать историю.
Потом был Майдан – первый, второй, потом – Крымская весна, Народные Республики, гражданская война на Украине – все эти события, важные сами по себе, выстраивались, однако, в четкую систему. Мы внимательно следили за происходящим, и… – забыв про лазерную указку, учитель пальцем указал на вторую дату, – 22 декабря начали СВО. Почему двадцать второго?
Да потому что в ночь на 23 февраля 2022 года украинские нацисты готовились зачистить Донбасс, причем – как стало известно совсем недавно – с последующей «аннексией» Кубани, Курской и Белгородской областей, которые их руководство по непонятным причинам объявило «исконными территориями Украины». Более того, у них даже заготовлены «исторические обоснования», которые могут показаться убедительными тем, кто с историей на «вы».
Но наше Министерство обороны, наша Служба внешней разведки и Совет безопасности во главе с президентом не только вовремя увидели угрозу, но и предприняли ответные меры с хирургической точностью. Наши малые мобильные силы нанесли быстрый удар по разворачивающейся украинской группировке, разгромив ее еще на этапе развертывания, а основные силы ударили на том направлении, где их удара враг не ожидал. И все это в том числе потому, что мы хорошо знаем историю. И умеем делать из нее выводы.
Александр Леонидович нажал кнопку, и надписи с доски исчезли.
– История, – сказал он, – это как река. Реку можно нарисовать на картине или запечатлеть на фото, но ты никогда не сможешь войти в эту реку, даже если окажешься в том самом месте, где стоял художник или фотограф. Просто река уже будет другой. Такой же, но другой. Река всегда здесь – и постоянно движется, изменяется. Так и история. Те, кто рассматривают ее статично, обречены на ошибки.
История делается прямо сейчас. Сегодня ее делает твой брат, твой дядя, чей-то сосед или знакомый. Завтра это будете делать вы. И важно понимать, что все мы – это часть огромной реки времени, ощущать это единство – с теми, кто были до нас и кто будет после. Мой друг Данила хотел, приписав себе пару лет, отправиться на СВО – так, как это сделал его дед или, может, брат или дядя его деда. Изучая историю, мы учимся понимать себя – потому что мы дети, внуки и правнуки героев. Это наша кровь, наши гены. Вот есть такое выражение – легендарная личность. Казалось бы, легенда – это что-то не совсем настоящее. Тот же Алексей Маресьев или Николай Гастелло. Но вот началась СВО – и Александр Антонов с Владимиром Никишиным повторяют подвиг Гастелло, а сколько ребят, потерявших ногу или даже обе ноги, вернулись на ЛБС, и сосчитать трудно. Есть дроноводы без обеих ног, есть Санта – одноногий ополченец, командующий штурмовой группой…
И они – легендарные личности, но жили и живут рядом с нами. Один мой друг сказал, что Донбасс – земля легенд, и я сам в этом убедился…
Ученики, внимательно слушавшие Александра Леонидовича, оживились.
– Вы были на Донбассе? – спросило сразу несколько голосов, а Данила-заводила с гордостью заявил:
– А я так и понял сразу! У вас тросточка с рукоятью от автомата! И хромаете вы, наверно, от ранения?
– А расскажете, как там? – тихо спросила подружка «качка».
– Да, расскажите, пожалуйста! – донеслось со всех сторон.
– А как вас допустили? – спросил Данила. – Вы же… простите, вы же тоже по возрасту не подходите, но в другую сторону…
Александр Леонидович улыбнулся:
– В связи с особыми обстоятельствами. Если хотите, могу вам рассказать. Но рассказ будет долгим…
Глава 1
Шурави
Не по-зимнему пригревало солнышко, словно стремясь донести до людей, что скоро весна, хотя до настоящей весны даже здесь, на юге, оставалось еще несколько недель. Пожилой водитель в старом ватнике, именуемом здесь «фуфайка», армейских брюках со старым камуфляжем – «цифрой» и валенках с замызганными галошами, ковырялся в моторе такого же пожилого, как и он сам, «ГАЗ-53». Откинутый капот, крылья, некогда белая, а теперь кое-как перекрашенная в камуфляж решетка радиатора старичка были все в осколочных шрамах, но водитель, кажется, не придавал этому значения. Насвистывая себе под нос знакомую всем с детства мелодию, старик ковырялся в моторе «газона» и не заметил, как к нему подошел по виду его сверстник, одетый, правда, куда более опрятно…
– Эх, путь-дорожка, фронтовая, не страшна нам кормежка любая, – напел подошедший слова, подходившие к мелодии, которую насвистывал шофер.
– …бомбежка, – поправил его тот, прерывая свои занятия и медленно оборачиваясь. – Хотя смотря где. Видал я такие кормежки, которые хуже бомбежки.
– А где? – уточнил подошедший. – Уж не на сборнике ли в Копейске?
Шофер посмотрел на подошедшего уже внимательнее. Ничего необычного в мужчине не было – пожилой, между шестьюдесятью и семьюдесятью, но ближе к шести десяткам; вместе с тем в хорошей для своего возраста форме, моложавый, лишь голова полностью седая. К тому же камуфляж сидел на мужчине как влитой, да и выправка была такая, что сразу выдавала военного или по крайней мере отставника. Лицо открытое, с правильными чертами, к тому же эти черты показались мужчине какими-то знакомыми, хотя человека этого он видел впервые.
Но главное – возраст, и эта фраза о Копейске…
– Бача?[1] – неуверенно спросил шофер. Мужчина с улыбкой кивнул:
– Бача.
– Шурави![2] – разулыбался шофер. – Прости, обнять не могу, руки в масле, как видишь. Ты здесь какими судьбами?
– Мне надо в город, – ответил «шурави». – Сказали, что ты довезешь. Ты же Дмитрий Анатольевич?
– Для тебя просто Димка-Невидимка, – продолжая улыбаться, ответил шофер. – А тебя-то как звать-величать?
– Александр Леонидович, – с улыбкой ответил мужчина. – Но для тебя просто Сашка, идет?
– А то! – обрадовался Димка-Невидимка, но тут же посмурнел. – В город, говоришь… нет, отвезти-то я тебя отвезу, но… там же сейчас пекло. Не везде, конечно, но прилеты всюду, да и ДРГ прорываются. Местные по подвалам сидят, только по ночи на улицу нос кажут, а некоторые так вообще из-под земли не высовываются. Бахмут – он же, знаешь, как тот айсберг: половина на поверхности, половина под землей.
– И что с того? – спросил Сашка. – Ты же туда все равно поедешь, несмотря на прилеты. Вот и возьми меня попутчиком. Если тебе нужна бумага с разрешением… – И Александр Леонидович полез было в переброшенный через плечо раритетный офицерский планшет[3].
– Скажешь еще! – фыркнул Димка. – Но что бумага есть, это хорошо, это ежели ВАИ остановит, тогда да, бумага потребуется, без бумаги и завернуть могут. Мне другое интересно, – говорил он, продолжая возиться под капотом, – что тебе в Бахмуте понадобилось? В военные ты уже по возрасту не подходишь, в добровольцы решил податься, что ли? Так они тоже возрастных берут сам через десять…
– Ну, ты же здесь шоферишь, – ответил Сашка.
– Я – другое дело. – Димка захлопнул капот, наподдав кулаком для верности, и отер руки ветошью, заткнутой за бампер, каким-то чудом сохранившийся у явно не вылезавшей из передряг машины. – Я в ополчении с четырнадцатого. В восемьдесят шестом ездил ликвидатором на ЧАЭС да познакомился с девочкой одной, из Донбасса. Ее авария через четверть века достала – умерла в 2008-м от лейкемии, только серебряную свадьбу сыграли. Да ты забирайся в кабину, чего стоишь? – добавил он.
В кабине «газона» царил ни с чем не сравнимый запах, свойственный, наверно, только этой марке грузовиков, – смесь кожи, машинного масла, нотка бензина, едва заметный флер махорки-самосада. Для многих повзрослевших детей СССР, даже городских, но ездивших на лето в деревню, этот запах был знаком с детства. У каждой машины он свой – у «ГАЗ-53» один, у «ГАЗ-66» – другой, у «козлика» – «ГАЗ-69» – третий… И все-таки война внесла коррективы и в этот привычный аромат – кисловатая пороховая гарь и металлическая окалина смешались с мирной атмосферой «газона», внося в нее тревожный оттенок.
– Я, брат, порой, грешным делом, даже думаю, что и слава богу, – продолжил Димка, забираясь в кабину. – Странно, да? Мне-то тяжко без нее, сам понимаешь, но она к Богу мирно отошла. Как чувствовала, хотя что там…
Он повернул ключ, и двигатель грузовика заурчал, ровно, как звучат старые, но исправные моторы.
– С четверга на пятницу ей было плохо, и на следующий день. Потом полегчало. В воскресенье она на службу сходила, она у меня набожная была. – Димка бросил взгляд на привычную трехчастную икону – Владимирская, Спас и Святой Николай, – висевшую над лобовым стеклом, а не на «торпеде», как у многих, и перекрестился. – Пришла домой такая вся радостная… она исхудала сильно, прямо просвечивалась, а тут будто сама светится изнутри. Мы вечером засиделись, смотрели по телику муру какую-то, и все прошлое вспоминали. А ночью ее не стало.
Тем временем грузовик выехал с огороженного полуобрушенным бетонным забором двора на улицу. Асфальт улицы был разбит, в прорехах дорожного покрытия серебрились ледком лужи.
– Ты на дорогу-то не гляди, – сказал Димка. – Дальше только хуже будет. Здесь и до войны дороги были такие – хоть плачь, а сейчас и подавно. Так вот, я чего говорю, ежели бы она до этого непотребства дожила, ох и больно бы ей было! Она ж у меня украиночка, с Полтавщины; до того, как в школу пошла, на русском не говорила. Сколько песен знала, как пела… – В уголках глаз шофера что-то блеснуло, он машинально протер их костяшками пальцев. – И Россию любила, и Украину свою. А нациков, – тогда еще зубры были, Лукьяненко, Чорновол-старший, Хмара… старые болтуны, а какую бучу заварили, – так их она на дух не переносила. Очень ее все это огорчило бы, так что, может, и к лучшему, что померла.
Он повернул руль, объезжая колдобину, и добавил:
– Да что я все о себе? Ты ж мне так и не сказал, бача, за каким таким интересом ты в это пекло лезешь.
Саша отвернулся к боковому стеклу, рассеянно глядя на руины, вдоль которых они сейчас ехали. Ни одного целого строения, от некоторых домов остались только обгоревшие контуры на грязно-серой земле, местами покрытой тонким и таким же грязным снежком. Зима еще не уступила свои права весне, а здесь, под Бахмутом, вообще царило какое-то безвременье – ни осень, ни зима, ни весна…
– Сын у меня там, – глухо ответил Александр Леонидович на вопрос Димы. – Сына я ищу.
Глава 2
Сильнее паче смерти любовь
Они познакомились в далеком 1996-м в подмосковном санатории. Капитан Северов прибыл туда из военного госпиталя, где оказался после ранения. Ранили его, по странной иронии судьбы, под населенным пунктом, называвшимся почти так же, как город, в который он сейчас ехал в поисках своего сына, – Бамут, на одну букву отличается. Ранение было тяжелым, в частности сильно было повреждено легкое, поэтому после продолжительного лечения Александра Леонидовича отправили долечиваться в ведомственный санаторий – из лечения, правда, было только усиленное питание и целебный воздух окружавшего санаторий соснового леса.
Ее он заметил сразу: среди немногочисленных женщин-пациентов ведомственного санатория она выделялась – была совсем юной и хрупкой как тростиночка. Они познакомились в крохотной и не особо интересной библиотеке санатория – взяв с полки книгу, название и автор которой как-то стерлись за прошедшие годы, что-то про историю то ли французского театра, то ли литературы страны Эйфелевой башни, Александр услышал сзади разочарованный полувздох-полувсхлип. Быстро обернувшись, он увидел перед собой эту девочку, которая, что греха таить, привлекла его внимание еще раньше.
Вблизи она выглядела еще привлекательнее – огромные глаза редкого зеленовато-серого цвета казались еще больше на фоне белой кожи и тонких, античных черт. Выражение лица девушки было разочарованным, и даже более того.
– Что случилось? – спросил он. – Что-то не так?
– Нет-нет, ничего, – поспешила заверить его новая знакомая, но капитан Северов не отставал:
– Ну я же вижу, что что-то не так! – повторил он. – В чем дело?
– Ну… да нет, пустяки, – попыталась ускользнуть от ответа девушка, но потом почему-то передумала: – Я просто сама хотела почитать эту книгу. Тут так мало интересных книг – или унылый соцреализм, набивший оскомину, или современные чернушные якобы детективы, от которых меня просто тошнит.
– Почему? – спросил невпопад Александр.
– Я не понимаю, зачем писать такое, – честно ответила девушка, – и так вокруг все плохо, а прочитаешь такую книгу – будто в грязи вывалялся.
– Согласен, – кивнул Александр, протягивая девушке книгу. – К тому же все эти боевики-детективы мало что имеют общего с реальностью. Вот, возьмите.
– Ну что вы! – Девушка густо покраснела, впоследствии Александр узнал почему – у нее была тяжелая форма анемии, и это была не самая большая ее проблема… – А что же вы читать будете?
– Газету «Красная звезда», – улыбнулся капитан, соврав при этом, – в те годы газет он не читал вообще. И телевизор не смотрел. – Вот что, а может, вы что-то мне порекомендуете? Вы же, наверно, пользуетесь этой библиотекой дольше, чем я?
– Ну да, – кивнула девушка. – Я здесь третий год уже, и боюсь… – Она вздрогнула и сменила тему: – Хорошо, давайте посмотрим, что здесь можно еще найти интересного.
Из библиотеки Александр и его новая знакомая Юлия ушли с двумя книгами: Александр взял биографию Микеланджело, которую Юлия ему посоветовала, а Юлия – книгу, которую он так в итоге и не прочел.
Сейчас Александр уже не помнил, как именно все происходило. Их с Юлией словно подхватил и увлек за собой какой-то поток, который вынес их к скромному загсу в Кунцево в декабре того же 1996-го. К тому моменту капитан Северов был уже уволен в запас по состоянию здоровья, а у Юлии, наоборот, наблюдалось серьезное улучшение здоровья, что при ее диагнозе было просто невероятным чудом.
Юлия, обладательница удивительно светлой фамилии – Солнцева, была дочерью офицера УФСИН, умершего перед самым началом Чеченской войны. Век Солнцева-старшего укоротила работа – в ИТУ, начальником которого он был почти пятнадцать лет, случилась вспышка туберкулеза, и, поскольку на дворе было начало девяностых, боролись с ней местными силами, в итоге палочка Коха поразила не только заключенных, но и служащих ИТУ и даже членов их семей. Отсутствие нормального лечения, да что там – отсутствие нормального питания в начале девяностых сыграло свою страшную роль: заключенные и те, кто содержал их под стражей, и даже члены их семей стали умирать один за другим. Юлия осталась сиротой, а потом туберкулез в самой, пожалуй, страшной форме – туберкулез кости и суставов – диагностировали уже у нее.
Лечение не помогало, болезнь медленно, но верно прогрессировала, пока на горизонте у Юлии не появился Александр. И дело тут было даже не в чувствах, хотя и в них, конечно, тоже: просто Северов, понимая, что девушка на белом свете одна, взял на себя ответственность за нее. Он устроился инструктором в одно подмосковное охранное агентство – там его с его боевым опытом приняли с распростертыми объятиями, а у Юлии появились и необходимые ей витамины в виде тропических фруктов и дорогие импортные лекарства…
Счастье длилось очень недолго, но эти полтора года Александр не поменял бы ни на что. Юлия расцветала; она играла ему на пианино, купленном капитаном в отставке у какого-то старичка с картонкой, которого он нашел на измайловской барахолке; он покупал ей по дешевке чемоданы книг… они путешествовали – правда, недалеко, в основном география их путешествий ограничивалась Подмосковьем, ну, максимум Тверь, Суздаль, Ярославль… Самое далекое от Москвы место, куда они выбрались, был Нижний Новгород – туда их привез круизный теплоход. Юлия очень любила речные прогулки, хотя в то время ее уже начинало укачивать на борту корабля…
О том, что Юлия в положении, они узнали поздно, в мае. При субтильном анемичном сложении Юлии беременность долго себя не проявляла, а изменения в фигуре молодые сначала списали на сильно улучшившееся питание девушки. Врачи просто за голову схватились, но сделать было уже ничего нельзя – шел пятый месяц, ни о каком прерывании и речи быть не могло. Да и Юлия бы на него просто не согласилась. Родила она тоже зимой, в новогоднюю ночь девяносто восьмого года. Сын Александра родился здоровым, хотя, конечно, за ним и за его мамой врачи очень пристально наблюдали. Юлия, ставшая к тому моменту очень верующей, поскольку, как она говорила, такое счастье, как у нее, просто не может быть результатом слепой случайности, решила окрестить мальчика с тем же именем, что и у ее мужа, – так у Александра Леонидовича появился сын и наследник, Александр Александрович…
А через полгода мальчик стал сиротой, а сам Александр Леонидович – вдовцом. Все произошло в середине августа. Шестнадцатого августа Юлия вернулась из церкви – она ходила туда каждое воскресенье, их семья жила в подмосковном Фенино, рядом с тубдиспансером, где Юлия состояла на учете, а как раз напротив этого диспансера находилась старинная церковь усадьбы Румянцева. Юлия была спокойной, даже радостной, уложила Сашку-меньшого в кроватку – тот уже активно осваивал мир вокруг себя, радостно агукал, ползал и пытался вставать на ножки – и присела в кресло, ожидая мужа, который был в городе по делам.
Там ее Александр Леонидович и застал, но уже мертвую. Врачи сказали, что причиной смерти был оторвавшийся тромб. Они сказали, что умерла Юля быстро и безболезненно. И действительно – ее лицо было полностью безмятежно, а на губах, которые смерть не изменила, они и раньше были бледными, застыла легкая улыбка.
И от этого Александру Леонидовичу, который до самой темноты не мог заставить себя уйти с кладбища в Балашихе, где Юлия нашла свой последний покой, было только еще тяжелее…
Глава 3
Особые обстоятельства
– Я воспитал его один, – завершил свой рассказ Александр. – Тяжело, конечно, было. Мне помогали и бывшие сослуживцы, и новые коллеги. Знаешь, Димка, я всегда был уверен, что русские люди самые добрые и отзывчивые. Все, без исключения…
– Это точно, – кивнул шофер.
– …ведь смотри, – продолжил Александр, – взять тех же новых русских. Скажем честно – большинство их были настоящими бандитами. И то ведь помогали, люди, которые, казалось бы, за копейку удавятся, без просьб открывали тугие лопатники, оплачивали то, что я ни просил, а на предложение отдать долг только отмахивались как от назойливой мухи: ну, может, потом когда-нибудь…
Потом была Вторая Чеченская, я не знал что делать – понимал, что мое место там… а на кого же я Сашку брошу? Обратился к руководству, и меня взяли на штабную должность в Москве, замещать офицера, ушедшего «на зеленку» по зову сердца. Уходили многие, хотя могли отсидеться в безопасности, вдали от свинцовых вьюг. Некоторые потом возвращались – кто целый, кто израненный. Другие там и остались. В 2002-м мое дело пересмотрели и отправили опять в отставку, военным пенсионером, но с присвоением очередного звания. Брали меня на майорскую должность, сразу и звездочки подоспели. Потом дали подполковника, а в отставку выпроводили уже в папахе. Ну не торчать же на пенсии? Закончил пединститут, заочно, устроился учителем истории – не мог сидеть на месте, да и Сашка, когда в школу пошел, был под присмотром.
Знаешь, я ведь чувствовал себя виноватым перед ним. Штабная должность – это, конечно… но ведь тоже – и командировки, и на работе допоздна засиживаешься порой. Пришлось отдавать его в детсад на шестидневку – наш, ведомственный, но оттого не легче. Вот я и решил, что в школе он на продленке сидеть не будет, а если будет, то со мной. Военная пенсия с доплатами да учительская зарплата – нам с ним хватало. Сашка, конечно, хотел пойти на военного… я был против. Выучился на архитектора. Занимался биатлоном, многоборьем – на последнем упал с лошади и получил декомпрессионную травму позвоночника, не такую, чтобы серьезно, но повозиться пришлось.
Александр вытянул руки на «торпедо», хрустнув пальцами:
– Я и тревожился, и радовался грешным делом. Не смотри на меня так, у Сашки все время идеи какие-то были: то в Сирию он хотел, то на Донбасс в ополчение. Но с декомпрессионным переломом в анамнезе его, конечно, не взяли бы. Он это понимал; расстраивался, конечно, но плетью обуха не перешибешь. А тут СВО. Он сразу в военкомат – с четвертого курса универа, учится на архитектора, отличник, да и нравится ему это. Академку я ему потом оформил, чтобы доучился…
Александр застыл, пустым взглядом глядя на дорогу. Если есть дороги в аду, то выглядят они как раз так: старое, еще советское полотно – ничего нового Украина так и не построила за четверть века, а то, что построила с горем пополам, пришло в негодность даже раньше, чем то, что делалось при Союзе. Покрытие латаное-перелатаное, где асфальтом, где гудроном, где просто колдобины гравием засыпаны… да еще и свежих воронок как дырок в хорошем сыре – меньше прямо едешь, чем объезжаешь…
– В военкомате его, ясен день, развернули – я в этом был уверен, но у него же друзей вагон с прицепом. Некоторые еще из садика остались, а там ведь дети все сплошь из наших. Был один парень, Генка. Шалопай, папа из УФСИН, сам вырос при колонии, да туда же в итоге загремел. Откинулся как раз перед СВО, статья у него плевая была, хулиганство, часть первая, плюс освободили по УДО. Но срок за плечами – сам понимаешь, как клеймо на лбу. Как-то попал к ополченцам, вот он Сашке-то и присоветовал.
В армию Народной Республики его взяли сразу – лейтенант запаса, он все-таки военку сдал в своем институте; хорошая физическая форма, после травмы он уже через год к тренировкам вернулся, любит свое пятиборье. Отправили в тренировочный лагерь, он писал – готовят на офицера. Он часто писал. Потом письма стали реже. Потом, как закрутилось здесь, перестали приходить вообще.
А на днях мама Генки мне позвонила – Генку-то уж полгода как домой привезли…
– Груз двести? – уточнил Димка.
– Триста, – ответил Александр. – Но очень триста – после обстрела его нашли едва живым: множественные осколочные, контузионные переломы, ты, наверно, навидался такого.
– Не иначе как Ангел вынес, – кивнул Димка, а Александр продолжил:
– Врачи его с того света вытащили, конечно, но, во-первых, ходить он не может, сильные повреждения в крестцовом отделе, восстановится или нет – неясно. А во-вторых, он после черепно-мозговой травмы в себя не приходит никак. Ничего вокруг не видит, словно застрял в том дне, когда его контузило…
– Да уж, – вздохнул Димка, – ты прав, я такого навидался, как говорит молодежь, развидеть бы как-то теперь…
– Так вот, Катя мне и говорит, – продолжил Александр, – дескать, ушел твой Сашка на боевое задание, да и пропал без вести. Тут есть какой-то перекресток, который наши уже месяц грызут, или вроде того…
– Ага, есть, – подтвердил Димка. – Стоп-стоп, а твой сын позывной-то какой имел?
– Вот чего не знаю, того не знаю, – ответил Александр, глядя на обгоревший корпус «мотолыги», который в это время объезжал Димка; теперь на дороге кроме воронок и колдобин мирного происхождения появились новые препятствия – разбитые и сгоревшие машины, тягачи, БТР, трактора, прицепы… был даже «Икарус» вроде тех, которые лет сорок назад развозили пассажиров в крупных городах. От «Икаруса» один скелет остался да еще и располовиненный там, где была «гармошка», – как-то не спрашивал.
– То-то я в тебе что-то знакомое увидел, – сказал Димка. – Ты, похоже, отец Сашки-Зодчего. У него как раз группа три недели назад на Перекресток ушла, и с концами. Конечно, не одна она там сги… пропала, но Сашкина на слуху, как и он сам.
– Почему? – удивился Александр.
– Потому что сын твой – настоящий герой, – ответил Димка, очевидно уже записавший таинственного Сашку-Зодчего в сыновья Александра, – и ас разведки. Здесь, конечно, героев много, но таких как он по пальцам пересчитать можно.
Эти слова согрели сердце отставного подполковника Северова, но тревогу отнюдь не рассеяли…
– Ты, брат, все равно надейся на лучшее, – посоветовал Димка, объезжая старенький СТЗ, наполовину сползший в кювет, и перевернувшийся на бок его четырехосный прицеп. По дороге были разбросаны стреляные гильзы. Увидев, что Александр обратил на них внимание, Димка пояснил: – ДРГ гуляло. Раньше они сюда часто прорывались, теперь реже, от «Самолета» не находишься. Зато новая беда появилась, хотя как новая – и раньше была, а теперь просто спасу нет: беспилотники. Летают как скаженные, но сегодня пока не было, тьфу-тьфу-тьфу…
Он вновь вывернул руль, на этот раз чтобы объехать заполненную кашей из грязи, снега и льда воронку.
– Верить надо, – продолжил он свою мысль. – Вот моя Галечка в Бога верила, и я думаю: теперь она у Него и оттуда бережет меня да сыновей наших. У меня их двое: старший тоже Дима, меньшой Орест, в честь покойного тестя. Оба в ополчении воевали, Дима сейчас в «Пятнашке», вернулся после госпиталя. А меньшой как раз в госпитале, но тоже уже думает вернуться, да врачи не пускают.
Я к чему это? Орест мой как раз в штурмовиках; там по два-три состава сменилось с того момента, как начался штурм Бахмута, а Оресту хоть бы хны. Неделю назад наши заходили на АЗОТ, точнее, зашли-то они на него раньше, но там до сих пор жара стоит – мама не горюй. Там два корпуса, между ними железки полотно, шпалы есть, а рельсы еще при хохлах на металл сдали, но пространство широкое, пустое, значит, простреливаемое. На этой стороне – Орест со своей группой, на той – другая группа. В общем, ту, вторую, как-то срисовали, накрыли минометами или из гранатометов – в том адище кто разберет? Двухсотых не было, а затрехсотились все, почитай. Плюс пара тяжей – надо вытаскивать, сам понимаешь, для некоторых каждая минута – это ступенька на тот свет, и лестница туда не то чтобы длинная.
Мой подождал, пока бандеры притихнут, и рванул со своими через эту железку. И тут, говорит, чувствую: что-то под ногой… Думаю, ты знаешь, как это бывает в бою: ты чувствуешь такие вещи, хотя до того на что только не наступал – куски бетона, обломки досок и шпал, железяки… а тут понимаешь, что необычное что-то, и не просто необычное…
Орест говорит: «Меня будто за шкирятник кто поднял, как кошка котенка, и вперед швырнул». Сзади грохот – этот б… проклятый звук на Донбассе уже и в тылу знают хорошо – «лепесток», чтобы его создателей черти в аду ж… жарили… «Лепесток» – он только на вид прост, а на деле там продуманная конструкция. Рассчитан он на то, чтобы оторвать солдату ступню, как бы он на эту срань ни наступил. Так оно и бывает – хоть беги, хоть крадись, наступил – прощай, ступня, а тут ничего. Да и это не все. Переждали обстрел, потащили наших трехсотых к своим, уже смерклось. Орест шел последним, со стороны противника. И опять зацепился за что-то, сразу понял – растяжка. А перед ним двое третьего волокут, трехсотого. Орест их толкнул, что они попадали, и сам развернулся спиной, иначе и не выжил бы. На этот раз осколочная какая-то, натяжного действия – веер пошел хорошо, но спину и плечи поцепляло, не без этого, да щеку разодрало. На вид страшно, а Орест лыбится, говорит: «Мужчину шрамы украшают…»
Димка замолчал, опять сосредоточившись на маневре вокруг очередной воронки. Потом добавил:
– Они с братом у меня тоже верующие, в память о маме своей. Хоть расстреливай меня – думаю, их Бог бережет, и Орест не зря говорит, что его как за шкирку кто-то поднял. Я ж Библию тоже читал: когда Петра-апостола закрыли на крытку, ангел его будил, толкнув в бок. Может, и сына моего какой ангел за шкирятник оттащил от мины, которая предназначена для того, чтобы оторвать ступню бегущего человека. А у него на берце даже следов не осталось, прикинь…
И тут Димка замолчал, нахмурился, глядя вверх, в небо, а потом тихо выругался:
– Ну вот… говорил я тебе об этой напасти, и на тебе. «Птичка» над нами, брат. Сейчас прилеты будут…
Глава 4
В огне, под градом раскаленным
Да, эта война не была похожей на те, которые подполковник в отставке Северов видел раньше. Не то чтобы в Афгане или Чечне совсем не знали, что такое артналет или бомбежка – гаубиц, минометов и китайских РСЗО и душманам хватало, а у Дудаева было даже собственное авиакрыло из захваченных в Армавире самолетов, не говоря уж о сотне танков, полутора сотнях пушек, сорока РСЗО…
Но сейчас все было по-другому: находясь в десятках километров от дороги, по которой двигался покрытый шрамами и матом Димки «газон», наводчик гаубицы нацистов тем не менее видел автомобиль глазами своего беспилотника и бил по нему так, как охотники бьют дичь. И все-таки у грузовика были шансы, ведь снаряд летит до цели какое-то время, пусть это время исчисляется буквально десятками секунд – можно успеть сманеврировать. Именно этим и занимался Димка, попутно кроя матом все жовто-блакитное, а уж Зеленскому с его бандой и его западным покровителям доставалось так, что, услышь они пожилого донецкого шофера, со стыда померли бы, несмотря на полное отсутствие у них этого стыда и совести в базовой комплектации. Тем не менее это был страшный поединок воли – старенькая, не особо маневренная машинка, ускользающая от тяжелых «прилетов», осыпающих ее осколками. Зазмеились трещины по новенькому, очевидно недавно замененному, лобовому стеклу, дробный стук, словно от града, доносился от капота, от крыльев, от кузова…
– Это хорошо, что сейчас снарядов у них не так много, – сообщил Димка, резко выворачивая руль – кроме «прилетов», надо было еще и воронки объезжать. – Как раньше, они уже не палят. Сейчас по нам работает одна «Мста», да еще и расстрелянным стволом. А били бы две-три или что-то вроде «Паладина» или «Топоров», тут уж я не знаю, как бы мы выкрутились. – И, словно для того, чтобы проиллюстрировать свой тезис про «выкручивания», Димка резко переложил руль в противоположную сторону. Вовремя – прилет случился прямо рядом с «газоном», так, что машину тряхнуло, словно в нее что-то массивное врезалось.
Александр удивлялся тому, что совсем не чувствует страха. Словно это было не с ним, словно он смотрел все это по телевизору. Ладно Димка, он, во-первых, привык, во-вторых, был занят тем, что, как он выразился, выкручивался – например, резко вдарил по тормозам, аккурат перед тем, как снаряд взорвался прямо у них по курсу, вынеся полностью лобовое стекло. Прилет был так близко, что машину на короткое время накрыло дымо-пылевым выбросом, скрыв от глаз чертова беспилотника.
– Держись, бача! – выкрикнул Димка, ударяя по газам. – Прорвемся, не пальцем деланы! – И помчался прямо через свежую воронку. Машину трясло, как катер в семибалльный шторм. Вырвавшись из облака разрыва, «газик» рванулся к видневшимся вдалеке первым строениям Бахмута, а Димка на ходу пригрозил кулаком назойливому «мавику»:
– Чтоб тобой черти в футбол играли, су… – Он закашлялся от попавшей в легкие пыли. – Сбил бы его кто, но где ж тут взяться ПВО? Разве что ангел-хранитель…
Сначала они не поняли, что произошло, поскольку это совпало с очередным прилетом, который лег, к счастью, с сильным перелетом. Потом Александр заметил дымящийся след, а вслед за ним заметил его и Димка:
– Ты смотри! Господь опять услышал…
Беспилотник кто-то «опустил», но кто? Впрочем, загадкой это было недолго – впереди на дороге показался силуэт «мотолыги», замершей чуть впереди разбитого старенького БМП-1. Поверх корпуса МТ-ЛБ стояла ЗУ-23-2 – спаренная двадцатитрехмиллиметровая зенитка, такие Северов хорошо помнил еще по Афгану – их там тоже ставили в кузов грузовика или на корпус БТР, но не для того, чтобы «опускать» вражескую авиацию или раритетные, экзотические на то время БПЛА, а чтобы отбивать атаки засевших на горных склонах духов. Да и в Грозном такие «тачанки-ростовчанки» лихо косили дудаевцев на верхних этажах зданий, и только на них порой и была надежда.
Не то чтобы применение этих орудий для Александра, внимательно следившего за ходом СВО, было новостью, и все-таки на душе как-то потеплело, будто встретил на улице сослуживца. С падением беспилотника обстрел тоже прекратился, а Димка, поравнявшись со своими спасителями, дал по тормозам.
– Все, шабаш, перекур, – сказал он, вынимая из замызганной разгрузки, висевшей сбоку на сиденье, – на чем она там держалась, было непонятно, – мятую пачку сигарет. – Закуришь, бача?
– Бросил, – покачал головой Александр. – В девяносто шестом еще.
– Я тоже бросал, – сказал Димка, подкуривая. – А потом опять закурил. Тут, глядь, по-другому не получается. Синька и прочая головоломка у наших не приветствуется, да я и сам не дурак, чтобы в такое кидаться, а курево хоть и вредное, но нервы хоть как-то успокаивает…
– Ну че, штатские, – раздался голос с дороги. – Штаны сухие? Как поездка?
– Бывало и похуже, – ответил Димка подошедшему пареньку в странной форме. – А ты чьих будешь, молодой да борзый?
– «Пятнашка», – ответил парень, показывая рукой на шеврон. – Не видишь, что ли?
– Из кабины не видать, – ответил Димка. – Сейчас вылезу – рассмотрю. А за «птичку» спасибо, ловко вы ее.
– Такая работа, – пожал плечами боец. Димка и Александр тем временем выбрались из машины. – Куда это вы одни ломанулись?
– До Бахмута, как будто тут еще куда-то можно, – ответил Димка, осматривая грузовик и временами довольно цокая, – не, ну ты глянь, лейтенант, по нам бандеровская «Мста» отработала, а лошадке хоть бы что. За стекло молчим, вообще блажь было его ставить.
– Так, видать, водитель хороший, – подмигнул лейтенант; тем временем из импровизированной ЗСУ показались и другие бойцы. – Я видел, как вы на дороге крутились. Один раз аж сердце зашло, когда по вам, как мне показалось, прилетело…
– Не долетело, – поправил его Димка. – Чуть-чуть укроп не дотянулся.
– Вот что, – сказал лейтенант. – Там наша колонна впереди. Мы сейчас за ней, а вы к нам в хвост пристраивайтесь, доведем вас до Сашки-Танкиста, а там уж сами как-то, идет?
Глава 5
Земля легенд
– А Сашка-Танкист – это кто? – спросил Александр, забираясь в кабину «газона», после того как Димка аккуратно выгреб оттуда все битое стекло.
– Гаврош местный, – пояснил Димка. – Паренек лет восьми, а то и меньше. Где-то раздобыл танкистский шлем и встречает наши колонны, отдавая честь, как знаменитый Алеша. Таких ребятишек по всему Донбассу десятки. Но тоже смелость надо иметь – не только у нас глаза на той стороне, у бандер на нашей тоже есть. Не любят они таких, которые наших встречают как родных… хотя тут таких чуть больше, чем каждый, я имею в виду вот так, смело. Чуть узнают – охотиться начинают. За мальцом и ДРГ могут выслать, и артой вдарить, даже, говорят, точку по одному запустили, хоть, может, и байки это.
Тем временем «газон» шел в кильватере у «мотолыги», весело урча двигателем, словно понимая, что под защитой.
– Парень – легенда, – задумчиво кивнул головой Александр.
– Ага, – согласился Димка. – Хотя тут в кого пальцем ни ткни, все легенда. Про меня тоже говорят, что легенда, а я что? Вожу туда-сюда грузы – туда снаряды да пайки, оттуда в основном трехсотых. Раз вез командира из ополченцев – руку пуля из ДШК разнесла, живот осколок мины пропахал так, что весь ливер наружу, но живой. Сам понимаешь, везти надо было так, чтобы хуже не стало, хотя и так куда уж хуже, а дорога сам видишь какая, да еще и бандеры тогда к нам ближе стояли, на полдороги стодвадцатимиллиметровыми минами угощали будь здоров! Но довез, чего уж там. Собрали офицера обратно, даже руку отнимать не пришлось, но тут уж врачам спасибо, а не мне. А еще раз вез одного пленного, или не пленного – фиг поймешь. Вэсэушник, по виду из лампасников, но, ясен пень, без знаков различия, при нем портфель. Это я потом уж узнал, что он с четырнадцатого нашим инфу сливал да попалился на чем-то. Его расстреляли, но стреляли его же люди – холостыми, значится. А потом он с какими-то жутко секретными бумагами через нейтралку к нашим полз да попал к ахматовцам. Те его попервах чуть не порешили, потом разобрались правда…
Димка помолчал и добавил:
– А сын твой, бача, разве не легенда? Вот уж кто легенда – Сашка-Зодчий… батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Так что, – он хохотнул, – если есть на свете край легенд, то ты как раз в него попал.
«Легенду Бахмута» Александр чуть не проспал, задремав, все-таки он уже был немолод и такая усталость для него уже не была привычной. Тем не менее у въезда в Бахмут его словно ткнул в бок тот самый ангел, который будил апостола Петра. Вскинувшись, Александр не сразу понял, где находится. Впоследствии он решил, что проснулся потому, что Димка притормозил, а тот притормозил, в свою очередь, потому, что увидел…
Невысокий, худенький, одетый в камуфляж, по виду не новый и явно подогнанный из взрослого на детскую фигурку, с большим танкистским шлемом на голове, которая держалась на тоненькой бледной шее. Лицо Александр разглядел довольно хорошо, несмотря на опускающиеся сумерки и расстояние. В том храме, который его жена Юля посещала и где была накануне смерти, на потолке была необычная икона Святой Троицы – на ней Сын Божий, младенец, сидел на руках у Бога-Отца. Икона эта, как сказала Юлия, называлась «Отечество» – не в смысле «Родина», а как материнство, только со стороны отца.
К этому образу сам Александр часто приходил, когда остался вдовцом. Во-первых, потому, что продолжал носить, а потом и водить в храм Сашку-младшего, а во-вторых…
Он говорил с Ним, со Старцем, держащим на руках божественного младенца. Потому что верил – именно Он может его понять. Тот, кто однажды увидел своего Сына на Кресте. Александр ни разу не жаловался, но просил помочь – не в материальном смысле, с этим у него было благополучно, – он просил помочь пережить потерю Юлии, страшную тоску по ней.
Спустя много лет, закрывая глаза, Александр вновь и вновь видел перед собой эту икону, а сейчас мальчик, отдающий честь проезжающим мимо машинам, так живо напомнил ему лик Христа, сидящего на коленях Отца, что в душе Александра что-то задрожало, как дрожит в горле перед слезами.
Глава 6
Сашка-Танкист
«Мотолыга», спасшая их от обстрела, замедлилась, а затем и вовсе остановилась у импровизированного блокпоста Сашки. Из кормового люка выбрался бравый лейтенант, в руках у него была сумка – обычная зеленая сумка из «Ашана». Димка тоже притормозил.
– Здорово, Сашка, – услышал Александр голос лейтенанта.
– Здравия желаю, товарищ лейтенант, – ответил мальчонка голосом абсолютно детским, хотя и не таким звонким, как у детворы из России. Была в этом голосе какая-то нотка, от которой мороз по коже пробирал.
– Я вот к тебе с гостинцами, брат! – Лейтенант протянул пареньку сумку.
– Спасибо, товарищ лейтенант! – ответил Сашка. – От меня и от всего нашего кагала.
– Сколько их там у тебя? – спросил лейтенант, закуривая.
– Да хто ж их считал? – пожал плечами Сашка. – Багацько. Может, сто, может, и двести. Может, и больше – я все равно столько не сосчитаю. Хлопчакив да дивчат только тридцать пять… – паренек посмурнел, – тридцать четыре, Гриша Павлишин помер.
– От чего? – удивился лейтенант.
– По воду сходил. – В голосе Сашки послышалась совсем не детская злость. – Только под утро нашли, вже холодного. Чи снайпер, чи просто пулю якось схлопотал.
– Снайпер? – Александр удивленно посмотрел на Димку, который тоже прислушивался к разговору, шаря в бардачке правой рукой.
– Ага, снайпер, – кивнул тот.
– По ребенку? – уточнил Александр.
– А им, падлюкам, все равно по кому, – зло ответил Димка. – Солдата сложнее снять, чем мирняк, вот они и охотятся, – и Димка выдал на-гора еще одну емкую, но совершенно непечатную характеристику украинских «воякив».
– Так вы бы перебирались сюда, поближе, – посоветовал лейтенант. – Сидите аж возле рынка, оттуда ж до Перекрестка доплюнуть можно. А в заречье и прилеты реже, и ДРГ уже почти не заходят.
– Не скажи, дядьку, – возразил ему Сашка. – За реку можно только по верху пройти или совсем глубоко. А в глубоких тоннелях даже мени боязко. До того ж, у многих родные в убежище – на кого их бросать? Та ничего, у рынка убежище крепкое, и дядько Мышко, безногий, – хороший комендант…
Обменявшись с пареньком еще парой фраз, лейтенант поспешил к «мотолыге». Димка спешно выскочил из кабины и подбежал к Сашке, который как раз поднимал тяжеловатую для него сумку. Лицо Сашки засияло улыбкой:
– Дядя Димка! Давно не бачились!
– Так я туда-сюда ментеляюсь, не с конвоями, сам по себе, – виновато сказал Димка. – От и не пересекались. Прости, брат, я без продуктов, зато смотри, что я тебе привез! – И он протянул парню что-то, умещавшееся на ладони. Парень аж подпрыгнул от радости:
– Спасибо, дядь Дима! Не забыли, выходит?
– Не, не забыл, – улыбнулся Дима. – Ну бери, брат, а я поеду наших догонять.
– Что ты ему подарил? – спросил Александр, когда Димка забрался в кабину.
– Брелок с танком, – ответил Димка смущенно. – «Тридцатьчетверка» из бронзы, мне племяш из Москвы привез специально. Он с тех пор, как ему ногу отняли, – на лепестке как раз разнесло, – гуманитарку возит, вот и захватил. Мне то шо, а парню в радость.
Димка тяжело вздохнул:
– Укроп падлючий… у Сашки в убежище и правда много народу, и тут так везде – дома все в руинах, народ по подвалам шкерится, старики да дети; мужики с бабами или перебиты, или в ополченцы подались, одни деды с бабками да пацаны с девчатами остались. Сашка ж не себе сумки тягает, он на все свое убежище собирает. Раньше один работал, теперь вроде еще ребят подтянул, хотя говорил, что не хочет никого впутывать – опасно это, сам пару раз под обстрел попадал, раз его чуть ДРГ не схватила, да он вырвался, рубаху у них оставил, штаны на бегу разодрал на заборе, а шлем сохранил. Герой пацан, герой…
– А чего их в тыл не вывезут? – удивился Александр.
– Ты ж «Икарус» по дороге небось срисовал? – спросил Димка. Александр кивнул. – Пытались вывозить. С той стороной даже договорились, та хиба с собакамы скаженнымы домовышся? Слава богу, на пробу пустили его порожняком: автобус белый, на крыше, на боках, сзади, спереди – здоровенные красные кресты, надпись «Дiти», дети то есть, на хохляцком… и посреди трассы эти тварюки по нему из «Града». Вывезли, мля…
Он чуть притормозил, «газон» как раз догнал колонну, но сразу же отвернул в другом направлении – вокруг уже был Бахмут, и им с их защитниками было уже не по пути.
– Как будто не мать их родила. Матов на них не напасешься, как ни назови – все мало. Это ж их дети! Ну хорошо, считают они нас сепарами, а в Бахмуте кто? А на Харьковщине, в Херсоне, где они своих вырезали районами да селами – не свои? Чужие? Так кто ж здесь оккупант – русские, которые гуманитарку раздают, или эти потерчата, что по машине с детьми из «Града» шмаляют? Я сам у того «Икаруса» за рулем был, едва не спекся, ну, слава богу, выбрался, видать, бережет меня с неба моя Галочка. А будь там действительно дети? – и Димка опять виртуозно выругался.
Глава 7
Я начинаю путь
– И как же ты будешь искать своего Сашку? – спросил Димка, когда они прощались. «Газон» стал под разгрузку, из его кузова четверо бойцов-ополченцев вынимали ящики с маркировкой Министерства обороны, таская их ко входу в подвал разрушенного цеха. Димка держал в руке раскрытый портсигар, но так и не достал из него сигарету.
– Расспрашивать буду, – ответил Александр, – фото показывать…
– Ты зря распечатанные не взял, – кивнул Димка. Фото Сашки-младшего Александр показал ему на своем телефоне, но тот парня не узнал.
– Ты не удивляйся, – добавил он. – Легенда на то и легенда – видел я его только мельком, навскидку похож, но божиться не буду.
– Спасибо, бача, – ответил Александр, пожимая руку Димки. – За то, что довез, да и вообще…
– Не за что, шурави… – сказал тот, отвечая на рукопожатие. – На меня ссылайся, если что. Ну, до встречи. Буду ждать тебя в обратку, да не одного, а с сыном.
– Спасибо, – повторил Александр, и голос у него дрогнул. Димка не ответил, и Александр, развернувшись, побрел к выходу.
– Ориентируйся на стрельбу, – донеслось ему вслед. – Где больше палят, там и Перекресток. Сейчас только вокруг «Самолета» да на АЗОТе воюют, ну, в городе, конечно, тоже постреливают, не без того.
– Хорошо, – ответил Александр, не оборачиваясь. Он не хотел прощаться с Димкой. Попрощаешься – и, может, навсегда: либо его косая заграбастает, либо тебя.
– И вот еще, – донеслось ему вслед, – будешь у Перекрестка, поспрашивай Сашку-Танкиста, он там южнее, у рынка и автовокзала, в убежище. Не только его каждая собака в Бахмуте знает, он и сам с каждой из них, похоже, знаком…
Александр действительно не знал, как будет искать сына, у него не было никакого плана – добраться бы до Бахмута, а там, мол, посмотрим. И вот он в Бахмуте. На город все это было мало похоже: ни одного целого здания, пепелища, пожарища, руины… каменные костяки домов, зияющие пустыми глазницами закопченных оконных проемов, через которые было видно грязно-серое небо, поскольку ни у одного дома не было ни одной целой крыши…
И канонада – казалось, она была повсюду, казалось, что Александр был в эпицентре какого-то урагана стрельбы. И все-таки в этой военной какофонии выделялись отдельные голоса – басовый кашель гаубиц, минометов, свист и хриплые разрывы эрэсов, цокот пулеметов и автоматов…
Потом диссонанс войны приобрел некоторую упорядоченность, почти что гармонию – Александр примерно определил направления, с которых доносилась основная канонада: север и северо-запад. Вспомнив карту Бахмута, он уверенно направился на северо-запад: зловещий Перекресток находился где-то там.
Далеко пройти ему не удалось – каким-то шестым чувством Александр понял, что нужно убраться с улицы, и метнулся в проход между руинами двух пятиэтажек как раз вовремя – прилет чего-то тяжелого, может быть снаряда РСЗО, сбившегося с курса, наполнил пространство между домами дымом и осколками металла, кирпича, асфальта… Придя в себя после грохота разрыва, Александр решил по возможности не выходить на открытые пространства и стал пробираться между домами.
Мимо него по дороге проехал «Тигр», не немецкий танк, конечно, а современный российский джип – в обычном демисезонном черно-зелено-белом камуфляже, но с красными крестами медслужбы. Проследив за ним, Александр приметил, куда тот свернул, и направился туда же. Вскоре он оказался во дворе бывшей поликлиники. Правда, здание медучреждения было сильно разрушено прицельным огнем укропов, но само учреждение продолжало работать как лазарет, заняв обширное бомбоубежище во дворе. Об этом, правда, Александр узнал несколько позже, вначале его внезапно огрели чем-то сзади и повалили наземь. Сознание Александр не потерял и даже, вспомнив былые навыки, ухитрился извернуться, уклонившись от следующего удара.
На него напали двое в камуфляжных костюмах. В руках у них было оружие – «калаши», но какие-то необычные, Александр сразу понял – нерусские. А значит…
– Эй, мужики! – что есть мочи заорал Александр. – Я свой, чего вы деретесь?
С того места, где на Александра напали, уже был виден блокпост, на котором дежурила охрана госпиталя. Конечно, крик привлек их внимание: один из них поднял рацию и что-то быстро стал в нее говорить, другой вскинул автомат…
Из темных чрев окружавших проезд домов разом ударили автоматные очереди. Оба стоявших на посту солдата были то ли убиты, то ли ранены. Но произошедшее отвлекло напавших на Александра бойцов. Поняв, что это его последний шанс, Александр вскочил с земли, схватил одного из противников за автомат и рванул на себя, развернув в сторону другого врага. Вырвать автомат сначала не удалось, но второй противник, видимо с перепугу, спустил курок – очередь ударила по ногам его напарника, и тот рефлекторно выпустил оружие.
Завладев автоматом, Александр не стал сразу же стрелять, а бросился в один из темных дверных проемов – оттуда кто-то выбегал ему навстречу, и Северов на ходу врезал ему прикладом в живот. Сзади послышались выстрелы, рядом взвизгнули пули… развернувшись, Александр ответил очередью и даже попал – в того бойца, которого огрел прикладом в дверях. Тот как раз поднялся с земли – только для того, чтобы опять упасть, на этот раз замертво.
К сожалению, Александр немного подрастерял навыки и в спешке не проверил переводчик огня, а магазин автомата, по-видимому, был не полным – патроны закончились, а с улицы по нему продолжали стрелять. Вжавшись в стену, Александр пытался достать из планшета нож и тактический фонарь – он не знал, куда двигаться в этом темном чреве разрушенного здания, и хотел не быть совсем безоружным, когда его преследователи придут…
Он ждал атаки с улицы, а атаковали его из дома. В темноте кто-то внезапно крепко схватил Александра за шею. К тому моменту Северову почти что удалось достать нож, а почувствовав захват на горле, он выдернул его из подвеса на планшете и резко ударил им вниз и назад. Раздался характерный причмокивающий звук – лезвие вонзилось в чью-то плоть. Тот, кто схватил его, выдал какой-то неописуемый нечленораздельный звук, но захват не ослабил, а рукоять ножа предательски выскочила из пальцев Александра. Пока тот пытался нащупать ее, одновременно напрягая мышцы шеи, чтобы не дать себя задушить, ситуация снаружи изменилась. Александр узнал об этом не сразу – сначала его ослепил луч мощного фонаря из дверного проема, потом раздалось несколько выстрелов – и смертоносный захват ослаб.
– Спасибо, мужики, – прохрипел Александр, – я…
Но неизвестные, зайдя справа и слева, резко заломили ему руки за спину, пригибая к земле. И этот «почерк» был Александру хорошо знаком.
Когда в жизни человека происходит что-то судьбоносное, например на грани смерти, говорят, что перед его глазами проносится вся жизнь. А сейчас как будто само прошлое провожало Александра туда, куда он шел.
Его аккуратно, стараясь не причинять боли, но и не дать возможности вырваться, вывели на улицу. Глядя вниз, на берцы своих сопровождающих, подполковник в отставке Северов сказал:
– А вы чьих будете, соколята?
– Тебе-то какое дело? – ответил тот, что шел справа.
– А я вижу, что вы, кажись, софринские, – улыбнулся Александр Леонидович. – Угадал?
Глава 8
Свои…
В комендатуре, находившейся совсем рядом, на территории бывшего военкомата, разобрались быстро – усталый молодой офицер с повязкой на глазу просканировал документы Александра, дождался ответа, подтвердившего их подлинность… очевидно, с ответом пришла еще какая-то информация, точнее не какая-то, а очень даже определенная: именно в 21-й ОБРОН Александр Леонидович служил до своей отставки после ранения под Бамутом (на одну букву отличается! – все удивлялся Александр).
– Могли бы сразу к нашим обратиться. – Голос капитана был уставшим и каким-то раздосадованным, что ли, как у человека, потерявшего бумажник с премией. – Мы бы вам помогли… а кстати, зачем вы вообще сюда приехали?
– Сына я ищу, – лаконично ответил Александр Леонидович.
Капитан заинтересовался:
– Сына? Он из гражданских или…
– Или, – ответил Александр. – Воевал, ушел на задание, пропал без вести.
– Давно? – уточнил капитан.
– Две недели, – ответил Александр, – уже, почитай, три. Думаю, не найду живого, так хоть похороню останки…
– Тут этих останков на год разбирать, – проворчал капитан; определенно, его что-то беспокоило, может, он из-за глаза так нервничал? Очевидно, потерял он его недавно. – Мы-то своих сразу стараемся погребать по-человечески, гражданских тоже, да и укропов… тоже ведь люди, как ни крути, хотя по их поведению и не скажешь…
– Много навидались? – с пониманием спросил Александр. Комендатура – это не только проверка документов; те деликатные вопросы, о которых говорил капитан, тоже были в ведении этой структуры.
– Много, батя, – кивнул офицер. – Как только не поседел? Когда наши детей хоронили, на клочки порванных, те ночью на улице играли, а рядом, оказалось, корректировщик нациков крутился – подсветил место, бандеры по нему осколочной миной жахнули, сто шестьдесят миллиметров, мы такими в укрепрайоны шмаляем, а они по своим детям. А уж на освобожденных территориях чего только не находили…
Офицер отодвинул скрипучий стул и неуклюже встал – вероятно, одним глазом его проблемы не ограничивались.
– Пошли покурим, батя? Понимаю, что вы спешите, но пять минут ничего не решат. А про вашего сына я ребятам скажу; мы тут ДРГ ловим в основном… – Капитан скривился, как от внезапного прострела в зубе. – Сам видел; но наши бойцы есть по всему тылу. Узнают, расспросят. Если кто что видел, расскажут. Твой пацан где воевал?
– В ополчении, – ответил Александр, глядя, как капитан достает из-за шкафа самодельную трость с рукояткой от натовской винтовки вместо набалдашника. – Тебя-то как зовут, капитан? И где это тебя так приголубило?
– Михаил, – представился капитан. – Можно просто Мишка. Позывной не скажу, он хулиганский. Кстати, позывной вашего сына знаете? У ополченцев все с позывными, так легче найти…
– Не знаю, – пожал плечами Александр. – Может быть, Зодчий…
– Сашка-Зодчий? – Капитан повернулся к Александру здоровым глазом. – Ишь ты, а я думаю, откуда вы мне знакомы? Ну, то есть… как будто видел, но забыл где. Похоже на то. – Он вздохнул. – Ну, про Сашку лучше у ополченцев спрашивать, это их разведка, они не сильно откровенничают, где они и что. Ходят слухи, что он ушел на Перекресток, да с концами… но то такое, разведка – это ж особая статья. Может, рейд в глубокий тыл или что… Было такое, что группы уходили, их уж и со счетов списали, а они через месяц, через два к своим пробивались. Передок не овраг – где хочешь не перейдешь.
Они вышли на крыльцо: Мишка передвигался с трудом, припадая на ногу, тяжело опираясь на трость. Не привык еще, видать, к своему ранению.
– Будем искать, – резюмировал он, доставая из подсумка плоскую сине-зеленую пачку с силуэтом танцовщицы, наполовину закрытым угрожающей надписью не по-русски. – Угощайтесь, батя, трофейные. Давеча французов поймали, ну как французов – иностранный легион. Два негра, вьетнамец и какой-то «условно наш». Русский, сбежал после Крыма, сразу в легион пошел, мечтал со своими повоевать, гнида.
– На «Абрамсе» по Москве поездить? – спросил Александр.
– На «Леклерке», – уточнил Мишка. – Хотя, кажется, у французов сейчас тех «Леклерков» уже нет на ходу, воюют на этом колесном позорище, АМХ-10RC. Этого фраера сразу… – Мишка чиркнул ребром ладони по горлу. – Сам дал повод, пытался кочевряжиться; остальных троих сдали дэнээровцам, им тоже вышка будет, скорее всего, после суда. Того бы иуду тоже судили, но он предпочел сразу закрыть вопрос, почему бы не уважить? Патронов у нас на всякого власовца хватит…
Сигареты были крепкими, но мягкими на вкус, хотя Александр, давно не куривший и помнивший эту марку, «Житан», еще по девяностым, – тогда такие тоже брали как трофей у «патриотов Ичкерии», – ожидал большего.
– Скажу группе, чтобы провела вас до штаба на Перекрестке, – добавил Мишка, затягиваясь, – ну и остальным передам, пусть землю носом роют, но найдут…
– Будто вам нечем больше заняться, – возразил было Александр.
Но Мишка его поправил:
– Есть чем, но это тоже важно. У нас у многих шеврончики «Своих не бросаем», а у тех, у кого нет, все равно что-то такое прямо на душе нашито. Так что это наше первое дело, отец, помочь вашего сына найти.
Он затянулся еще раз:
– Вы меня спрашивали про глаз, про ногу… у бандер я побывал. Не только мы за ними, они за нами тоже охотятся: заманили патруль в засаду, пацанов удвухсотили, я – тогда еще старлей – трехсотый. Захватили они меня, пока я без сознания был, затащили куда-то в частный сектор за Ставками, на Морской, кажись, привели в себя и давай издеваться. Главный их говорит: «Пан майэ час и натхнэння[4]; мне от тебя ничего не надо, просто интересно москаля на кусочки порезать». Ногти на ногах вырвал, пальцы плоскогубцами по фаланге обкусывал, пару зубов выдрал, выколол глаз, паскуда… часов девять занимался, причем, падлюка, кровь останавливал грамотно, чтобы я не истек, значит. Хрен его знает, чем бы это кончилось, да я приметил, что эти твари подсумок с гранатами под лавку положили. Сделал вид, что отрубился, когда тот меня в чувство приводил, врезал ему головой в переносицу, кое-как схватил подсумок, руки-то связаны…
Патовая ситуация: у меня в руке за спиной граната без чеки, я ее бросить не могу, поскольку руки не выпрямлю, а уронить – так себе под ноги получится; думайте про меня как хотите, а жить я в тот момент хотел как не в себя – пальцев на обеих ногах нет, глаза нет, хорошо, эта падла удовольствие свое людоедское растягивала и ничего более важного не задела…
И самое главное – тварь тоже жить хочет и знает, что у меня в руке граната, а под ногой – целый подсумок таких же, выпусти я свою – все сдетонируют и хата превратится в яму с осколками, прошивающими все, что у них на пути…
Хорошо я тогда их отвлек: сбежался весь кагал на свою голову, когда вдруг на улице стрельба. А я ору: «Дернется кто – брошу гранату, смерть фашистам!» Они лопочут что-то, извиваются – и бежать хочется, и страшно; и на меня напасть – и боязно. Так и достояли до того, как окна в хате вынесли и наши ребята их скрутили. В штабе как узнали про засаду, сразу по следам бандер бросили, кто поближе, а ближе как раз ополченцы были.
Я стою, голова кружится, все в тумане – от кровопотери и шока; смотрю, как наши вяжут упырей, да гранату в руке тереблю, чеки не отпуская. Двое бойцов подошли, ополченцы; гранату отняли, развязали руки, один еще бегло кисти мне размял, я ж девять часов связан был, там все застоялось, рук потом, как адреналин схлынул, не чувствовал, словно отняли. Зато ноги болеть стали, да мне почти сразу обезбол вкатил второй, из тех, что меня развязывали.
Суку бандеровскую, что меня пытала, ребята на месте приговорили. Повесили на ветке старой яблони у колодца, там еще обрывки веревки висели, должно быть, качель до войны была. Я запомнил потому, что урод меня на ней повесить грозился, да сам в петле очутился – вот тебе и бумеранг. Как там Христос говорил: не рой другому яму, кажется. Я не сильно верующий пока, так… по верхам…
А меня, значит, в госпиталь. Думали комиссовать, насилу упросил хоть в штаб, писарем. И вроде ничего такого – подумаешь, глаза нет да пальцев на ногах, тут ребята без рук да без ног воюют. Знаю одного дроновода – нет обеих ног, кисти левой руки, а воюет так – мама не горюй! И с личной жизнью у него все чин чинарем: недавно невеста приезжала из Москвы, прямо тут и расписались. Она в его тельняшке ходит…
Вы уж меня простите, понесло меня в эти воспоминания. Может, напряг я вас. Но выговориться хочется кому-то, а тут кому? Тут все такие, у каждого в загашнике своя такая история, что волосы дыбом встанут. Я к чему это все? Я ж военный, спецподготовка, то-се, и то в передрягу попал; а вы сколько уже в отставке? Считай, четверть века, правильно? Куда вам голову в петлю совать? Может, посидите в тылу, пока мы Сашку вашего найдем?
Капитан бросил под ноги окурок и попытался его раздавить по методу Моргунова из «Кавказской пленницы», но не смог, едва не споткнулся и удержался, схватившись за косяк двери. Александр помог ему выпрямиться:
– Нет, Миша, – сказал он мягко. – Спасибо, но нет. Я сам должен сына найти. И ты за меня не бойся, я тоже проходил сквозь все это.
Миша не стал спрашивать, когда это было, только кивнул и сказал:
– Тогда дождитесь группы, что пойдет к «Самолету», и отправляйтесь с ними. Я скажу ребятам, чтобы помогли.
Глава 9
На афганской проклятой земле…
Насчет пыток, кстати, чистая правда, хотя так жестоко его не пытали. Сколько же лет прошло? Трудно сосчитать, Александр Леонидович с арифметикой ладил плохо. А тогда, в далеком 1984-м, он, срочник-ефрейтор Советской армии, захваченный в плен раненым в канун Нового года, порой не мог отличить дня от ночи – ему не давали спать. Били отрезком кабеля. Прижигали кожу зажигалкой «Зиппо». Поливали холодной водой – в горном ущелье, на пронизывающем ветру. Загоняли спички под ногти…
Они хотели, чтобы солдат «тоталитарной красной империи зла» «выбрал свободу». Что за свобода, которую выбирают с иголками под ногтями, никто из них не думал. Для них он вообще, кажется, не был живым существом – он был объектом, над которым можно было безнаказанно издеваться, прикрываясь «политической необходимостью».
Пытали «сессиями» по два-три дня, иногда дольше, но ненамного. Потом оставляли в покое, гоняли на работу в депо. Там они разгружали и загружали вагоны. Среди прочего – «трофейным советским оружием», большая часть которого была китайская, из того арсенала, что США перегоняли моджахедам.
Среди этого хлама обнаружился ПКМ с почти полным магазином – патрон заклинило в патроннике, казалось, что намертво. Александр и еще пятеро – четыре русских и иранец – разобрали пулемет и по частям перенесли в барак вместе с патронами. Также собрали еще два «калаша» из нескольких испорченных.
В один прекрасный день их тюремщиков ждал сюрприз. Целая очередь сюрпризов калибра 7,62 мм. И Александр прекрасно понимал Мишку. Они тоже горланили «Интернационал» (все, кроме иранца, тот, кажется, молился): «Это есть наш последний и решительный бой…»
Но видит Бог – не о смерти думал тогда ефрейтор Северов. Он думал о том, как вернется домой. В родную Москву. Наступала весна, в парке Горького, наверно, таял снег, и ефрейтору Северову очень хотелось в Фили. Купить мороженого, пройтись по заросшей набережной, познакомиться на аллее парка с какой-нибудь девочкой в очках с роговой оправой, читающей «Анжелику»… такая чушь, но с этой чушью он, экономя патроны, сумел отправить к иблису, как выражался их мусульманский друг, иранец Омар, минимум пятерых бородачей. Они прорвались. Двое были ранены, Александру пуля оцарапала щеку, но они захватили старый американский БТР времен Второй мировой, но на ходу и вырвались из лагеря, подсадив еще два десятка пленных, остальные разбежались.
Навстречу им попалась колонна подкрепления – джип и три армейских грузовика с боевиками, но четырехствольный зенитный пулемет, стоявший на БТР, перемолол это подкрепление в фарш. А потом они ушли через границу с Ираном, сдались иранским погранцам, их передали через консульство своим, потом были допросы в КГБ, долгие, пристальные…
В Москву ефрейтор Северов вернулся осенью. Осенью восемьдесят восьмого, со снятыми обвинениями и рекомендациями для поступления на учебу в МВД. Потом были вуз и Софринская бригада. И бой у деревни, название которой отличалось на одну букву от названия этого города.
Глава 10
Тигры и собаки
По сравнению со старым «газоном» бронеавтомобиль «Тигр», по габаритам ему не уступавший, был словно лимузин по сравнению с «Запорожцем» – кто не знает, была такая машинка, при Советском Союзе выпускавшаяся на автомобильном заводе в Запорожье – совсем недалеко от Бахмута, но по военным меркам, к сожалению, и не близко. «Запорожец» считался самым убогим механическим транспортным средством СССР, хуже разве что инвалидная мотоколяска.
Что касается «Тигра», его создатели предусмотрели все, кроме разве что цветомузыки. Но, конечно, это была прежде всего боевая машина – об этом свидетельствовала установка с пулеметом и автоматическим гранатометом над люком, пусковая установка ПЗРК, лежавшая в кабине в укладке. Здесь она мирно соседствовала с «приблудой» – ручным противотанковым гранатометом итальянского производства, похожим на древнюю базуку, и честно изъятым у одной из бандеровских ДРГ…
– Был еще ПТУРС, – рассказывал молодой лейтенант, командир машины и отделения, – но мы его израсходовали о прорвавшийся «Твардый». Это поляки так наш Т-72 переименовали.
– С колес валили! – уточнил водитель Валера, позывной Возила. – Суетолог его прямо на ходу жахнул, хотя ПТУРС до этого в руках не держал.
Суетологом звали высокого сутулого парня, похожего на одного из арбатских музыкантов. Он оказался питерским художником, на досуге, по словам командира, нарисовавшим целую галерею – в основном портреты сослуживцев, но батальные сцены ему тоже удавались.
– Ему обещали в Москве сделать выставку, – говорил командир. – Обращались в Третьяковку, так эти крысы, типа: не наш профиль! Обещали выставить в «Арсенале», а пока его картины висят на Ходынке в соборе – там у них при соборе что-то типа музея Спецоперации будет, их настоятель нам очень помогает. Сам бывший военный летчик.
– Летал на Ми-24, – уточнил Суетолог, – Афган, Чечня… наш человек.
Кроме командира, Валеры-Возилы и спокойного, как сонный лев, Суетолога из состава отделения на борту был только грязно-серый длинношерстый пес – возможно, кавказская овчарка или московская сторожевая, судя по размерам, мирно дремавший в промежутке между ПЗРК и трофейным гранатометом. Звали пса Зенитчик.
– Чует беспилотники, – пояснил командир – этот молодой лейтенант был самым разговорчивым в экипаже, – прямо как Чудак, мягкой ему травы за радугой…
– У командира был пес, Чудак, – пояснил Валера. – На Черниговщине подобрали, так он беспилотники чувствовал: еще и не гудит ничего, а он лаем заходится.
– От беспилотника и погиб, – глухо сказал бывший хозяин Чудака.
– Какой-то малошумный был, – пояснил Валера, – на самом полете Чудак его почуял, прыгнул, схватил за крыло и поволок… а тот взорвался.
Они замолчали. Александр тоже молчал. В таких ситуациях он не знал, что говорить. Это в голливудских фильмах все просто: «I’am sorry», хотя все понимают, что тому, кто произносит эти заезженные слова, по большому счету пофиг. Как там было в «Брате-2»? – «Здесь все просто так, кроме денег…»
Не дай бог нам когда-нибудь стать такими! Но Александр всю свою поездку видел другое. Искреннее сочувствие, искреннее желание как-то помочь. Поддержка. Порой и без слов. Ему не должны были давать разрешения, но никто даже не думал не то что отказывать в выдаче – ворчать или отговаривать. Подсказали, как быстрей добраться – пришлось лететь в Волгоград, а оттуда уже военным бортом. Впрочем, крюк этот не был для Александра Леонидовича в тягость – в Волгограде у него было еще одно дело…
Глава 11
Эхо прошедшей войны
Отца Александра, Леонида Северова, бабушка воспитывала одна. Его отец, тоже Александр Леонидович, ушел на фронт чуть ли не из-за свадебного стола – свадьбу сыграли четырнадцатого июня, а двадцать третьего новобрачный уже был на призывном пункте. Ему давали бронь на заводе, он отказался, отпустили с тяжелой душой. Через два месяца бабушка Александра узнала, что беременна, а его дед и полный тезка в это время под огнем противника переправлялся через Днепр у Смоленска.
Первого апреля сорок второго года, когда Александр Леонидович старший сражался в Торопце, отражая контратакующую мотопехоту Гудериана, – в городе шли ожесточенные уличные бои, немцы, еще не распробовавшие как следует вкус поражения, атаковали с демонической яростью, наши же отстаивали, словно крепость, каждый дом на их пути, – в солнечном Ташкенте на свет появился Леонид Александрович, будущий отец Александра Леонидовича младшего. Через месяц после рождения сына дед Александр попал в госпиталь, но сумел вернуться в строй – аккурат к началу Сталинградской битвы.
О доме Павлова, наверно, знают все. Не только у нас в стране – было время, когда и за рубежом это название было хорошо известно. Франция сопротивлялась гитлеровцам сорок два дня – и капитулировала, имея большую армию, больше артиллерийских орудий, танков и самоходок, чем вермахт с союзниками; дом Павлова в Сталинграде продержался пятьдесят восемь дней и выстоял, уничтожив при этом, по слухам, больше нацистов, чем вся чуть ли не полуторамиллионная французская армия.
Дед Александра в доме Павлова не был, но в Сталинграде таких домов был не один десяток – в подвале мирные горожане, наверху – наши бойцы, и самая большая тревога – чтобы спасти тех, кто внизу. Старшина Северов по ночам выводил мирных жителей к Волге, где их забирали моряки Волжской флотилии, снабжавшие обороняющиеся войска боеприпасами, продовольствием, иногда подвозившие немногочисленное подкрепление. За это он получил прозвище (позывные, как и радиостанции, тогда были редкостью) Сашка-Экскурсовод. Сашку-Экскурсовода хорошо знали те, кто сражался у завода «Баррикады» и на острове Людникова.
Там, на острове Людникова, – острове не среди водной глади, а в самом сердце фашистского наступления на Сталинград, – Александр Леонидович и погиб седьмого января сорок третьего года, не дожив всего три дня до начала операции «Кольцо», двадцать шесть дней – до капитуляции фельдмаршала Паулюса и чуть меньше двух месяцев – до первого дня рождения своего сына…
Судьбы порой переплетаются самым причудливым образом – в составе армии генерала Батова, которая, как огромный молот, обрушилась на окончательно озверевших от голода, холода и упорного русского сопротивления нацистов, воевал молодой лейтенант Метлицкий, которому суждено было стать вторым дедом Александра Леонидовича. Во время разгрома Паулюса Максим Захарович был тяжело ранен в уличных боях, недалеко от знаменитого сталинградского фонтана. Ранение в голову, казалось, не оставляло молодому парню никаких шансов, но его буквально вытащили с того света хирурги военного госпиталя. Тем не менее долгое время лейтенант Метлицкий находился между жизнью и смертью и, скорее всего, ушел бы за этот порог, если бы не забота медсестры Вари.
Варвара Стретенская была из «неблагонадежных элементов» – отец у нее был священник, успел посидеть в начале тридцатых, распределен в СЛОН, печально известный Соловецкий лагерь, но едва не умер от ураганного воспаления легких. В тридцать пятом был амнистирован и сослан на поселение в Уренгой, вместе с семьей. Оттуда Варвара и ушла добровольцем – девушка еще до войны училась на фельдшерских курсах и надеялась стать врачом. Она им и стала – уже после войны, причем выбрала для себя сложную отрасль нейрохирургии.
На то были и личные причины. Максим Захарович Метлицкий, комиссованный по тяжелому ранению в августе сорок третьего, до конца жизни не полностью оправился от полученных им ран. Временами он впадал в состояние ретроградной амнезии, и тогда место профорга крупного завода Минсредмаша Максима Захаровича занимал лейтенант Максим Метлицкий, вновь и вновь идущий в атаку на нацистов у фонтана Бармалей на Привокзальной площади в Сталинграде…
И кандидат медицинских наук, доктор-невролог Варвара Метлицкая ничего не могла сделать, кроме того, чтобы быть рядом со своей успокаивающей заботой и лаской. Впрочем, через какое-то время появился еще один человек, в присутствии которого Максим Леонидович успокаивался и потихоньку приходил в себя, – его внук Александр, сын старшей дочери Максима и Варвары, Людмилы Метлицкой, которая вышла замуж за Леонида Александровича Северова, познакомившись с ним в студенческом стройотряде. Маленький Саша как-то умел одним своим присутствием возвращать деда из пылающего, полуразрушенного города в реальность семидесятых годов ХХ века. В награду за это он получал рассказы деда, и не просто рассказы – о Сталинградской битве ему рассказывал тот, кто только что, по его ощущениям, вернулся из этого ада.
Эти рассказы, конечно, повлияли на решение Александра стать военным. А потом на другое решение: быть учителем истории. Есть рассказы, которым нельзя позволить умолкнуть, которые должны передаваться из поколения в поколение. И рассказ лейтенанта Метлицкого о Сталинградской битве, в которой он чудом выжил и в которую, по воле тяжелого ранения, то и дело возвращался сорок лет, до 10 мая 1986 года, когда его не стало, не умолк с его уходом. И не должен был замолчать никогда.
Глава 12
Кто твой ближний?
Бахмут двадцать третьего, проносящийся за триплексовыми стеклами «Тигра», напоминал Александру Леонидовичу Сталинград восьмидесятилетней давности – такие же дома-скелеты, такие же разрушенные промзоны, такая же закопченная до мазутной черноты земля, местами подернутая лоскутами грязного от копоти снега. И здесь, как и там, под руинами теплилась жизнь. Тысячи, десятки тысяч жителей города, загнанные в подвалы вроде бы своей же армией, своими защитниками! Здесь, да и по всему Донецкому краю, эти «защитнички» использовали мирняк как живой щит. И у кого-то еще поворачивался язык называть «оккупантами» русских – тех самых русских, которые выводили в безопасный тыл пленников подвалов Бахмута, как когда-то Сашка-Экскурсовод, дед Александра, выводил из подвалов Сталинграда мирных жителей этого города-героя.
Кто свой? Кто чужой? Человека ограбили, избили и бросили умирать; священник и богатый человек – его земляки – прошли мимо, а помог чужеземец. Кто из них свой? Вопрос был задан еще две тысячи лет назад, и вроде бы всем понятен ответ, но…
В наше время те, кого называют «ордой», «оккупантами», спасают жизни людей, которыми их «защитнички» прикрываются от заслуженного возмездия. «Свои» бьют и грабят, «чужие» спасают и лечат – кто здесь оккупант?
Но визги с Запада о «пророссийской агрессии» не прекращаются…
Александр Леонидович настолько погрузился в свои мысли, что из этой задумчивости его вывел только сильный толчок в спину, буквально швырнувший его с сиденья, – хорошо хоть командир «Тигра» с Суетологом едва успели его подхватить, прежде чем мир вокруг них закрутился в каком-то адском калейдоскопе.
По своим характеристикам «Тигра» можно отнести к машинам класса MRAP – то есть таким, которые способны выдержать подрыв на мине. Конечно, в этом отношении он уступает более современным образцам, но не боится подрыва на противопехотных минах, а противотанковые на него не реагируют за счет низкой удельной нагрузки или срабатывают после того, как «Тигр» проедет над ними, в силу большой скорости автомобиля.
Остаются фугасы – радиоуправляемые или управляемые по проводам. Первые глушит встроенная станция подавления, но против взрывмашинки приема пока не придумали. С другой стороны, те, кто применяют такие фугасы, чаще всего смертники – от возмездия им не убежать.
Александр пришел в себя быстро – сознание он не терял, но какое-то время был под воздействием шока; он не различал звуки, слившиеся в один гул, почти не ориентировался в пространстве, тем более что отброшенный взрывом джип кувыркнулся несколько раз и упал на бок. Контроль за происходящим вернулся к нему уже тогда, когда командир и Суетолог вытащили его из машины и усадили под защитой ее корпуса.
Вокруг шел стрелковый бой – из кабины стрелял Валера-Возила, из-за корпуса лейтенант и Суетолог короткими очередями отвечали по невидимому врагу – один из них находился справа от Александра, другой слева.
В ушах звенело, зрение было нечетким, но Александр, как мог, оценил позицию. Она оказалась неожиданно удобной – машину отбросило к разбитой витрине магазина на первом этаже хрущевской пятиэтажки… нет, не магазина – судя по мебели, креслам, разбитым зеркалам и разбросанному инструменту, архаичным машинкам и ржавым филировочным ножницам, это была парикмахерская.
Здесь раньше уже был бой, об этом свидетельствовали пулевые пробоины в стенах, стреляные гильзы, разбросанные по полу, и частично разобранные баррикады в дверях и оконных проемах. Убитых не было, зато Александр нашел валяющийся у одной из баррикад «калаш», похоже, не российский, скорее всего польский или румынский. На пластиковом прикладе между едва заметными засечками запеклась кровь. Магазин был пуст, но даже с пустым магазином оружие может пригодиться.
– Мехди, это Юсуф. – Лейтенант засел за машиной, чтобы переставить магазин, и воспользовался паузой, чтобы связаться со штабом. – Чо, чо – накаркал, накрыли нас возле Рынка. Угол Мира и Свободы, ага. Я знаю? Стволов десять работает. Нет, все целы, и пассажир. Фугаску под колесом взорвали, но сплоховали… ща…
Пристегнув магазин, который он достал из подсумка, отстегнув и «уронив» пустой, лейтенант с нерусским позывным Юсуф высунулся из-за «Тигра», угостил противника короткой очередью и опять свалился за машину, попутно подобрав уроненный им магазин и отправив его в пустую ячейку подсумка:
– Нас отшвырнуло, но «тигруша» выдюжил, – продолжил лейтенант. – Сидим за ним, Возила в кабине, мы за корпусом, отстреливаемся. – Он снова вскочил и дал очередь в сторону противника.
В ладонь Александра уткнулось что-то холодное; он скосил взгляд и увидел Зенитчика. Пес был весь в побелке, словно поседел. Александр машинально погладил пса по макушке, почесал за ухом…
И почувствовал, что шерсть на загривке Зенитчика подымается. Быстрый взгляд на подрагивающие губы собаки, под которыми виднелись клыки, подтвердил – пес что-то учуял.
Не говоря ни слова, Александр с разряженным автоматом осторожно пошел вслед за собакой, направившейся к двери в бывший, судя по всему, дамский зал. На пороге зала пес напрягся словно для броска…
Александр решительно шагнул вперед, переключая режим стрельбы, будто у него был полный магазин патронов:
– Руки вверх!
Двое молодых ребят в каком-то убогом тряпье, но с оружием, машинально подняли руки. Один из них уронил свою тарахтелку, кажется немецкий MG или один из его натовских клонов (но, судя по всему, также разряженный в ноль), другой так и не успел снять телепавшийся за его спиной раритетный АК-47. Готовившийся к этому бенефису Зенитчик седой молнией перемахнул баррикаду, сшибая в прыжке этого второго.
– Чого тобi, дiду? – голос разоружившегося пулеметчика дрожал от страха: – Забери свого пса, ми зара москалiв на гвалт вiзьмемо, тай по тому![5]
«Диду, – повторил про себя Александр. – Для этих сопляков я уже дед. Надо действовать, пока они не поймут, что к чему».
Он переступил через прореху в баррикаде, не опуская направленного на бандеровца автомата, и процедил:
– Дырку ты у меня от бублика получишь, а не Шарапова. Стой, не рыпайся, козлина!
Противник Александра был молод и сильно растерян. Он не знал, что делать: то ли помогать напарнику, который попытался было зацепить пса финкой, да не сумел, и финка оказалась на полу, а рука нациста – в крови; то ли напасть на «дiда» с риском получить пулю…
А Александр шел прямо на него – фактически без оружия, а у бандеровца, несмотря на брошенный им пулемет, был как минимум пистолет в расстегнутой кобуре милицейского образца и штык-нож в ножнах. Приблуды, конечно; на войне все по возможности обвешиваются оружием, ствол и нож лишними никогда не будут…
– Не дергайся, – посоветовал Александр как можно спокойнее, глядя, как пальцы нацика нервно скребутся по кобуре, как бы не решаясь достать оружие. – Хуже будет, я Афган прошел…
– Мiй тато був у Афганi, – неожиданно бандеровец как-то обмяк. – Я у сiм’i наймолодший, четверо братiв вже загинули хто де – Аеропорт, Марiуполь, Херсон, Балаклiя… суча вiйна![6]
– Тут ты прав, – заметил Александр, с размаху ударяя парня прикладом под дых, а потом подхватывая его, чтобы не упал. Свободной рукой он при этом изъял и пистолет, действительно видавший виды милицейский «макаров», и, спрятав его, штык-нож. – Так, расслабь грудь, не хватай воздух ртом, шок пройдет, я не сильно тебя приложил, года не те уже.
Он осторожно усадил бандеровца в изломанное парикмахерское кресло, в котором, возможно, несколько лет назад девочки-парикмахеры делали супер прически школьницам к выпускному балу, отшвырнул пулемет в сторону и, достав пистолет, снял его с предохранителя. Второй бандеровец, суча по грязному полу ногами, закрывался разодранными в кровь руками от Зенитчика, который стоял у него передними лапами на груди и деловито урчал. Вид у пса был довольный, пожалуй, даже гордый.
И что теперь делать?
– Другие ваши в здании есть? – спросил он у младшего брата из несчастливой бандеровской семейки.
– Нi, – ответил тот. – Нас з Сашком двох послали, з тилу зайти. У нас людей катама, всього дванадцять душ у групi[7]…
– И все бестолочи, – заметил Александр. – Говорят, вас по натовским стандартам учат; если у НАТО такие стандарты, то с Россией ему лучше не загрызаться. Звать-то тебя как?
– Мыкыта, – ответил бандеровец, хлюпая носом. Александр покосился на второго бандеровца – тот понял, что лучше не дергаться, и притих, только дрожал да поскуливал, точно собакой был он, а не Зенитчик. «Сашко… подумать только, тоже, выходит, тезка. Ну, да в семье не без урода…»
К сожалению, это была правда. Ладно еще Украина, тамошнему люду головы промывали с девяностого, а уж если совсем точно, то с 1917-го, если не раньше. Поколения выросли на лжи, вот как этот Никита на букву «эм». Отец, говорит, в Афгане был, бача, как Мишка Ризниченко, с которым они вместе из плена бежали, – тоже был из Винницы. А дед этого Никиты, скорее всего, тоже бил нацистов – мало их было, выходцев из УССР, на всех фронтах Великой Отечественной? У деда Максима во взводе были Полищук и Выговский, первый из Нежина, второй – из Переславля-Хмельницкого. Выговский погиб, бросился под немецкий танк в последних числах декабря сорок второго, когда фашисты попытались деблокировать окруженную армию Паулюса…
И откуда же у таких отцов и дедов такое гнилое потомство? А в России что, мало было таких, кто в панике помчался в нерезиновый Верхний Ларс, хотя их никто и не думал призывать в армию? Мало «испуганных патриотов», намочивших штанцы при мысли, что Родину надо защищать? Да даже среди тех, кто именует себя «патриотами», мало таких, кто смакует наши проблемы, настоящие, но по большей части выдуманные, кто радуется нашим неуспехам и критикует наше руководство просто потому, что в глубине души не верит в Россию?
Из этого теста и лепятся манкурты вроде этого Мыкыты, которому сначала поменяли русское имя на созвучное, а потом и русское сердце – на кусок грязной ледышки. Ладно, Мыкыта, он хоть безобиден, а те, кто выколол глаз и отрезал пальцы капитану из комендатуры? Тоже ведь не пришельцы с Марса, не бесы из преисподней, а бывшие русские люди.
БЫВШИЕ РУССКИЕ. БЫВШИЕ ЛЮДИ.
Бывший человек – это труп. Зомби. Нежить. Что нужно было сделать с людьми, чтобы они стали такими зомби? Одним «безвизом и кружевными трусами» тут точно не ограничилось. И зачем «Мыкыте» кофе в Венской опере?
Не в этом, наверно, дело…
Глава 13
Нисхождение
Занятый своими мыслями (но не спускающий при этом глаз со своих пленников), Александр не сразу заметил, что стрельба стихла. А потом в бывший женский зал ворвались командир, Суетолог и Возила. У командира левая рука висела плетью, у Возилы на лбу была длинная царапина, только Суетолог выглядел так, словно только что пил тот самый кофе в Венской опере.
– Слава богу, вы тут! – обрадовался капитан и осекся, увидев пленников. – Ого… братва, вы только гляньте, кто тут у нас попался!
– Не добили, значится, – со злобой сказал Возила. Суетолог молча передернул затвор своего автомата, должно быть только что магазин поменял.
Оба пленных бандеровца побелели как полотно.
– Та не ссыте, херои, никто вас и пальцем не тронет! – ободрил командир раненного Зенитчиком. – Считайте, что вам свезло – остальных ваших мы задвухсотили, с божьей помощью. А вы, Александр Леонидович, ого-го! Старая гвардия!
Александр смутился и ответил:
– Один из двоих, тот, что на полу, на счету Зенитчика. Не будь его, не знаю, справился ли бы я.
– Справились бы, – буркнул бандеровец, сидящий в парикмахерском кресле. Вышеупомянутый Зенитчик тем временем встревожился, его уши двигались как локаторы системы ПВО.
Его хозяева тут же это заметили:
– В подвал надо спускаться, – сказал Суетолог, доставая пачку сигарет без фильтра. («Неужели такие еще выпускают?» – подумал Александр.) – Бандеры уже смекнули, что их глупе… группе гаплык, и по традиции приголубят поле боя чем-нибудь тяжелым. Да и Зенитчик волнуется, а он прилеты за десять минут до начала вычисляет.
– Зенитчик, рядом! – скомандовал лейтенант, и пес послушно подошел к хозяину. Возила помог подняться Сашку, попутно отняв у него автомат, оказавшийся без магазина, и штык-нож. – Вы, двое, идете впереди. Здесь должен быть ход в Нижний Бахмут. Тут, почитай, в каждом доме такой.
Бандеровцы под охраной Возилы и Зенитчика послушно двинулись к бывшему служебному ходу; Суетолог протянул лейтенанту зажженную сигарету и подкурил другую.
– Нет, все-таки вы, батя, молодец, – сказал он, выпустив дым. – Почитай, голыми руками, с муляжом автомата и собакой взять в плен двух бандер! В ваши-то годы! Респект и уважуха. Хотите цыгарку?
Александр думал было отказаться, но потом махнул рукой и взял протянутую Суетологом сигарету без фильтра.
Сигарета еще дымилась в уголке губ Александра, когда подвал, куда они спустились, сильно тряхнуло, так, что можно было потерять равновесие. Человек непривычный, наверно, перепугался бы насмерть, да и привычному человеку в этой ситуации было бы страшно – все-таки один из самых базовых страхов homo sapiens, напрочь опровергающий теории о его происхождении от животных, – страх быть погребенным заживо. Когда и без того тесное помещение без окон еще и ходит ходуном, когда с потолка сыплются жалкие остатки побелки, а пол под ногами дрожит, как трескающийся лед, – этот подсознательный страх накрывает в полный рост. Тем не менее никто из сопровождавших Александра не выказал боязни, да и сам он внешне оставался спокойным. Плавали, знаем: пусть и прошло четверть века, но Новый год в Грозном забыть невозможно. Как и бой в ущелье Герата, который мало чем отличался, только и того, что над головой ночное небо – далекое, чужое, словно нарисованное на крышке гроба…
– Прилет, – спокойно сказал Суетолог, засовывая свой окурок в щель между кирпичами стены. – Не запылились.
– Ага, запылятся они, – зло сказал лейтенант, покручивая в пальцах здоровой руки инъектор с обезболом. – У них традиция – если ДРГ перестает давать обратку, сразу крыть по ее последнему месту тяжелой артой. Следы заметают, с-суки…
– Почему? – спросил Александр. Дом вздрогнул еще раз, но они уже подходили к площадке лестницы, уводящей еще ниже, под подвал.
– Потому что коллеги наших Сашка и Мыкыты многое могут рассказать о своих художествах, особенно если пообещать им жизнь и перевод в обменный фонд, – пояснил Возила, глядя на манипуляции командира со шприцом. – Иногда приходится отпускать матерых головорезов – в обмен на ценную инфу. Те же петушки с Азовстали такого накукарекали, мама не горюй… слышь, Юсуф, не морочь уже пачку маргарина, коли обезбол, че ты как пацан?
– Да оно не так сильно и болит, – потупился лейтенант, хотя, может, он просто глядел себе под ноги – они спускались в темноту по старой, хотя и крепкой бетонной лестнице, освещая себе путь табельными фонарями. – Только онемело и дергает немного…
– Слышь, Возила, хочешь анекдот про Юсуфа? – спросил Суетолог и, не дождавшись ответа, продолжил: – Приходит лейтенант в санчасть и говорит: «Сеструха, у меня спина болит…»
Подвал опять тряхнуло, но слабее, чем раньше, наверно, просто потому, что они спустились глубже.
– …она ему: «Повернитесь», – как ни в чем не бывало продолжил Суетолог, шаря по подсумку на поясе. – Он повернулся, а у него в спине топор. Сестричка и говорит: «Вам же, наверно, ужасно больно?» А он ей: «Не, только когда смеюсь…»
Пока Суетолог рассказывал байку, он потихоньку догнал командира, а заодно нашел то, что искал. Без предупреждения он всадил лейтенанту в руку найденное в подсумке – еще один пакет с обезболом:
– Вот так. Нечего зубы стачивать, если болит. Обезбола ему жалко…
– А если тебя ранят, дурепа? – возмутился лейтенант…
– Если-фигесли, – передразнил его Суетолог. – У меня еще есть, я запасливый. А ты, между прочим, хоть кровь и остановил, но болевой шок с отсрочкой никто пока не отменял. Нам с Возилой что, тащить тебя на закорках да еще и этих пасти? – Он кивнул в сторону плетущихся перед Возилой пленных.
– Да сколько тут идти! – скривился лейтенант. – Это ж Рынок, тут рядом убежище у автостанции, а там все – и помощь, и транспорт.
– А почему, кстати, Юсуф? – спросил Александр. – Вы же на вид не из мусульман.
– Это такая местная хохма, – пояснил Возила. – В эфире мы разыгрываем укропов, типа мы иранцы. Чушь полнейшая, но хохлы ведутся, у них все телеги забиты тем, что в Бахмуте КСИР воюет. То, что шахиды между собой на чистом русском ботают, им вообще ни о чем. Мы с ребятами думаем еще корейцами прикинуться, пусть совсем обос…ся со страха.
– Валерка, фильтруй базар, что ли! – посоветовал лейтенант. – С нами гражданские лица, ху… в смысле, зачем ты материшься?
– Я отставник, – заметил Александр. – И служил пятнадцать лет, так что мне этот ваш профессиональный жаргон хорошо известен.
– А вы в каком звании ушли в запас? – уточнил лейтенант. Насколько Александр мог видеть в неверном свете фонарей, его лицу, дотоле бледному, возвращался естественный цвет.
– Полковник, – ответил Александр. – И не в запас, а сразу в отставку. Признали непригодным, у меня половины легкого нет. В ковид от этого чуть не загнулся, даже на аппарате лежал…
«И Сашка все время был рядом, – подумал Александр. – Волонтером пошел, чтобы в красную зону вход иметь. Как же я могу его бросить здесь?! Разве я, отец, не должен пытаться защитить сына, пусть и взрослого, самостоятельного, пусть даже легендарного?»
За прошедшие несколько дней вопрос, зачем он едет в Бахмут, ему задали не меньше сотни раз. Он все время отвечал на него, и теперь, даже если его не спрашивали, он все равно искал все новые и новые аргументы в пользу этого.
Он ведь три раза сам просился на СВО, и трижды получил отказ. Это можно было понять – в спокойной обстановке старая рана почти не давала о себе знать, но уже в Бахмуте Александр сполна ее ощутил, а ведь он еще не был в бою. Увы, свое он уже отвоевал. И сына он хоть и отговаривал, но понимал прекрасно. Не мог его мальчик, его плоть и кровь, оставаться в стороне, когда Родина в опасности. А то, что она в опасности, не видеть мог только слепой или тот, кто сам себе зашил глаза, чтобы не видеть реальности.
Не армия Украины противостояла им, хотя и армию Украины, ведущую свою родословную от русской и Советской армии, несокрушимой и легендарной, бравшей Париж и Берлин, не стоило сбрасывать со счетов. Ирония судьбы, но самой боеспособной и опасной среди всех сателлитов НАТО оказалась часть бывшей Советской армии, некогда готовившейся воевать с этим самым НАТО.
Но даже новенький немецкий пулемет, отобранный у Мыкыты (Валера, несмотря на возражения Юсуфа, тащил его с собой, ибо приблуда же!), свидетельствовал о том, что все силы НАТО были сейчас брошены против России. И наивно думать, что, не ударь мы первыми, они бы не нанесли свой удар – те, кто семь лет долбили по мирным городам Новороссии, по Донецку и Горловке, по детсадам, школам, библиотекам и рынкам.
Война была неизбежна, и то, что мы опередили врага, – Божья благодать и огромная заслуга нашего Верховного главнокомандующего, заслуга генштаба и Министерства обороны, для которых у наших «патриотических» СМИ не находится доброго слова.
– Знаете, а я этого боюсь, – внезапно сказал лейтенант. – Не того, что убьют, а того, что комиссуют по ранению. Как я смогу жить на гражданке, когда тут такое?
– А другие как живут? – спросил Возила. – Взять твоего кума, у которого СТО…
– Нормально будешь, – вторил ему Суетолог. – Будешь работать, детей растить. У нашего Юсуфа двое уже. Месяц назад еще один был, так этот живчик съездил в отпуск прошлой весной…
– Вы как обращаетесь со старшим по званию?! – возмутился лейтенант, машинально поднимая раненую руку, будто защищаясь от подколок подчиненных. – Я это… ну…
– Ой, тоже мне, нашел чего стыдиться, – парировал Валера. – У самого пацан – красавец, будущий кадет, а теперь еще и дочка. А я тут брожу по тоннелям, а там, на гражданке, у меня никого, кроме родителей…
– Найдешь еще, – успокоил его Суетолог. – Дурное дело нехитрое. А у меня, кажется, с Оксанкой серьезно, братцы…
От этой новости вся команда замерла, даже пленные.
– С Оксанкой? – переспросил Возила. – Той, что шины зимние привозила?
– И свитер с оленями ему вручила. – Кажется, лейтенант обрадовался возможности отыграться в безобидной пикировке по поводу его личной жизни. – А этот олень ничего не понял.
– Мне вот свитер не подарили, – кивнул Валера. – Сразу видно, что она к тебе неровно дышит…
– Чья б корова травку ела, – спокойно ответил Суетолог. – «У меня никого нет на гражданке!» Ага, да на тебя девки только так западают – от Черниговщины до Бахмута, где ни станем на привал, этот уже с кем-то обжимается.
– Глупости это все, – на этот раз смутился уже Валера. – Фигня, ни о чем, а я про серьезное…
К этому моменту они уже оказались на ровном месте и шли вперед по коридору. Здесь было так темно, что казалось, что коридор заполнен черной тушью. Фонарики, конечно, освещали дорогу, но и только, да и светили они недалеко.
Зенитчик, который спускался по лестнице позади всех, в коридоре умчался вперед, прямо в чернильную темноту, которая для собаки, видимо, не была помехой. Впрочем, когда группа остановилась на импровизированный привал, пес вынырнул из темноты – как будто от чернильной массы оторвался оживший комок, и, подбежав к Юсуфу, пару раз глухо гавкнул и тихонько заскулил, как скулят собаки, желающие выйти с хозяином на прогулку.
– Что говоришь, брат? – спросил собаку Юсуф. – Так, впереди люди, не чужие, свои, и вроде даже Зенитчик кого-то из них знает. Но бдительности не теряем…
– Стой, кто идет? – раздалось из чернильной темноты. Голос был детским, и он показался Александру знакомым.
Глава 14
Встреча в Чистилище
– Чего ж ты, брат Сашка, своих не узнаешь? – спросил Юсуф. – Или тебе по форме представиться?
– Да, – донеслось из темноты.
– Ох, ну ты и язва, – улыбнулся лейтенант. – Будь по-твоему. Юсуф, из Софринской, со мной двое моих, пассажир и пара пленных.
– И Зенитчик. – Темнота расступилась, выпуская из своей мрачной утробы уже знакомого Александру паренька. Теперь он мог рассмотреть его поближе. На вид парню было не больше десяти. Он действительно был похож на отрока Христа, с тех редких икон, где Его изображают уже не младенцем, но еще и не взрослым. Только вряд ли Христос носил бы танкистский шлем, кем-то заботливо укороченный и подшитый ватник, вылинявшие до белизны некогда синие джинсы и не по размеру большие ботинки, также заботливо кем-то подогнанные по ноге. И, конечно, пистолет-пулемет неизвестной Александру конструкции для образа юного Спасителя был совершенно чуждым. – Вас-то я зразу срисовал, по Зенитчику, а потом и так. Приезжего тоже знаю, бачыв сегодня в машине дяди Димки-Невидимки. А вот эти двое – явно бандеры, и здесь им не рады.
Оба пленных что-то залопотали. Суетолог это оборвал:
– Цыц мне! Сказано же, в обиду не дадим. Может, и в обменный фонд засунем, если на вас нет крови… или если откупитесь чем-то важным.
– Не хочу мiнятися, – пробурчал Микита. – На бiса менi ця довбана вiйна, щоб здохнути, як собака? Деремнув би свiт за очи…[8]
– Ишь, вояка, – пробормотал Сашка, добавив что-то совсем не детское. Александра кольнуло то, сколько чистой, незамутненной, обжигающей ненависти было в этой короткой фразе.
– Не хочешь – заставлять не будем, – сказал Суетолог. – Если, конечно, ты в крови не замарался. Сашка, я все понимаю, но нам бы в больничку, у нас командир раненый.
– Да пустяки, – отмахнулся Юсуф. – Царапина.
– Хренапина, – передразнил его Суетолог. – Только что чуть сознание от боли не терял, пока я ему обезбол не вкатил.
– Идем, – деловито кивнул Сашка. – Только это… пусть эти фраера позади идут, сами знаете, как у нас к этой сучьей породе относятся.
Так что маленький отряд перестроился – впереди пошли Сашка, Александр и Суетолог, за ними – пленные, а за теми – Юсуф и Возила.
– А вы, дядьку, чьих будете? – спросил Сашка, оказавшись рядом с Александром. Тот не успел ответить, его опередил Возила:
– Наш он, софринский. Только в отставке уже четверть века, по ранению.
– А до нас з чем пожаловали? – спросил Сашка, игнорируя Валеру.
– Сына ищу, – вздохнул Александр. – Говорят, ты тут всех знаешь, из наших, правда же?
– Ну, всих не всих, а народу знаю багацько, – подтвердил Сашка. – Я ж везде хожу, все подмечаю. Старшие говорят, кмитлывый, ну, тобто сообразительный, як по-нашому. Я ще до нашого языка не привык, дядьку, все на их клятой мове балакаю… А так тут по-другому нельзя, хочешь выжить – все примечай.
– Тебе имя Александр Северов что-то говорит? – спросил Александр. Сашка пожал плечами:
– Не-а, тут всех позывными зовут. Ваш сын из ополчения, чы як?
– Да, в ополчении служил, – подтвердил Александр.
– Ну, Сашек у нас тут хоть греблю гати, – ответил парень. – Я и сам Сашка. И в ополчении их хватает, не каждый второй, алэ досыть. Может, приметы какие скажете?
– Я тебе фото покажу, как придем к месту, – пообещал Александр. – У меня его фотки на телефоне.
– Фото, то добрэ, – кивнул Сашка. – В лицо я точно тут всех знаю, кого на дороге видел, кого так. Да мы уже и пришли.
Глава 15
Дети подземелий Бахмута
Пока Александр вел разговор со своим тезкой, темнота постепенно рассеивалась. Они вышли в довольно широкий сводчатый коридор; здесь, в стенных нишах, под не горящими газозащитными лампами, какие можно увидеть в шахтах, тлели, кое-как рассеивая темноту, масляные лампы-жировики (местные называют их «каганець»). По этому слабо освещенному коридору команда дошла до тупика, в котором, справа и слева от массивной двери, были самодельные амбразуры. Из амбразур торчали стволы оружия – АК-47 слева и ДП справа. Пространство перед дверью было лучше освещено, здесь горели две газозащитные лампы вроде тех, что встречались им раньше.
– Света давно нема, – пояснил Сашка на своем суржике. – В Бахмуте ще до войны перебои были, бывало, що по полсуток света не было. Мамка ругалась, а батя как-то спи… саный генератор притащил, так и перебивались.
