Колокольчики Достоевского. Записки сумасшедшего литературоведа
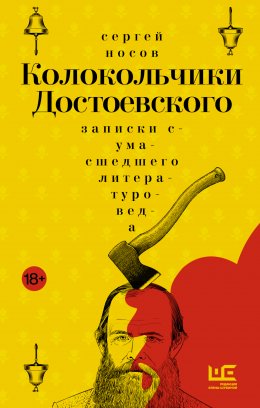
© Носов С.А.
© Бондаренко А.Л., художественное оформление.
© ООО “Издательство АСТ”.
[0]
Евгения Львовна, прошу прощения!
Вы повелели уложиться на двух-трех страницах. Боюсь, не получится.
Все-таки заявку на книгу пишу не совсем о себе, то есть совсем не обо мне (как мне видится), а о нем, предмете наших долгих разговоров с Вами, хотя… хотя Вам, очевидно, интереснее было бы обо мне почитать, это я хорошо понимаю. Кому как не мне понятен Ваш сугубо профессиональный интерес, и кому как не мне хорошо понятно, что Вас растрогать нельзя этим моим пониманием. Но с другой стороны, вспомните наши прежние споры у Вас в кабинете, где растет мирт, – отнюдь не дилетантский взгляд Вы тогда обнаруживали на творчество классика. Я это ценил. Есть у меня подозрение (ой, какое нехорошее слово!..), есть догадка, и догадка такая: интерес Ваш к нему, дорогая Евгения Львовна, безотносительно ко мне интересу, далеко не формален.
Вы ведь тоже неравнодушны к объекту. Это заразно.
(Ай, опять!..) Но как со мной получилось, того Вам не грозит. Не тревожьтесь. Не надо.
Помилосердствуйте! Дайте еще три-четыре листочка, а лучше пять! (Лучше десять, конечно…) И карандаш – подлиннее! Хотя бы тупой…
А за “Преступление и наказание” большое спасибо! Здешняя библиотека поистине хороша!..
Кроме этого тома за нумером шесть, был бы рад получить еще том седьмой с рукописными редакциями романа. А также тома, содержащие письма, – хотя бы двадцать восьмой (предпочтительней книгу первую, том двадцать восемь – сам в двух томах); в идеале же доступ хотел бы иметь ко всему собранию сочинений.
Со своей стороны обещаю не быть многословным, держать себя в рамках и не предаваться сильным эмоциям, в корень глядеть (и помнить: когда в корень глядишь, знай, что корень сам глядит на тебя).
Обещаю придерживаться духа моих прежних литературоведческих трудов, не вызывавших ни у кого нареканий (по части каких-либо расстройств известного рода). Намерен также обозначить между мною и им четкую демаркационную линию: никто не дождется от меня утверждений, что я его инкарнация (вспомните, вспомните – я никогда не утверждал этого!..)!
Ни слова не скажу о метемпсихозе. (А Вы бы хотели?)
Обещаю быть обстоятельным, дисциплинированным. В меру возможностей не отвлекаться ни на что постороннее, и особенно, и особенно – об этом и говорить, наверно, не стоит – и особенно не отвлекаться на лично мой Случай, заставивший познакомиться с Вами (при обстоятельствах для меня роковых).
Не знаю, разочарую ли Вас или нет, но здесь буду явлен перед Вами образцово здоровым (и точка). Здоровым и рассуждающим здраво. Увидите сами.
Отчет себе отдаю, что речь ведь идет всего лишь о заявке на книгу… Я не забыл!
Так и пусть. Книга быть интересной нам обещает, обещает быть просветительской книгой. Надеюсь, кое в чем сумею Вас убедить (помня прежние наши беседы). Причем уже в этой заявке! В заявке на книгу!
Достоевский forever!
Вот и начало заявки! Уже чуть-чуть заявил. Чем-то подобным, но проще, но лапидарнее, можно было бы книгу начать (заявляю по ходу заявки). Могло бы так называться начало в заявляемой книге – с учетом того, что это именно Вам:
ПОСВЯЩЕНИЕ
Часть первая
[1]
Безусловно, Вы сейчас насторожитесь, Евгения Львовна, я провожу рискованную аналогию: мы оба – Достоевский и Ваш покорный слуга – соответственно тогда и сейчас – оказались в одинаково сложных условиях. Ладно, на одинаковости не настаиваю, да и не обо мне замышляется книга. Параллель допущена с одной только целью: хочу Вам показать, что в отличие от многих других знатоков именно я владею мерой его злоключений.
А все-таки жалко, что Вам не случилось забрести на мою лекцию в октябре прошлого года. Я был в ударе, я читал о Раскольникове. Мне бы не пришлось объяснять у Вас в кабинете некоторые простые вещи, прежде уже разъясненные. Помните, Вас название заинтересовало? Лекция называлась “Как у Достоевского получается”. Я еще говорил Вам (у Вас в кабинете, где растет мирт) о самоосуществлении текста, Вас еще интересовали принципы личностного подхода, которых я придерживался в работе. Жаль, жаль, что не слышали меня в естественных условиях. Но тема не закрыта, у меня было достаточно времени ее развить, целый сонм мыслей по ней ждет своей проработки. Полагаю, в задуманной книге, заявку на которую Вы мне любезно разрешаете написать, “Как у него получается” будет одной из важнейших тем, если не главной. Но в первой главе ее называть прямо не следует – рано, хотя в уме держать надо. В первой главе у Достоевского ничего не получается. Или получается своеобразно.
Он проигрался в рулетку.
Так и назвать можно первую эту главу:
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
[2]
Август и полсентября 1865 года – в биографии Достоевского ужас-ужас. Это Висбаден. Одним словом все сказано. Весь в долгах – с ног до головы – приехал поправить финансовое положение, – разумеется, посредством рулетки и, разумеется, вдрызг проигрался. В первый же день.
История хорошо известная. Детали в письмах самого. Разные авторы, описывая сей исторический казус, пользовались письмами Достоевского, что совершенно естественно, других источников мне не припомнить навскидку.
Я не собираюсь писать биографию, но надо с чего-то начать, для заявляемой книги необходимо выбрать точку отчета. Берем эту: Висбаден, август 65-го – шок.
Хвастаться нечем тут, но вряд ли кто-нибудь лучше меня понимает, в каких он оказался тисках.
Как с ума не сошел – не представляю.
Часы заложил. Золотые. К теме часов будем не раз возвращаться. Сейчас мало кто носит часы. Я вот носил на руке, и мне не забыть, с каким чувством их отдавал должностному лицу, отвечающему за наши вещицы. Лежат, поди, в какой-нибудь ячейке хранения, а сами идут, питаемые батарейкой, лежат-идут (у меня электронные). Нет-нет, а руку, бывает, к глазам поднесу, глядь на пустое запястье… Привычка! Вот так и он наверняка лез в карман за часами…
Мне иногда кажется, он умел управлять временем; буквально – распоряжаться. А может, не умел, и это оно им распоряжалось как хотело. Но в любом случае между ним и временем (и с большой буквы, и с маленькой) отношения сложились особые. Может, напишу как-нибудь.
Я тут, знаете ли, словечко “задержанец” от одного услышал. Не знал прежде. Слово точное, емкое. Достоевскому бы понравилось.
Стал задержанцем. Почти как я. Не отпускали, потому что не заплатил за гостиницу. Давно бы умотал из Висбадена, когда бы не этот отель.
Еще бы мне не понимать Федора Михайловича, Евгения Львовна!.. Смотрите, Достоевскому лучше всего работалось по ночам. Отказ хозяина гостиницы свечи ему выдавать, как неплатежеспособному должнику, означал, по сути, запрет на работу. Так ведь и у меня то же. Ночью нам спать надлежит. Не попишешь. Режим-с.
При этом он большую часть дня вынужденно просиживал в гостинице, лишь днем выходил поболтаться час-другой по городу, и догадайтесь – зачем? Если не знаете, догадаться нельзя. Я, может быть, и позавидовал бы его свободе передвижения, когда бы не были столь бессмысленными его променажи. Так вот слушайте: покидал он гостиницу с тем, чтобы, опять же, хозяин не заподозрил его, что он не обедает. Для респектабельности выходил – намекал, что еще на плаву. Интересно, питался ли он вообще чем-нибудь? Получается, мы в лучшем еще положении – у нас хотя бы гарантированное трехразовое питание, при всех его кулинарных нюансах.
На пятый же день стал письма писать с мольбами о помощи, а главное, к чьим сердцам взывал? – Герцена и Тургенева, отнюдь не друзей, не единомышленников! Ну, в Петербурге со всеми, кто был к нему ближе, он перессорился. Будучи издателем лопнувшего журнала, не до конца расплатился с авторами. Это плохо. Знакомо. И мне бывало, это еще в лучшие времена, не платили положенное. Негодовал. Так нельзя. Гонорар святое. И какое мне дело до проблем издателя? Должен – плати. Вот он и полез в кабалу к Стелловскому (про тот договор Вы погуглите сами…). А потом еще и на рулетку понадеялся, безумец…
Я, как видите, рассуждаю здраво: по мне, так и хорошо, что Герцен не дал ему денег, а то проиграл бы. От Тургенева получил половину просимого, и судьба той суммы лично мне неизвестна (не интересовался вопросом) – может, проел, а может быть, фонду развития казино посильную жертву принес. Часы, во всяком случае, оставались невыкупленными.
Сильно зацикливаться на этом не надо, вторая глава не резиновая. Это я Вам для контекста, а в книге компактно все это надо представить. История, говорю, в целом известная. В конце концов помог И.Л. Янышев, местный православный священник. Он и за часы заплатил, и самого автора “Мертвого дома” выкупил из отеля, и дорогу ему оплатил, и багаж – в общем, одолжил денег под конкретные цели. А отправился Федор Михайлович не в Петербург вовсе, а, на радостях, в Копенгаген. В гости к другу своему, еще к семипалатинскому, – к барону Врангелю, Александру Егоровичу.
Но не будем забегать вперед. Нам важнее, что до того еще он определился с замыслом романа. Полагаю, безденежье – да и вообще невзгоды – сильно дисциплинировали Достоевского. Этому качеству мне остается только завидовать. Не знаю как Вы, Евгения Львовна, а я так не умею. Тебя бубух в яму, а ты хвать перо и скорее новую повесть писать – иначе сказать, выкарабкиваться…
Очень уж хотелось ему аванса.
Написал письмо в “Отечественные записки” – предложил задуманное сочинение. Не заинтересовал – отказали вежливо.
Тогда он Каткову написал, в “Русский вестник” – рассказал о бедах своих, попросил 300 рублей аванса и кратко пояснил, за что. В те времена слово “заявка” для подобных сношений не употребляли, это мы всё – “заявка”, “заявка”! А то и была, по сути, заявка. Как у меня сейчас, но покороче.
Ну так вот: цель моя здесь показать – со всей остротой понимания – безумство этого замысла.
Почему безумство, сказал? Да потому что безнадежное дело – такой роман написать.
Вот об этом и должна быть наша книга. О безумии замысла.
Оригинальных мыслей у меня сверх головы.
А главу эту, по неизбежности компилятивную, я бы назвал так:
ЗАПАДНЯ
[3]
Благодарю. Кратко, сдержанно: мерси и спасибо. Вашими молитвами действительно располагаю сто двадцатью пятью пронумерованными листами бумаги формата А4, – более чем достаточно, почерк у меня мелкий. Спасибо за тома подготовительных редакций и писем классика, – не смел рассчитывать на такое. Особая благодарность за карандаш вполне приличной длины. И хотя от меня этого не требуется, охотно клянусь: не воспользуюсь карандашом не по предназначению.
Одним словом, главное спасибо мое – за доверие.
Евгения Львовна, хочу посоветоваться.
Начал я с заклинаний, что не будет в книге обо мне ничего, потому что не обо мне книга. Кроме того, обещал не касаться моего личного Случая. Теперь в сомнениях. Поначалу я действительно хотел скрыть правду – о себе (не от Вас, конечно, Вам и так обо мне все известно, но от гипотетического читателя заявляемой книги…). Теперь вижу: это обман. При всем желании обойтись без честного изъяснения исключительного значения моей персоны ничего у нас не получится, коль скоро будет продолжаться разговор о конкретном романе Федора Михайловича Достоевского. Ибо Вам хорошо известно, что собой моя персона представляет. А стало быть, и о персональном Случае не избежать разговора.
Так вот в том и вопрос, – а не рассказать ли честно и откровенно, как это все со мной приключилось? Не объяснить ли моему гипотетическому читателю – причем здесь, в самом начале, – в чем этот случай мой заключается?
Не приподнять ли забрало? Не показать ли лицо? Не показать ли прямо – кто я есмь; ну и почему я тут, как следствие?
Иначе, во-первых, предвижу путаницу, а во-вторых, так было бы честнее по отношению к читателю. А то получается, скрывая правду о себе (оk, часть правды), я благодарного читателя за нос вожу. Нехорошо как-то.
Нет, я понимаю, излагал бы другой кто-нибудь мысли свои о Федоре Михайловиче, тогда бы и вопросов не было, но на мне, мне видится, лежит особого веса ответственность в силу хотя бы того, что Вы называете моей “проблемой” (и что я как “проблему” практически не воспринимаю).
Мне кажется, небольшую главу следовало бы посвятить некоторым разъяснениям касательно моего состояния, чтобы читающий мог самостоятельно сделать вывод об особенностях метода изложения – и! – о самом предмете.
Помню: именно этого Вы мне и не рекомендовали касаться (равно как и вообще думать об этом), но логика повествования требует радикальной коррекции.
По трезвому размышлению, стало мне думаться о пользе возвращения к воспоминаниям (в мягких, спокойных тонах) об уже упомянутой здесь лекции, мною прочитанной в Музее Ф.М.Достоевского в октябре прошлого года. Вы лучше кого-либо осведомлены о духовном преображении, постигшем не готового к тому лектора в один из моментов его выступления. Я не эпилептик. Но случившееся со мной соотносимо с известными описаниями в произведениях классика (в первую очередь в “Идиоте”).
Это пришло внезапно. Помню их лица, помню всё, что говорил. Я рассказывал, “как у него получается” – конкретно говорил про тот злополучный камень, и тут на меня снизошло – я понял, что рассказываю о себе.
Вспышка самосознания.
Я понял, почему мне известно это – “как у него получилось”. Я понял главное о себе.
У меня перехватило дыхание. Я сбился. Мне сказали потом, что мой взгляд внезапно стал ошалелым. Необыкновенные ощущения испытывал я, когда нашел в себе силы продолжить, – слова были те же, обычные, но рассказывая о классическом романе, я теперь понимал: он мне рассказывает обо мне.
Литературоведам свойственно, более чем представителям иных наук, что-либо открывать, любое интерпретационное новшество соблазнительно интерпретировать как открытие, но это было реальным, убийственным, судьбоносным открытием, внеположным предмету исследования и касающимся меня непосредственно. Помню это сногсшибательное ощущение – весь мир в один миг изменился и стал чем-то другим, отвечающим моему внезапному восприятию и тому, что я узнал о себе.
Вот тут и надо, мне кажется, что-то такое поведать возможному читателю, а может быть, лишь намекнуть – на некое событие, преобразившее автора заявляемой книги; пусть знает, с кем дело имеет, но в самых общих чертах!
Притом проявить осторожность.
О психике читателя нельзя забывать. Мы всегда в ответе за тех, кто нас читает.
Не хватало еще, подумали чтобы, будто я вообразил себя Достоевским.
Вы знаете, кто я и что я.
Не Достоевский. Не Наполеон. Не Раскольников. Не Свидригайлов.
Было бы так просто, не получилось бы у меня писать заявку на новую книгу.
Кто я и что я – между нами, между мною и Вами и Вашими коллегами, дорогая Евгения Львовна. Ну так что скажете? Идет?
А главу эту можно было бы так назвать:
НЕКОТОРЫЕ
ПОЯСНЕНИЯ,
НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ
ВСЕХ МОИХ
МЫСЛЕЙ
[4]
Хорошо. Я усвоил, не спорю. Нельзя ни о Случае, ни о “проблеме”. Заметьте, любое собеседование с Вами идет мне на пользу. Прошу прощения, предлагаю забыть. Очень уж мне нравится формула миролюбия, выведенная Ф.М., ну разве не блеск? – “Может быть, я был отчасти виноват, может быть, был – отчасти и прав. Всего вернее, что и то и другое было. Теперь же скорее готов обвинить себя в капризе и заносчивости.
Я забыл подробности этого дела. Могу ли я надеяться, что и Вы, многоуважаемый Мих<аил> Ник<ифорович>, не захотите их теперь припоминать?”
Вот и я забыл подробности предыдущей главы. Могу ли я надеяться, что и Вы, многоуважаемая Евгения Львовна, не захотите теперь припоминать мою непредвиденную инициативность?
Итак, продолжим. Речь у нас шла о “заявке” Ф.М., но я отвлекся на рассказ о себе. Так вот, письмо Михаилу Никифоровичу Каткову от 16 (28) сентября 1865-го – в Москву из Висбадена (кстати, только что приведенная выписка – это оттуда) известно нам исключительно по случайно сохранившемуся черновику, но и этого для наших нужд более чем достаточно.
Мне-то хорошо, я беззаботный, набело Вам тут пишу, а Достоевский, на что спонтанен был в своих обращениях, это письмо Каткову… хочу глагол подобрать… антиципировал черновой репетицией в заветной тетради – он каждое слово продумал. Там и сохранился этот черновик с подготовительными материалами к осуществляемой прозе. Важное письмо, спору нет. Литературоведы его часто цитируют.
Письмо немаленькое, львиная доля посвящена изложению идеи повести (еще не романа).
В нашем случае, полагаю, цитировать необязательно.
Ну, я не знаю, вроде бы тут и так все ясно.
Пунктиром:
Молодой человек, исключенный из студентов… в крайней бедности… по шаткости понятий… убить старуху… глупа, глуха, больна, жадна… “никуда не годна…” “для чего живет?..” вопросы… сделать счастливою мать… избавить сестру… быть честным… в исполнении “гуманного долга”…
Положим, в явном виде мотив право имею еще не задан, но постановка вопросов уже та, студент-то мыслитель.
Перейду сразу к невозможности героя.
Это и раньше замечалось другими.
Вот, скажем, Юрий Корякин в конце перестройки (он был ее “прорабом”) даже так поставил вопрос: “Мог ли убить Раскольников?” Пожалуй, не мог. Ибо далеко не типично сочетать в одном лице физиономии идеолога и исполнителя. Идеолог лишь обосновывает, топором не замахивается, с него взятки гладки, а исполнитель лишь исполняет, что обосновала теория, следует правилу (выполняет приказ), “грязную работу” кому-то надобно выполнять… То есть ответственность обоих, по взаимной их логике, как бы минимальна, потому и осуществляются с легкостью преступления, отвечающие такой парадигме.
Согласен. Но можно проще на это смотреть. Или ты то, или другое. Или грабитель, или идейный.
Деньги нужны? Пошел, зарубил, ограбил. Можно и “вошью” оправдать содеянное, но это так, ситуативная отговорка, на теорию совсем не тянет.
Или бомбу бери и кидай. Но тогда не придет в голову еще и ограбить.
Экспроприации начала двадцатого века – другая песня; это уже боевые действия.
Видите, как я рассуждаю здраво, даже не прибегая к случаю моего Случая (стоп, молчу!).
А вы посмотрите, Евгения Львовна, на все те криминальные случаи, о которых знал Достоевский.
Именно что криминальные! Убийства ради денег. И только. И никаких теорий, никаких идей!
Герасима Чистова обычно называют прототипом Раскольникова. Впрочем, это московское убийство, при всем его (предполагаемом) влиянии на замысел романа, осталось по существу нераскрытым, вина Чистова в суде не доказана. Но кто бы ни убил двух женщин топором, цель у преступника была одна – ограбление.
Девятнадцатилетний князь с грузинской фамилией, “с хорошими наклонностями” образованный молодец, что грохнул в Петербурге ростовщика Бека и его кухарку, он что – идейный был? Сейчас бы назвали резонансным убийством, обостренное внимание к себе привлекло, газета “Голос” отслеживала процесс, Достоевского интересовали подробности – и в чем идея? Нет идеи. Психанул, зарезал, ограбил.
И еще один громкий, снова московский случай, связанный уже тем с романом, что никакой связи с ним не имеет: молодой человек перед публикацией первых глав, то есть вне всякой зависимости от уже написанного убийства, порешил ростовщика и его служанку, и прошу заметить, Евгения Львовна, – не иначе как топором!.. Оставим потрясающие совпадения и спросим себя: в чем идея убийства? А ни в чем. В ограблении.
Родную сестру Достоевского, московскую домовладелицу, уже после смерти писателя тоже убили.
Там такая жуть и такие совпадения, что мистикам праздник!.. Может, подельники “Преступлением и наказанием” вдохновились и хотя бы в этом обнаружили идейность? Нет, Евгения Львовна. Банальное ограбление.
Герой сконструирован, придуман, жизнь подобных не знала. Я такие заявления делать моральное право имею – Вы знаете почему. (Это Набокову не очень прилично, про коллегу-то, да еще в свете соперничества, а мне более чем пристойно – сам Бог велел…) Но шляпу снимаю. Вообще – шляпу снимаю. И в частности – по тому, как он убедительным мог оказаться, особенно в критический момент жизни. Катков, конечно, проникся замыслом. Старую обиду забыл и тут же расщедрился на аванс в 300 рублей, да и гонорар положил удовлетворительный – 125 рублей за лист, по нижнему пределу автором ожидаемого.
Короче, поверил.
Я бы так и назвал эту главу:
АВАНС —
ЧТО ДАЛЬШЕ?
[5]
А что дальше? А то дальше – что получилось. Так вот: получилось! – и это самое удивительное. По всем моим задним числом прикидкам роман не должен был получиться. Начальные условия немыслимы. Тенденциозность неизбежна. Неправда неисправима.
Овладей другим кем-нибудь этот замысел – сломался бы автор в два счета. А у Достоевского получилось. Положим, не в два счета, а в три (по числу предварительных редакций), но, Евгения Львовна, Вы ж не будете придираться к числам; фигурально мое выражение.
Имеет смысл (осторожно!) вернуться к моей достопамятной лекции. Неплохо бы сообщить было здесь, как она называлась. А называлась она, напомню, так: “Как у Достоевского получается”.
Вот этот вопрос – без знака вопроса – меня сильно волнует. И сейчас волнует. И не менее чем тогда – в момент моего (одно только слово!) прозрения…
Как у Достоевского получается? В смысле не “Как сделано «Преступление и наказание»?”, а как удается роману осуществиться, состояться, не стать неудачей – при всей рискованности и сложности замысла?
Иначе – как осуществляется творение.
Не столько как творится, сколько как вытворяется!..
Говорить об этом будем и дальше, а в этой главе хорошо бы найти яркую краску для моего пафоса и ограничиться постановкой вопроса в самом общем виде. Можно так и назвать:
ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
[6]
Многие, едва ли не большинство из прикасавшихся к Достоевскому думают, что “Преступление и наказание” он так и писал – с ходу, кусками, отправляя сразу в печать согласно журнальному графику. Да нам так и в школе, помнится, рассказывали, причем это подавалось как пример образцовой собранности классика.
О двух черновых редакциях публика (словечко, кстати, из первой редакции) практически не осведомлена. И это естественно, черновое хозяйство автора ее волновать не должно. Притом не худо бы знать уважаемой публике, что за предъявленным ей каноническим текстом скрыт напряженнейший труд, что и подчеркивает Л.Д.Опульская, публикатор черновых редакций. Том 7 передо мной; в связи с этим пользуюсь возможностью (оцените уместность этого оборота) выразить Вам благодарность, Евгения Львовна, за предоставление необходимых изданий; Вы не поверите, но этот том из нашей казенной библиотеки, закономерно относящийся к “Преступлению и наказанию” (“Рукописные редакции”), до меня никто не открывал. Хотя уверен: поверите.
Не могу не отметить тираж: 200 тысяч. Это “Рукописных редакций”!.. Так вся первая половина собрания этим тиражом выходила (относительно скромным по тем временам (год 1973-й)), потом тираж несколько сократился (кажется, на рукописных редакциях романа “Подросток”), можете сами проследить по выходным данным, но уверяю Вас, он того же порядка… При том что продавалось всё это в специальных отделах книжных магазинов только при предъявлении абонемента – издание-то подписное!.. А что Вы хотите? – книжный бум, страна литературоцентричная, самая читающая в мире!.. Знаете, с чем у меня “300 спартанцев” ассоциируются? Да уж конечно, не с Голливудом… Спустя почти полвека после того первого полного Пушкинский Дом берется за второе – с дополнениями, исправлениями и тому подобным, – аналогичный седьмой том на этот раз выходит тиражом 300 (триста) экземпляров. По мне, каждый экземпляр рукописных редакций романа “Преступление и наказание” в прочных латах примечаний и комментариев это стойкий боец в Фермопильском ущелье. Не меньше!
А наш седьмой том, один из тех двухсот тысяч, мой брат-близнец залил кофе – долго ему простить не мог этого.
Ну так вот, первую черновую редакцию публикаторы назвали “краткой”.
Краткая она, конечно, краткая, но с учетом того, что начало потеряно, связанного последовательного повествования листов пять было, в принципе, небольшой такой современный роман. У Достоевского – “повесть”.
Обрывается на незаконченной фразе. (Почему – я Вам еще расскажу; я-то знаю…) И нет начала, как я сказал. Но по правде, не жалко.
Текст сыроват. Прямо скажем. Ну так на то он и черновой.
Я бы не позволил себе дерзость давать здесь оценку, но это касается напрямую заданной темы: классиком допускается стратегический промах, и он грозит творческой неудачей. Повествование ведется от первого лица.
Убийца рассказывает о себе, причем в письменной форме. Это дневник.
Убил. Через пять дней – в горячечном стиле – описывает свое состояние после убийства; главный мотив – забытье и объяснение себе самому, почему не записал сразу. А что – должен был записать?
Еще через день – по избавлению от лихорадки – он приступает к весьма методичному изложению событий этих дней, и знаете, в нем пробуждается беллетрист!
Ну вот навскидку.
“Лавиза Ивановна уторопленно, и с любезностью, и с достоинством, и приседая дошла до дверей. Но в дверях наскочила сзади на видного офицера с открытым свежим лицом и с превосходными смоляными бакенами…”
Ну и при чем тут повадки какой-то Лавизы Ивановны и достоинства бакенбард офицера, если собрался говорить о главном?
Зачем он создает этот текст? Зачем он пишет? И зачем он пишет так, словно заботится о читателе? У него нет и не может быть читателя, кроме него самого. Может, он намерен доказать самому себе, что он способен владеть пером? Способен замечать детали, призванные оставлять впечатление достоверности, изображать долгий диалог, снабжая прямую речь обстоятельными ремарками?
И вместе с тем изображает болезненность своего состояния, озноб, бледность, “не знаю, не помню”, того гляди в обморок упадет, сообщает о неспособности описать переживаемое, что несколько противоречит достаточно уверенному письму. “Дальше я не буду рассказывать. Одно ощущение – сумасшествие”.
А может, он и есть сумасшедший?
Это бы многое объяснило. Вот в записной книжке помеченная нотабене запись – вроде предписания для персонажа: “Во все эти шесть глав он должен писать, говорить и представляться читателю отчасти как бы не в своем уме”. И этот убийца старается. Следует инструкции. Представляется – “как бы”. Только, дорогая Евгения Львовна, никакое это не сумасшествие. Поверьте мне, я вижу. Одна симуляция.
Но зачем, зачем? Зачем он говорит от своего имени? (Имя, к слову, у него Василий, и он еще не Раскольников.) Зачем повествование в первом лице?
Не работает.
То, что работало в “Записках из подполья”, не работает в “повести”, ведь повествует убийца!
Не собирается же он, в самом деле, напечатать в “Русском вестнике” о своем жестоком преступлении?
Уж это точно. О бытовой стороне писательства своего героя автор позаботился больше всего. Дневник, разумеется, тайный. А тайному нужен тайник.
“Этих листов у меня никогда не отыщут. Подоконная доска у меня приподымается, и этого никто не знает. Она уже давно приподымалась, и я давно уже знал. В случае нужды ее можно приподнять и опять так положить, что если другой пошевелит, то и не подымет. Да и в голову не придет. Туда под подоконник я всё и спрятал. Я там два кирпича вынул…”
Смею предположить, что ФМ описывает подоконник в висбаденской гостинице, пленником которой стал. Уж очень подробно; хочется сказать – зрелищно.
Ситуация любопытная. Смотрите: убийца, в порыве внезапного авторствования, навязанного ему Достоевским, пишет и прячет в подоконнике дневниковую повесть, в ином измерении представляющую собой художественное произведение самого Достоевского. Если не менять пропорций, это равносильно тому, как если бы сам Достоевский, написав “Преступление и наказание”, спрятал бы рукопись под подоконником у себя в Столярном переулке – или хотя бы эту черновую редакцию в подоконнике висбаденского отеля, не поставив в известность Каткова…
Забавно, забавно… А Вы могли бы вообразить меня, прячущего от Вас… ну допустим, некоторые странички этой заявки? Допустим, я тайно на отдельных листках что-то пишу мелким почерком, что-то, к примеру, личное, к делу не относящееся и хуже того – недозволительное с позиций Ваших методик. И разумеется, прячу. От Вас. Только где? Да вот за тумбочкой этой, там со стороны стены внизу перекладинка, потрескалась краска и за этой дощечкой наметилась узкая щель, – аккурат, как в нагрудный кармашек, если пополам их согнуть, две-три странички вставляются. Никто не заметит.
Способны ли Вы представить меня за подобным занятием?
Сам себя вполне представляю.
Представляю и спрашиваю: в чем же цель манипуляций? Где мотив? Для чего? Кто прочтет?
Чтобы потом перечитывать самому?.. Очень сомнительно.
Вопросы, понятно, к Василию (не к Родиону даже).
Обо всем об этом и хотелось порассуждать в этой главе; я предложил бы название
ПОДОКОННИК
И ТУМБОЧКА
[7]
Хитрость не очень хитрая, но обещает сработать. На самом деле про тумбочку я нарочно придумал. Как говорится, для отвода глаз. Предыдущую главу следовало бы назвать “Подоконник и матрас”. Но Вы это название не прочтете. Куда важнее: Вам не прочесть, что сейчас пишется мною.
Именно под матрасом, со стороны стены, я спрячу от Вас эту страницу.
А что остается мне делать, если Вы, дорогая Евгения Львовна, своими ограничениями стесняете память мне и рассудок? Я тоже в некотором смысле человек образованный и тоже кое-что почитывал в областях, не обязательно относящихся к моей основной специальности, и поверьте, с областью Ваших научных интересов я знаком несоизмеримо лучше, чем Вы с моей. Откровенно говорю, меня Ваша методика категорически не устраивает. Более того, она представляется мне вредной. Если бы я лечил Вас – вздорную самоуверенную дуру! – я бы не стеснял Вас бессмысленными запретами!.. Да что говорить, Вы все равно не прочтете!..
Ощущаю необходимость вернуться к теме моего персонального Случая и удалить неопределенность касательно моего состояния и моего статуса.
Без этого дальнейший разговор невозможен.
Речь о вспышке самосознания, перенесенной моим существом в то самое время, когда я читал лекцию о романе Достоевского.
Потом мне говорили, что это вызвано сильным переутомлением, накопленной усталостью, перенапряжением сил сверх возможностей организма. Я действительно много в то время работал, плохо спал, не давал отдыху мозгу… или нет, это мозг мой вместо того, чтобы думать об отдыхе, читал наизусть мне страницы из Достоевского. Полифонию по Бахтину я понимал как полифонию по-моему – это когда в моей голове одновременно звучали голоса персонажей книг Достоевского. Да, всё это было. И все же это другое. Во-первых, что-то подобное, пускай и в менее жестких формах, мне доводилось испытывать раньше. Во-вторых, я держал себя в рамках, во всяком случае внешне. В-третьих, я знаю, чем чревато переутомление. Только не этим. Я испытал просветление. Я как бы преобразился. Усталость мгновенно прошла. Я стал другим. Прямо во время прочтения лекции!
Я почувствовал, кто я. Почувствовал и осознал. Я предмет моего выступления. То, про кого и про что говорю глядящим на меня ценителям Достоевского…
Потому что я и есть роман Достоевского.
Повторю: я есть роман Достоевского “Преступление и наказание”.
Вот что открылось мне в тот вечер, когда я читал лекцию о романе. Вот что меня тогда потрясло. Вот суть моего открытия.
Нет (еще раз), не Достоевский сам, не Наполеон, не Раскольников, не Свидригайлов, а все вместе и сразу – и главное, сверх того!
Я есть “Преступление и наказание”!
Я есть Преступление! Я есть Наказание!
“Преступление и наказание”!
Оно воплотилось во мне!
Я не знаю, с чем это сравнить. Я остаюсь человеком, две руки, на каждой по пять пальцев, у меня конкретное Ф.И.О., уникальные данные паспорта, пользуюсь ложкой и зубной щеткой, способен общаться с людьми, брат-близнец меня навещает, и вместе с тем я безусловно оно, то самое – “Преступление и наказание” Федора Михайловича Достоевского. Роман, но не только роман. Еще идея романа.
Не книга в смысле предмет – скорее, дух книги. Что-то похожее у античных богов, у древних греков в первую очередь. Бог реки – он и река, но он и ее божество, способное являть себя в человеческом облике.
А может, Афина? Она родилась из головы Зевса. Вот так и я родился из головы Достоевского (что не мешает оставаться рожденным обычным порядком). И мне присуще могущество античного бога – в пределах его ответственности.
Как сын моей матери я человек, но как рожденный из головы Достоевского я “Преступление и наказание”.
Сейчас я немного мудрствую, но тогда я осознал это без слов и выручающих образов. Конечно, это был шок, но шок просветления.
Отдаю отчет в том, что это странная ситуация. Но лично меня она вполне устраивает.
Доставляет некоторый дискомфорт чтение чужих работ по “Преступлению и наказанию”, далеко не всегда приятно читать о себе самом. Но я способен дистанцироваться от этой стороны своего воплощения. Могу смотреть на себя со стороны и воспринимать вполне диалектически свое двуединство.
В целом, коммуникативных проблем за собой не знаю. Иногда общение с другими затрудняет понимание, что тебя хотят прочитать. Я не против. Сколько угодно. Я даже рад чужому интересу к роману. Беда не во мне, а в убыстряющемся падении культуры чтения. Читатель мой опрощается, перестает воспринимать текст, это пугает.
Пугает, что читают не так. Пугает угроза не прочитаться (впрочем, и радует тоже). Вот вы все, в моих мозгах ковыряясь, много ли там обнаружили полезного, верного, вечного?.. С вашим-то всепроникновением, с вашей-то прозорливостью… с вашим всезнанием?..
Мне смешно даже думать об этом.
А хорошо ли я сам понимаю “Преступление и наказание”? Иногда мне кажется, лучше всех – задавайте вопросы – знаю все досконально. Но и сомнения посещают порой. А иногда даже страх – будто в тебе самом раскрывается бездна. Вопрос в той степени справедлив, в какой субъект сам себя понимать или не понимать может и насколько он сам готов к самопознанию. Да, есть такое. Каждый ли из нас хвастаться будет абсолютным пониманием себя самого? Разве что сумасшедший.
Еще меня пугает мысль, что я в этом роде не единственен. Плохая мысль, я ее отгоняю. Не хочу верить ей. Иначе мне трудно представить встречу с тем существом. Это тяжелее, чем увидеть своего двойника. Не буду об этом.
Так что и без Вас, дорогая Евгения Львовна, я себе запрещаю думать о некоторых предметах. Например, о собственной гениальности. ПиН гениально? Безусловно. Значит и я гениален, коль скоро я ПиН?
Вам не нравится ПиН? Мне тоже. Больше не буду. Много бумаги – нет надобности сокращать.
То же с бессмертием. Но здесь я даже мысль не хочу формулировать. Можно додуматься до безумных вещей.
(Бессмертен ли я; если да, то насколько; что есть бесконечность; и есть ли она…)
Довольно. Пора завершать. Я был обязан написать эту главу. Я в рамках. Пора убирать под матрас, а нет ей даже названия, пусть так и будет
БЕЗ НАЗВАНИЯ
[8]
“Я под судом и все расскажу. Я все запишу. Я для себя пишу, но пусть прочтут и другие и все судьи мои, если хотят. Это исповедь, полная. Ничего не утаю”.
Таково начало “Второй (пространной) редакции”, как называют публикаторы материалы, относящиеся к “Преступлению и наказанию” из другой записной книжки писателя (в 7 т. ПСС). Черновой автограф озаглавлен так: “Под судом”. Это название Достоевского.
Видите, какой радикальный поворот.
Подоконник останется в целости и сохранности, два кирпича пребудут на месте, необходимости что-нибудь прятать больше нет – автор лишает убийцу желания вести дневник и правильно делает, фальшивый дневник выходил какой-то. Теперь герой повествует не сразу после убийства, а спустя восемь месяцев – времени у него было достаточно, чтобы разобраться в каких-то важных вещах, кое-что вспомнить. Теперь за ним будет числиться, если верить подготовительным заметкам, подвиг на пожаре и недвусмысленное раскаяние (автору на данном этапе так благостно виделся финал этой истории).
Прежде было для себя (или не для кого), теперь для всех (и для себя тоже). Возможностей больше.
А проблемы – те же.
Вспоминается знаете кто? Андрей Романович Чикатило, Ваш любимец. Он, будучи осужденным, собирался воспоминания написать о своей трагической жизни. Мыслил себя исключительной индивидуальностью, полагал, что эти мемуары должны представлять большой интерес – уж не знаю, общественный или медицинский, ему наверное все равно было. Говорят (читал где-то), уже приговоренным он не верил, что его могут казнить, столь высоко ценил свою уникальность. А что? Любопытный мог бы получиться текст, как Вы находите?
Филолог, между прочим. В школе-интернате преподавал русский язык и литературу. Мне бы очень любопытно было посидеть на его уроке, послушать, что он о Раскольникове, о Свидригайлове говорит, о проблематике романа в целом.
Принцип “право имею” ну не мог же он на себя не примерить? – принцип “право имею”, как понимаю, в его случае действовал безотказно. Он-то, со своей уникальностью и неповторимостью, “право имел” – в меру вменяемости (а он, согласно экспертизе, действительно был вменяемым при всех психических отклонениях). А вот взрослому сыну в этой исключительности, похоже, отказывал. Когда того на уголовщину потянуло, вмешался, нагоняй сыну устроил – справедливо так, по-отцовски (тот для первого раза двумя годами условно отделается), – это все обсуждалось в печати, даже телепередача была… Но может быть, тут другое – высота полета, понимаете ли. Одно дело зверское убийство с потрошением, выколотые глаза, поедание отрезанных фрагментов тела, бурный оргазм – необузданные страсти, жар, и другое – какое-то заурядное ограбление несчастных вьетнамцев.
А не кажется ли Вам, Евгения Львовна, обладание редчайшей фамилией может побудить к чему-то особенному в поведении человека, ему ж на роду так написано? Вот и Свидригайлов – тоже фамилия из уникальных… А Раскольников? Мать Раскольникова не только статьей сына гордилась, она и о своей фамилии (в подготовительных материалах) с гордостью говорила, дескать, двести лет этой фамилии, – а ведь нам в жизни не попадались Раскольниковы… Чикатило тут вне конкуренции… А тут еще и отчество не из самых распространенных – и что? – когда Андрей Романович о Родионе Романовиче своим ученикам рассказывал, не возникало ли у него ощущение, подсознательно пусть, кровного родства с персонажем?..
У Достоевского вполне мог появиться Чикатилин какой-нибудь, он такое любил…
Да что я на Чикатило этого переключился? Ну его. В заявленной книге случай его стоит лишь упомянуть как параллель авторствованию “под судом”. Психотип же совсем другой.
Хотя относительно Раскольникова тоже вопрос можно поставить ребром: сам-то он мог бы стать серийным убийцей?
И знаете, как, Евгения Львовна, отвечу… А вот утвердительно Вам отвечу. Если бы у Раскольникова первый опыт вполне успешно прошел (то есть подтверждено эмпирически было бы, что “право имеет”), неужели остановился бы? Нравственные убеждения просто требовали бы продолжения. Тех деньжат, что добыл по первости, явно не хватило бы для крупных гуманитарных проектов, стартовый капитал маловат. Отказ от продолжения равносилен признанию бесполезным первого акта, стало быть, вся идея ставится под сомнение. Да что ж останавливает? Всяких “вшей” в Петербурге хоть пруд пруди – расширяй свои возможности во благо человечества, раз у тебя такая программа благородная.
В окончательном тексте герой проговаривается. Он говорит Соне вскоре после признания: “Пойми меня: может быть, тою же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийства”. Вот ведь как!.. Значит, и другое “может быть” мысленно допускалось?.. Значит, мог все-таки, “тою же дорогой идя”, и “повторить”, получается? Если бы сумел доказать себе, что не “тварь дрожащая” и “право имеет”?
Я к тому, что в случае успеха первого дела (на что и был расчет) Раскольников непременно стал бы на тропу серийного убийцы (чего хоть и не было в планах, но по логике “проекта”, по целеполаганию, непременно должно было б случиться). Альтернатива тому: неудача “проекта” – убийца не выдержал, сломался.
Вы скажете, о том и роман – в обязательном порядке убийца не выдержал бы. Иного варианта будто бы Достоевский и допустить не может. Ну да, коль скоро он именно этому человеку поручает убийство двух женщин, иного исхода ждать не приходится. А если бы поручил иному герою? У кого нервы покрепче? Таким головорезам счету нет. Да и в подготовительных материалах встречаются имена исторических и литературных преступников… Да вот целый тип – благородный разбойник! Благородный разбойник – он же идейный! Знаете, как Достоевский любил Шиллера? “Разбойники” – юношеский восторг. В молодости сам драму написал в подражание, – не сохранилось ни строчки… А Дубровский? Жизнь заставила. Подался в разбойники. Вроде бы и наш тот же тип, – разве он не благородный разбойник?.. Только не по лесам шныряет, а лежит на диване. Замыслил устроить разбой и благими делами кровь искупить. И в чем проблема? Да ни в чем. Одна только. В том, что поручает автор топором орудовать неврастенику. Конечно, у него ничего не получится.
Иными словами, в этой главе мне хотелось бы выразить мысль вот такую: если уничтожать старушек исключительно ограбления ради, ничего оригинального в этом не будет, но если зарубать их во благо всему человечеству, то это уже Ваш клиент, Евгения Львовна. Получилось у него или нет (то есть стал ли серийным или же сразу обломался), особого значения не имеет – Ваш клиент.
А вот в желтый дом Достоевский не хотел его упекать, пусть идет на каторгу, причем по своей воле. Писателя не психиатрия интересует, а психология: как тут у нас представитель молодого поколения со своим заблуждением справляться будет.
Трудную задачу ставит перед собой автор будущего романа – побудить такого новоиспеченного убийцу рассказывать о своем преступлении – и теперь уже всему свету, да так, чтобы, демонстрируя ситуативное помешательство, не выдавал он в себе маньяка логикой осмысления своих же мотивов.
Вот об этом должна быть глава. Чтобы с названием не мучиться, позаимствуем заглавие из второй рабочей тетради, пусть так и будет названа:
ПОД СУДОМ
[9]
Евгения Львовна, почему Вы не пишете, не сочиняете, не литературствуете? Если бы на Вас нашло чего-нибудь этакое и Вы бы надумали писателем стать, я бы вам как начинающему автору такие бы чудесные уроки преподал бы! Жаль, что писать не намерены…
Нет в том заслуги моей, что я такой; это Федор Михайлович меня сотворил, это он написал “Преступление и наказание”.
Не напрягайтесь, пожалуйста. Ничего крамольного я не сказал. Я скромный, и мания величия мне не угрожает; но все-таки не мешало бы ценить природу моего существа. Я об этом.
Вынужден снова намеками – а что делать, когда не даете прямо сказать?
Потому что правильно говорит мой брат: кем бы ты ни был, пишущий, от последнего графомана Васи Пупкина до Толстого, Достоевского, Набокова, – все вы решаете, конечно, с разным успехом, но одни и те же задачи. А уж у кого что получится, это другой вопрос.
Написали бы рассказик хотя бы какой-нибудь плохонький, уже что-то почувствовали бы, а иначе – что Вы понимать в психологии можете, если ничего не кумекаете в психологии творчества? Как Вы лечите меня, когда я Вам в принципе не понятен? Недоступно пониманию Вашему, как я получился…
“Преступление и наказание” можно читать, но лечить его невозможно!
Всё. Достаточно.
Надеюсь, “Постороннего” хотя бы читали?
“Посторонний” Альбера Камю. Это я для сравнения. Автор, известно, под влиянием Достоевского находился. Тем более интересно сопоставить.
То же – “под судом” (во всяком случае – до казни героя). Смотрите: под судом и от первого лица – прям как у Достоевского в новой редакции! Казалось бы, то же самое. Нет? Я не о содержании, а о способе изъяснения – как субъект восприятия себя проявляет… Так нет же, нет! Все по-другому.
То же герой рассказывает о себе. Он застрелил другого – по крайней мере, его рука застрелила без внятно объяснимой причины, – за секунды до первого выстрела сам не знал, что станет убийцей. Язык его довольно сух; никакими бытовыми причинами мотив его выступления перед читателем не обусловлен – уж точно он не пишет в тетрадь, как наш.
Но у нас нет вопросов к его голосу. Почему? Да вот по тому са мому. Потому что этот голос – это не совсем его голос. Вроде бы его, а подумать – не может он так говорить гладко. У меня чуткое ухо – я слышу. Он как бы поручил свой голос кому-то другому – профессиональному рассказчику, имитатору чужих интонаций, настроений, повадок, короче, некой инстанции, чей образ мы, упрощая, называем образом автора. Поручают же свою судьбу адвокату – лицу, способному разбираться в законах. Вот и здесь я героя выражается голосом уверенного в себе субъекта, владеющего законами прозы. Словно кто-то невидимый исполняет роль персонажа; а сам персонаж просто находится рядом, подобно тому как рядом с адвокатом сидит подсудимый – сидит и помалкивает. Обладай этим голосом сам персонаж, он бы заслуживал Нобелевку по литературе. Премию получает автор, записавший этот монолог, будто бы от лица персонажа, тогда как персонаж, уступивший свое выступление, остается в ожидании казни.
А теперь взгляните на нашего душегуба, каким он себя обнаруживает в новой редакции Достоевского: он убил, и он сам за себя говорит. Сам. За себя. Он пишет конкретно в тетрадке.
Какой там адвокат!.. Какой там представитель!..
То есть они оба пишут в тетради – персонаж и автор его Достоевский – каждый как бы в своей, но по факту в одной. А посредника между ними нет. Идея тетради отменяет посредничество.
И не получается – причем у обоих! Условностей маловато. Чтобы такое о себе рассказать, нужен герою посредник. Незаметный такой. Как в повести у Камю. А этот сам. Сам с усам. Исповедь решил написать. Документ оставить. Памятник литературный.
Когда еще о состоянии психики – в целом получается правдоподобно. Как не поверишь такого рода переживаниям? Вот он вспоминает, что было с ним до. (До убийства, добавлю.) “Я ходил как сумасшедший”. Охотно верю! Дальше: “Я был в полном уме”. И этому верю… Дальше: “Я говорю только, что ходил как сумасшедший и это правда было”. Нет возражений. Ходи! Он и ходит на протяжении двух страниц в каком-то полубезумии, с этого начинаются записи его “под судом”. Рассказал о своем беспамятстве и вдруг признается, что единственно помнит “хорошо и отчетливо”, как встретился с Мармеладовым. Это он в распивочную зашел. И началось. Он в распивочной слушает Мармеладовы речи. Хорошо – слушай. Но зачем рассказываешь об этом? Никто не спорит, эти блестящие монологи важны для понимания идеи романа, создаваемого Достоевским, но тебе-то, осуждаемому за убийство, какого лешего их “под судом” вспоминать и воссоздавать по памяти во всей полноте и артистическом блеске? Откуда вдохновение это у тебя “под судом”, когда ты изображаешь, как самозабвенно выкладывал о своем – исключительно о своем – пьяненький Мармеладов?
Надо сказать, что от этой редакции, первой полной (второй черновой), – в отличие от первой черновой – сохранилось только начало: именно эпизод в распивочной с Мармеладовым, немаленький по объему, близкий к тому, что появится в окончательном тексте, но только рассказанный от первого лица.
Остается догадываться, с какими трудностями автор дальше столкнулся, заставляя героя “под судом” излагать эту историю письменно – исповедь, видите ли. Ага, исповедь!
Чем больше Достоевский принуждал сочиненного им убийцу к исповеди, тем более очевидным становилось: не хочет это существо исповедоваться. Ему бы роман написать. Но нельзя. Написать роман – прерогатива автора, сам пишет.
И понимает автор: надо не так писать, по-другому…
Трудная судьба у меня, Евгения Львовна. Все мы трудоемко на свет появлялись, а я особенно. Память о родовых травмах во мне всегда живет.
Боюсь, Вам не понять этого. Как я получаюсь.
В этой главе должны быть разработаны сходные мысли. Назовем ее
ПОД СУДОМ. ОКОНЧАНИЕ
[10]
Итак, по-другому. А по-другому – как? Повествовать надо в третьем лице (Достоевский говорит – “от себя” (то есть он и говорить “от себя” собирается (как рассказчик), и метод называет выражением “от себя”, Евгения Львовна, Вы поняли смысл моей фразы?)).
Казалось бы, чего проще – откажись от повествования в первом лице, перейди к третьему. Я на он замени.
Нет, Евгения Львовна, дело далеко не простое. Положим, в эпизоде как раз с Мармеладовым так и поступает автор (сохранились варианты), я на он да окончания изменяет, но здесь просто все: Мармеладов – объект наблюдения героя, это театр одного актера, а бывший студент – зритель. Да и потом, когда провожает пьяненького до дому, все равно остается пассивным участником происшествия. Но вообще говоря, механической заменой я на он не отделаешься. Взгляд изнутри поменять на сторонний – это не шутка. Тут дело не столько во взгляде и не столько в расширении знания о событиях, – для такой метаморфозы мировоззренческий переворот в своей голове надо устроить. Совсем иное (про автора речь), совсем иное реальности восприятие. Уж я-то это лучше других понимаю – между нами, Евгения Львовна.
