От Алданова до Яновского: 12 литературных портретов русского зарубежья
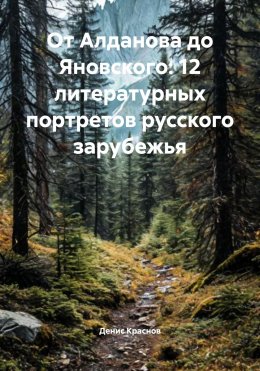
Вместо предисловия
Эта книга родилась из серии очерков, выходивших на портале «Год Литературы» в 2024-2025 годах1. Написав сначала об Александре Куприне, его парижских тяготах и предсмертном возвращении в Россию, я подумал, что неплохо бы «вернуть» на родину и других, пусть и менее известных, русских писателей, оказавшихся на чужбине после исторических потрясений начала XX века.
Совсем немногим из них удалось вернуться при жизни – из героев этой книги это получилось только у Антонина Ладинского, да ещё отчасти у Зинаиды Шаховской, которая около года прожила в советской Москве как супруга бельгийского дипломата. В какой-то момент близок к возвращению был и Гайто Газданов, но смерть ходатайствовавшего за него Максима Горького свела на нет прилагавшиеся усилия.
Идеологический раскол, разделивший надвое и русскую литературу ХХ века, не мог длиться вечно. Однако начавшееся с конца 1980-х воссоединение не завершилось и до сих пор, и многие замечательные авторы ещё как будто не до конца освоились у нас в роли литературных репатриантов. Фёдор Степун и Владимир Вейдле, Марк Алданов и Михаил Осоргин, Роман Гуль и Дон-Аминадо – эти и другие герои сборника словно чего-то ждут от нас, нашёптывая о самом важном из той жизни, которая уже никогда не вернётся, но без которой не было бы и нас с вами, и той страны, где мы живём.
Конечно, всему своё время. И всё же – зачем откладывать долгожданную встречу, когда она может состояться уже сейчас и принести немало радости и открытий? Пусть страницы этой книги будут только в помощь – а уж дальше наши герои и сами о себе всё расскажут. Они точно сумеют сделать это, как никто другой.
Парижский предел Куприна
Из русских писателей, оказавшихся на чужбине в первой четверти XX века, всего сложнее представить в Париже именно Куприна. Представить физически, хоть сколь-нибудь осязаемо – этого невысокого, крепко сбитого человека на шестом десятке лет, с татарским прищуром узковатых глаз, подёрнутых грустинкой на добродушно округлом – и таком безошибочно русском лице.
И всё же попробуем. Вот он вышел поутру из дома на улице Оффенбаха, осмотрелся, нахмурился. Мы тоже глядим на него со стороны и недоумеваем: костюм-тройка сидит превосходно, узкий галстук сбился чуть вбок, но не портит картины, носки штиблет игриво поблёскивают на парижском солнце – но это солнце не радует и даже слегка конфузит нашего знакомца, высвечивая чужеродный для него городской ландшафт, в котором ему так тесно и непривычно.
Прямо напротив – уныло гудит подстанция, вместе с ней гудит и накаляется воздух, начинает тяжелеть голова.
Как он здесь очутился, а главное – зачем?
Мужчина с трудом поднимает глаза и смотрит в небо, но ответа там не находит. О чём же он думает? К чему гадать – дадим ему слово:
«Почему-то прелестный Париж (воистину красота неисчерпаемая!) и всё, что в нём происходит, кажется мне не настоящим, а чем-то вроде развёртывающегося экрана кинематографии. Понимаешь ли – я в этом не живу. Это всё понарошку; представление».
Это будет написано несколько лет спустя, а сейчас, очевидно что-то вспомнив или заслышав, он резко оборачивается назад, предъявляя нам свой профиль. Мы видим складку на короткой шее, азиатские скулы, крупноватый нос и какую-то особую нетерпеливость, сквозящую в этой плотной, но подвижной фигуре.
Из той же двери, что и первый, на улице появляется другой господин, худощавый, повыше ростом. Прямая спина напряжена, желваки едва заметно играют на землистом лице. Во всём облике просвечивает готовность защищаться и при случае перейти в контратаку.
Однако первый и не думает нападать: приблизив лицо ко второму, он пытливо обнюхивает его, понимающе хлопает по плечу и расплывается в улыбке. Через десять минут они уже сидят в бистро за дружеским разговором, а через семьдесят с лишним лет на доме, у которого мы их застали, появится табличка с надписью:
С 1920 по 1953 год здесь жил русский писатель Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии 1933 года.
О Куприне нет ни слова, да, пожалуй, и не должно быть. Прожил он в этом доме что-то около двух лет, да и Нобелевской премии не получил. Парижских адресов сменил немало, словно искал себя и своё место в этом «прелестном», но как будто бы «ненастоящем» городе, к которому, однако, сильно привязался.
«Воистину Париж светоч и столица мира» – какой ещё русский писатель, пусть и устами своего героя, решился бы выразить восхищение так ясно и возвышенно?
А вот ещё, чтобы не было сомнений, – прямым текстом очерка, да ещё в сравнении с Москвой:
«Париж во все стороны жизни – и в науку, и в забаву, и в искусство – вносит две стойкие черты: изящество и законченность».
Имеет Париж «законченность» и в творчестве Куприна. Законченность и воплощённость, даже некую географическую очерченность. Речь, конечно, о «Жанете» – последнем, удивительном, хотя и совсем небольшом романе Куприна.
Шестилетняя девочка Жанета – «принцесса четырёх улиц» в Пасси, самом «русском» районе Парижа. Если посмотреть на карту города, эти четыре улицы: Ранелаг, Ассомпсьон, авеню Моцарта и бульвар Босежур – заключают в себе вполне компактный квартал в форме параллелограмма. Этот уютный кусочек французской столицы был знаком Куприну как никакой другой. После улицы Оффенбаха он недолго квартирует как раз на Ранелаг, а затем десять лет живёт на бульваре Монморанси, вытекающем из Босежура.
Этот самый Босежур (кстати, что-то вроде «приятного отдыха» в переводе с французского) – западная граница «владений» Жанеты, а вот на Монморанси и дальше, в Булонский лес, путь ей заказан: суровая мамаша налагает самый строгий запрет на дальние вылазки своей непоседливой дочурки.
Но той всё нипочём. Жанета обожаема всеми в округе, и даже старый русский профессор Симонов, рассеянный и чудаковатый, беззаветно прилепляется к малютке, как к внучке, всей своей возвышенной душой. Внезапно вспыхнувшее в нём чистое и непорочное чувство скрашивает одиночество и пустоту существования в эмиграции, вдали от родины, где остались две его дочери от неудачного, давно распавшегося брака.
Разлом, оторванность, практически отщепенство. Несомненно, Куприн во многом изобразил в Симонове самого себя. Невозможность полнокровной жизни в этом великолепном, но чужом Париже для столь любившего щедрое буйство жизни Куприна выражена в предельно трогательном, но, в сущности, безнадёжном отношении Симонова к Жанете.
Как и славный Париж, Жанету можно бесконечно любить, можно восхищаться ею и мечтать подарить ей лучшее, что у тебя осталось, – но не нужно ждать ничего в ответ. В один туманный день Жанета навсегда исчезает, а Симонов всё так же вынужден смиренно ютиться в своей скромной мансарде. Впрочем, он не оказывается совсем один – в окно проникает старый знакомый профессора, чем-то похожий на него самого, – потрёпанный, хромающий, но не сдавшийся кот-бродяга.
Симонов остаётся без Жанеты, а Куприн – в конце концов – без Парижа. Он предвидит это задолго до возвращения в Россию – и пишет об этом так, как мог написать только автор «Гранатового браслета» и «Суламифи»:
«Знаю, что, когда вернусь домой и однажды ночью вспомню утренние парижские перспективы, площади-звёзды, каштановые аллеи, Булонский лес, чудесную Сену под старыми мостами, древние дома, пузатые от старости, Латинского квартала, визгливые ярмарки, выставки цветов, розы "Багатель", внутренний двор Лувра, и всё, всё, всё, – знаю, что заплачу, как о непонятой, неоценённой, ушедшей навсегда любви».
Умевший взволновать своими произведениями любого читателя, Куприн растрогал и Бунина – одним своим потерянным видом в Париже, где практически растворился:
«Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года три назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: ни следа не осталось от прежнего Куприна! Он шёл мелкими, жалкими шажками, плёлся такой худенький, слабенький, что казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, что у меня слёзы навернулись на глазах».
Выход оставался только один – и Куприн об этом тоже загодя всё сказал:
«Умирать нужно в России, дома. Так же, как лесной зверь, который уходит умирать в свою берлогу».
Как бы ни было трудно представить себе живого Куприна под парижским небом – ещё невероятнее было бы увидеть его захороненным там, на французской земле, где-нибудь рядом с Буниным на Сент-Женевьев-де-Буа.
Куприн вернулся в Россию и, протянув всего год с небольшим до своей кончины, вероятно, не успел заметить, как его щемящего чувства к несбыточному Парижу хватило для очень и очень многих. Жанета проворно выскочила со страниц возросших тиражей, огляделась по сторонам и, очаровывая всё новых читателей, поскакала по широким советским просторам.
Попробуй тут загнать её обратно в Пасси!
Зинаида Шаховская: отражения ушедшей России
12 сентября 1906 года родилась русско-бельгийская писательница, знавшая Бунина, Набокова, Цветаеву и многих других видных деятелей русского зарубежья.
14 октября 1975 года в дневнике протопресвитера Александра Шмемана появилась такая запись: «Прочёл присланные мне воспоминания Зинаиды Шаховской. Прочёл потому, что тема – литература, Париж 30-х годов – меня всегда интересует. Бунин, Штейгер, Адамович, Ходасевич. Книга, однако, “маленькая” и потому неинтересная».
Речь шла о книге «Отражения», вышедшей в 1975 году из-под пера известной общественной деятельницы, писательницы и журналистки – княжны Зинаиды Шаховской. Её мемуарные очерки о встречах с писателями русского зарубежья и впрямь получились небольшими и отчасти довольно обрывочными, но «неинтересными» назвать их сложно. Скорее, наоборот: Шаховская, как рачительный художник, постаралась по крупицам памяти и личного архива воссоздать и «отразить» человеческие образы дорогих ей литераторов, которых она повстречала на своём ветвистом жизненном пути.
«Пускай пожар горит над нами…»
Судьба самой Зинаиды Алексеевны сложилась под стать многим героям её мемуаров. Носительница древней княжеской фамилии Шаховских, 14-летней девочкой она под плетью Гражданской войны эмигрирует вместе с матерью и сёстрами, ещё не зная, что практически навсегда увозит на Запад любимую Россию, в которой, спасая семью, остаётся отец. Остаётся ненадолго и только для того, чтобы вскоре погибнуть в бывшем родовом имении, замёрзнув зимой на улице…
Константинополь, Брюссель, Париж – эти жирные точки на карте русской эмиграции последовательно осваиваются Шаховской как места для продолжения образования, далеко не законченного в России. Пожалуй, главное в её скитаниях случается в столице Франции. Старший брат Дмитрий (прообраз Мити в «Митиной любви» Ивана Бунина и будущий архиепископ Сан-Францисский Иоанн) издаёт в Брюсселе журнал «Благонамеренный» и делает сестру парижским представителем издания, вынуждая её погрузиться в суетливую, разбросанную, но такую затягивающую среду русских литературных изгнанников.
«Разговоры об искусстве и метафизике за столиком кафе, на голодный желудок, после одной только чашечки кофе – таков был образ жизни русского Монпарнаса» (Зинаида Шаховская, «Таков мой век»).
Первый визит по редакторскому заданию Шаховская наносит в 1924 году писателю Алексею Ремизову, этому «чрезвычайно проницательному, предельно зоркому, даже как будто не без дара ясновиденья» человеку. Именно Ремизов, склонный к чудачеству и проделкам, «предсказывает» союз Шаховской и студента-химика Святослава Малевского-Малевича, неожиданно вручая им две сушки в качестве символических обручальных колец. Спустя полгода молодых людей (ей 20, ему 21) обвенчал протоиерей Сергий Булгаков, философ-богослов, один из авторов эпохального сборника «Вехи».
Вместе с мужем Шаховская на полтора года переезжает в Бельгийское Конго, а по возвращении из Африки в Европу начинает планомерно прокладывать свою собственную тропу в литературе. Три сборника стихов, изданные в Брюсселе: «Двадцать одно» (1927), «Уход» (1934) и «Дорога» (1935) – были вполне благосклонно приняты эмигрантской критикой.
Георгий Адамович, например, отмечал, что молодая поэтесса вписалась в «общепарижский поэтический стиль. Немного иронии, немного грусти, остановки именно там, где ждёшь развития темы: рецепт знаком. Но пользуется им Шаховская с чутьём, находчивостью и вкусом».
Пускай пожар горит над нами,
О, Русь, я связана с тобой
Тысячелетними снегами
Над чёрной русскою землёй.
…
С тобою скованная снами,
Твой гнев и боль твою деля,
Я помню – дышит под снегами
Всё та же, чёрная земля.
(Зинаида Шаховская, 1934)
Княжна пишет по-русски и по-французски, переводит русских поэтов, работает спецкором бельгийской газеты «Ле Суар» в балтийских странах и Польше. Журналистский труд позволяет ей в 1932 году заглянуть краем глаза в Россию – побывать под Псковом, в Печорах, которые тогда входили в состав Эстонии.
Бельгийская иностранка
В том же 1932-м Шаховская получает бельгийское гражданство, которое во многом спасает её в годы Второй мировой войны. Участница движения Сопротивления на юге Франции, в январе 1942-го она чудом выскальзывает из рук гестапо и перебирается в Англию, где после капитуляции Бельгии находится на военной службе её муж Святослав.
Лондонский редактор Французского информационного агентства, военный корреспондент при союзных армиях, репортёр на Нюрнбергском процессе и в концлагере Дахау – вся война прошла перед глазами чуткой и смелой журналистки, награжденной орденом Почётного легиона Франции.
После стольких пережитых испытаний понятно обращение Шаховской к прозе, в том числе к большой форме. Свои романы под псевдонимом Жак Круазе она пишет только по-французски, и первый же из них («Европа и Валериус», 1949) удостаивается Премии Парижа.
Приходит признание, но Шаховская, испытывая характерное для многих эмигрантов «двоение» идентификации, роняет подёрнутую грустью фразу:
«Для западных людей я оставалась иностранкой, русским же казалась чересчур "западноевропейской"».
Эта цитата – из мемуаров Шаховской «Таков мой век». В 1960-е они впервые публикуются в четырёх томах на французском и охватывают период с 1910 по 1950 годы. Впереди у Зинаиды Алексеевны ещё несколько десятилетий активной общественной жизни, многолетняя работа главным редактором авторитетной «Русской мысли» (1968-1978), полемика с «третьей волной» эмиграции, возвращение к творчеству на родном языке. Так, на русском издаются зрелый поэтический сборник «Перед сном» (1970) и многие важные статьи, в том числе «Весёлое имя Пушкина» (1971), «О правде и свободе Солженицына» (1971), «Трагедия Петра и трагедия России» (1972) и другие.
«Россия, одетая в СССР»
А ещё раньше, в 1956-м, Шаховская на время возвращается в родную Москву (её муж работает там в бельгийском посольстве) и находит тот дом в Сивцевом Вражке, где родилась полвека назад – словно совсем в другой, навсегда ушедшей жизни:
«Всё вокруг было нереальным: этот призрак, возникший из прошлого, город, самый чужой среди многих, царившие здесь безлюдье и тишина. Как-то утром, под бледным февральским солнцем, я пришла сюда ещё раз, понимая тщетность этого сентиментального паломничества. Дом не выдавал своих тайн, а я не могла позвонить у дверей "бельэтажа", как говорили встарь. От облупленных стен, невзрачных, боязливо съёжившихся, веяло тленом и прахом».
Свои впечатления о жизни в советской столице Шаховская отразила в книге «Моя Россия, одетая в СССР» (1958). На этот бестселлер, впоследствии переведённый на многие языки, откликнулся в письме к автору даже сам генерал Шарль де Голль:
«Ваша Россия есть то, что она есть, была тем, чем она была, будет тем, чем она будет. Во что бы её ни "одевали", ничто не может переменить её сущности… очень большого, очень дорогого, очень человечного народа нашей общей земли».
Глава Французской республики словно вторит убеждённости Шаховской о единстве русской культуры, сохраняющей свою цельность вопреки политическим катаклизмам. Если для того же Александра Шмемана «обрыв культуры совершился, ров, пожалуй, незасыпаем» («Дневники», 15 марта 1977), то для Шаховской дело обстоит иначе. С большим интересом изучая советскую литературу, она ещё в 1932 году отмечала:
«Одним словом – и это выглядит очень парадоксально – национальная русская литература пишется исключительно в стране Советов; младшее поколение русских патриотических писателей за рубежом создало своеобразную литературу, может быть не интернациональную, но во всяком случае космополитическую».
Набоков, или рана изгнания
Показательным примером космополитизма эмигрантской литературы для Шаховской явилось творчество Владимира Набокова. Если ему не нашлось места в «Отражениях», то только потому, что в 1979 году Зинаида Алексеевна издала о нём отдельную книгу «В поисках Набокова», да и до этого написала целый ряд статей об этом «одиноком короле» русского зарубежья.
Шаховская была дружна с Набоковым в трудные для него 1930-е и запомнила его как «прелестного и живого человека, с которым никогда не было скучно и всегда свободно и весело». Потеряв контакт после переезда Набокова за океан, Зинаида Алексеевна с особой горечью отмечает происшедшую в нём перемену, «некое омертвление лица», когда в 1959-м вновь встречает Владимира Владимировича – уже обласканного славой и богатством автора. Тогда, на парижской презентации своей нашумевшей «Лолиты», он делает вид, что не узнаёт свою давнюю подругу и корреспондентку (она сохранила 64 его письма), и их отношения прекращаются навсегда.
Поводом вполне могли послужить суждения Шаховской в статье с кровоточащим названием «Набоков, или рана изгнания» (1959). Отдавая должное мастерству гения, сумевшего выработать свой непревзойдённый стиль сразу на двух языках, перо критика препарирует беспочвенность творчества «художника, вырванного из своей природной среды» и создавшего «беспощадный мир», «ледяную пустыню», «трагедию кошмарной свободы».
«Для тех, кто любит интеллектуальное спокойствие, лучше выпить отраву, чем читать Набокова» (Зинаида Шаховская, «Набоков, или рана изгнания»).
И всё же восхищение чарующим талантом Набокова, вспыхнувшее в юности и со временем угасшее, прорывается у Шаховской и после его смерти:
«Что-то новое, блистательное и страшное вошло с ним в русскую литературу и в ней останется. Он будет – всё же, вероятнее всего, – как Пруст, писателем для писателей, а не как Пушкин – символом и дыханьем целого народа. На нём заканчивается русский Серебряный век».
«Эмиграции осуждены на умирание»
11 июня 2001 года завершился и неполный (почти 95 прожитых лет!), но столь наполненный событиями и свершениями век самой Зинаиды Шаховской, упокоившейся на русском погосте в Сент-Женевьев-де-Буа. Она пережила многих знаменитых современников и, сохранив для нас (а для кого же ещё?) их живые, разноцветные, местами мозаичные «отражения», и сама вновь вернулась на родину – теперь уже в своих книгах.
В каком-то смысле сбылись строки Шаховской из поздней работы «Одна или две русские литературы?» (1989):
«Эмиграции осуждены на умирание, и только посмертно то, чем они жили, то, для чего они жили, возвращается к истокам, не задержавшись навсегда в странах, где они были гостями…»
Времена как реки в жизни Михаила Осоргина
19 октября 1878 года родился известный писатель, эсер-максималист, первый председатель Союза журналистов России и один из главных масонов русской эмиграции.
«Сын реки и леса»
«Река должна быть в каждой биографии; без неё серо детство и неблагословенна молодость; старость без неё наступает раньше, и ещё раньше мысль делается сухой и несвободной. В преддверии любой веры должен быть свой Иордан».
Эти слова, написанные Михаилом Осоргиным на склоне лет в книге воспоминаний, во многом стали отражением его собственной биографии. Будущий писатель родился в 1878 году в Перми – городе, чей холмистый ландшафт живописно пронизывают и скрепляют более трёхсот малых рек и ручьёв. Все вместе они составляют единое природное целое с царицей местных рек – многоводной Камой, которая и стала «своим Иорданом» в жизни Осоргина.
«Весь с головы до ног, с мозгом и сердцем, с бумагой и чернилами, с логикой и примитивным всебожьем, со страстной вечной жаждой воды и смолы и отрицанием машины, – я был и остался сыном матери – реки, и отца – леса, и отречься от них уже никогда не могу и не хочу» (Михаил Осоргин, «Времена»).
Столь откровенный пантеизм, нерасторжимый союз с природой и её богатствами, чувство воли и простора как естественного образа бытия всего живущего стали доминантой мироощущения Осоргина и неизменно питали его прозу – изящно текучую, акварельно-прозрачную, рельефно-пластичную.
«Стать Робинзоном? Одно удовольствие!»
Если согласиться с тем, что все мы родом из детства, то для Миши Ильина (такова настоящая фамилия Осоргина) первые годы жизни прошли не только на лоне привольной уральской земли, но и в благотворной семейной атмосфере. Мать с отцом никогда не ссорились, и маленький Миша, а также три его старших сестры и брат, не слышали «не только грубого слова, но даже слова упрёка или недовольства».
Елена Александровна окончила институт благородных девиц в Варшаве и была настолько образованна, что сама готовила детей к поступлению в гимназию. Андрей Фёдорович служил судебным следователем и членом окружного суда по уголовным делам, то есть был из поколения либералов 1860-х – одним из тех, кого вынесли в авангард общественной жизни реформы царя-освободителя Александра II. Именно по стопам отца должен был пойти Михаил, окончивший юридический факультет Московского университета.
Вообще же род Ильиных – один из древнейших в России – был связан нитями родства со многими знатными семействами, в том числе и с Аксаковыми. Читая сыну знаменитую «Семейную хронику», Андрей Фёдорович рассказывал о том, кого из героев романа он знал лично. Михаил восхищённо внимал и прислушивался к ритму книги, и даже много десятилетий спустя признавал в Аксакове своего «любимого писателя, пред русским языком которого я благоговею».
Однако первое литературное впечатление детства случилось для Осоргина ещё раньше, в семилетнем возрасте, и было связано с приключенческой книгой «Робинзон в русском лесу», вышедшей из-под пера Ольги Хмелевой, позабытой ныне писательницы.
«Лучшей детской книжки не было никогда написано. Она меня завоевала и заполнила целиком всё моё детское сознание. Какая красота в этом сожительстве с лесом, какое счастье делать всё своими руками, быть полновластным хозяином неизвестного мира, смело противостоять опасностям, создавать всё из ничего!»
Вновь и вновь, как и во многих других местах у Осоргина, звучит любимый идиллический мотив единения с живой природой, которой просто не нужно мешать: она сама способна научить многому суетливый человеческий род. Мысль, конечно, не новая, но умудрённому писателю она особенно дорога как проросшая давным-давно на родной почве:
«Что привито в детстве, то остаётся на всю жизнь, и я не очень затруднился бы стать Робинзоном: ничего, по-моему, кроме удовольствия!.. Лишь одно непременное условие – моему Робинзону необходим русский северный лес, со снегом, медведем и рыжиками».
«Свобода в триллион раз ценнее жизни»?
Из детских лет Осоргин вынес ещё одно судьбоносное потрясение, которое сказалось на всём его дальнейшем мировоззрении. Всегда мягкая в отношении сына, Елена Александровна однажды посадила Мишу в чулан. Пусть длилось это недолго, но первое лишение свободы настолько ошеломило мальчика, что Осоргин, которому предстояло ещё не раз побывать в заключении, впоследствии сформулировал одну из главных своих максим: никто и ничто не вправе распоряжаться свободой другого человека.
«Когда муха бьётся в стекло, я спешу отворить окно и помочь ей вылететь; и даже если это не муха, а комар, напившийся моей крови, – всё равно! Не потому, что я такой милостивец, – я, может быть, прихлопну его ладонью прежде, чем он успеет меня укусить, жизни лишу, но свободы лишить не способен: свобода в триллион раз ценнее жизни, это я раз навсегда решил и за себя, и за комара!»
В этих накаленных до предела строках звучит дрожащий голос человека, который просто жаждет высказать нечто сокровенное, давно выношенное. Он почти срывается, пытаясь убедить в правоте своей отнюдь не бесспорной мысли. Только вот – убеждает ли?..
В 1903 году молодой адвокат Михаил Ильин женится на Екатерине Маликовой – участнице боевой организации социалистов-революционеров, а в 1904-м – и сам вступает в партию эсеров. В 1905-м в подпольной газете «Революционная Россия» выходит анонимная статья Ильина «За что?», оправдывающая террор как метод политической борьбы. Незадолго до этого эсер Петр Куликовский, одно время скрывавшийся в квартире Ильина, застрелил в упор московского градоначальника – графа Павла Шувалова.
И вот что пишет тогда 26-летний Ильин:
«Пусть эхо выстрелов прозвучит по всей стране и зовёт народ к вооружённому восстанию… Пусть каждый, кто не задумался ещё, за что убиваем мы царских слуг, поймёт, что это делается в борьбе за благо народа…»
Моральный релятивизм и неприятие любых навязанных догм будут и дальше характерны для Осоргина. В одном из частных писем он подчёркивает:
«Я признаю только один критерий для оценки поступков. Это мерило – моя совесть. Я не верю в объективные моральные истины и называю их догматическими предрассудками. Для меня дурно или хорошо то, что я считаю таким, а не то, что таким считают другие. "Будь верен себе" – вот единственный категорический императив».
«Где был счастлив»
В декабре 1905 года следует арест и заключение в Таганскую тюрьму, а после освобождения под залог Осоргин бежит в Финляндию и к концу 1906 года переезжает в Италию, которая становится его второй после родины сердечной привязанностью.
«Там, где был счастлив» – так назовёт Осоргин автобиографическую книгу об Италии, вышедшую в 1928 году. И такое заглавие далеко не случайно. Осоргин наслаждается давно чаемой свободой и дарованной яркостью красок, становится востребованным как журналист и гид по Вечному городу, расходится с первой женой, но встречает молодую Рахиль Гинцберг, с которой живёт гражданским браком.
В 1913 году выходит книга «Очерки современной Италии», а в 1914-м случается ещё одно важное событие – Осоргин вступает в масонскую ложу, пока что в роли ученика.
После десяти лет, проведённых в Италии, настаёт время вернуться в Россию. Страна вовлечена в Первую мировую войну и находится на пороге революционных перемен, и Осоргин своим бойким пером с головой погружается в общественное бурление. Кроме публицистики, он занимается организаторской работой и в марте 1917-го становится председателем новообразованного Союза журналистов и сопредседателем московского отделения Всероссийского союза писателей.
На следующий же день после октябрьского переворота Осоргин призывает к сопротивлению большевикам в статье «Драться – так драться!» и примыкает к изданиям оппозиционной направленности. Новым властям довольно быстро удаётся пресечь печатный разброд и шатание, и в условиях информационного голода Осоргин со товарищи открывает в голодающей Москве… книжную лавку писателей!
Представьте себе: вы приходите в магазин – а вас радушно встречают там такие блестящие умы, как философ Николай Бердяев, писатель Борис Зайцев, поэт Владислав Ходасевич, искусствовед Павел Муратов, литературовед Борис Грифцов, историк Алексей Дживелегов.
Кстати, в творчестве Зайцева, Муратова и Грифцова также вдохновенно отражается культура Апеннинского полуострова. Вместе с ними Осоргин заседает в «Студии Итальяно», которую вполне можно считать прообразом Итальянского института культуры в Москве.
Кроме того, Осоргин по просьбе Евгения Вахтангова переводит пьесу Карло Гоцци «Турандот», ставшую визитной карточкой театра на Арбате, а в театре Корша ставится комедия Карло Гольдони «Слуга двух господ» – также в переводе Осоргина.
«История многое простит большевикам, но этого не простит»
В 1921 году Осоргин становится редактором бюллетеня «Помощь», выпускаемого Всероссийским комитетом помощи голодающим (ПОМГОЛ). Это благое начинание выдвинуло на авансцену силы, в лице которых большевики увидели серьёзных политических конкурентов. По приказу Ленина следуют аресты членов ПОМГОЛа – и Осоргин, Зайцев и Муратов в числе первых попадают на Лубянку.
«Все койки заняты были людьми отборными – профессорами, писателями, инженерами, врачами, экс-министрами, – цветом полувоскресшей ненадолго московской общественности. Решили, ради отвлечения от тревожных мыслей, читать лекции – каждый по своей специальности. Борису Зайцеву досталась, конечно, современная литература».
Зайцева довольно быстро отпустили, а вот Осоргина спасло от расстрела лишь заступничество Фритьофа Нансена, в 1922 году удостоенного Нобелевской премии мира. Следует ссылка в Казань, а вскоре – и высылка из России на знаменитом «философском пароходе».
«Напрасная половина жизни»
Именно в эмиграции расцветает талант Осоргина как романиста. Как он сам признавался, «в России писать было "некогда"», – много сил и времени отнимала постоянная вовлечённость в дела вершившейся на его глазах истории.
Обосновавшись в Париже, Осоргин не то чтобы «уходит в себя» – напротив, он всё так же активен на страницах эмигрантской печати. Но вдали от родины обостряются духовные поиски этого «всебожника» и в 1925 году приводят его в масонскую ложу «Северная звезда», где он дорастает до высшей степени иерархии – «досточтимого мастера» (1938-1940). Роль наставника Осоргин исполняет и в основанной им самим независимой ложе «Северные братья». Одним из тех, кто подпадает под обаяние увлечённого «мастера» и принимает его учение, становится, например, Гайто Газданов.
Кроме участия во «Всемирном Братстве Чудаков» (так аллегорически именует Осоргин масонство в книге «Происшествия зелёного мира»), оторванный от родной среды писатель работает над главным своим инструментом: «Половину своих дней я отдаю работе над своим русским языком».
И эта работа приносит плоды. В 1928 году, когда Осоргину уже 50 лет, в Париже выходит его первый и, вероятно, самый известный роман – «Сивцев Вражек», действие которого охватывает «кровоточащий» период 1914-1920 годов. Сочетая в себе элементы русского семейного романа с модернизмом в стиле Андрея Белого или Евгения Замятина, повествование о жизни московской семьи интеллигентов строится на толстовском подходе: жизнь простых людей на фоне событий большой истории. Поэтому, наверное, от «Сивцева Вражка» отчасти веет и дыханием булгаковской «Белой гвардии», также впервые полностью опубликованной во Франции в 1927-1929 годах.
«Вне России никогда не ощущал себя "дома", как бы ни свыкался со страной, с народом, с языком. Жизненный материал для книг давала только русская жизнь – и он казался мне неистощимым. Полжизни прожив за границей, я не вижу надобности говорить об этой напрасной половине; она слишком лична».
Успех дебютного романа («Сивцев Вражек» переводится в Соединённых Штатах и получает премию Американского книжного клуба) позволяет Осоргину приобрести участок земли под Парижем, в Сент-Женевьев-де-Буа. Здесь, на русском погосте, в 1995 году упокоится третья жена писателя, Татьяна Бакунина. Она переживёт супруга более чем на полвека и станет верной хранительницей его памяти и архива, составит «Биографический словарь русских вольных каменщиков».
Идеям построения всемирного братства в пропитанном буржуазным духом обществе посвящён роман «Вольный каменщик» (1937), который понравился далеко не всем собратьям Осоргина по масонству: зачем, мол, раскрывать секреты непосвящённым?
Чуть раньше выходят два романа, в которых отражается тема революции: «Свидетель истории» (1932) и «Книга о концах» (1935). Находится ей место и в одном из главных сочинений Осоргина – мемуарной книге «Времена». Две первые её части («Детство» и «Юность») публикуются в 1937 году, а завершающая («Молодость») увидела свет уже после кончины автора. Начинается Вторая мировая, и в 1940 году Осоргин уезжает из Парижа подальше от нацистов в Шабри, где и уйдёт из жизни в ноябре 1942-го, в самый разгар войны, от сердечного приступа.
«И вот я на берегу французской реки, имени которой прежде не слыхал. Теперь уже совершенно безразлично, где жить и к чему ещё готовиться: книга закончена, не стоит затягивать послесловие» (Михаил Осоргин, «Времена»).
Не станем затягивать с послесловием и мы. А лучше откроем любую из книг Осоргина – и сразу окунёмся в лирическое журчание русского слова, такого чистого и такого живого.
Марк Алданов: исторический романист, не веривший истории
7 ноября 1886 года родился один из самых уважаемых и парадоксальных авторов русского зарубежья.
«Как же надоело писать книги»
В декабре 1928 года Иван Бунин получил письмо, содержавшее такие строки: «Работа моя продвигается плохо. Не могу Вам сказать, как мне надоело писать книги. Ах, отчего я беден, – нет, нет справедливости: очень нас всех судьба обидела, – нельзя так жить, не имея запаса на два месяца жизни».
Через пять лет Иван Алексеевич получит Нобелевскую премию по литературе, а ещё через пять – впервые выдвинет автора письма, Марка Алданова, на ту же самую номинацию. И сделает это потом ещё восемь раз, в том числе в год своей смерти, в 1953-м.
В итоге Алданов станет абсолютным рекордсменом среди русских писателей, так и не удостоенных вожделенной Нобелевки, – в общей сложности его номинировали целых 13 раз. Даже «вечный кандидат» Дмитрий Мережковский остановился на десяти попытках.
Денежные сложности будут преследовать Алданова на протяжении почти всей его жизни в эмиграции, но он ни разу не изменит своему литературному призванию, которое, впрочем, обнаружилось довольно поздно.
А начиналось всё для будущего писателя так прочно и основательно, что о житейских неурядицах приходилось думать в самую последнюю очередь. Если вообще приходилось.
Химик против Писателя
Марк Александрович Алданов (это псевдоним-анаграмма от его настоящей фамилии – Ландау) родился в 1886 году в Киеве в богатой семье сахарозаводчика и получил блестящее многопрофильное образование. Ещё в гимназии он выучил пять языков (кроме английского, французского и немецкого, ещё и латынь с древнегреческим), а в Киевском университете окончил сразу два факультета – юридический и физико-математический.
Первая статья вышла из-под пера молодого учёного в 1912 году и называлась так: «Законы распределения вещества между двумя растворителями». В дальнейшем увлечение химией не только разнообразно скажется в литературном творчестве, но и засверкает в основательных научных трудах. Во время Первой мировой войны Алданов участвует в разработке способов защиты Петрограда от газовых атак. А уже в эмиграции выйдут его книги «Лучевая химия» (1936) и «О возможностях новых концепций в химии» (1950). Первую из них в письме всё тому же Бунину автор назовёт своим лучшим произведением.
Одним из ранних героев Алданова-прозаика становится Химик, ведущий диалоги с Писателем в философско-публицистической книге «Армагеддон» (1918). Здесь Алданов впервые обращается к теме революции, которая будет интересовать его на всём творческом пути.
«Любая шайка может, при случайно благоприятной обстановке, захватить государственную власть и годами её удерживать при помощи террора, без всякой идеи, с очень небольшой численно опорой в народных массах; позднее профессора подыскивают этому глубокие социологические основания».
В этих словах уже заложено зерно философии случая – историософской концепции, которую будут развивать другие герои-резонёры Алданова, выражающие его скепсис в отношении законов исторического процесса. Наиболее полно автор постулирует свои установки на эту тему в позднем философском диалоге «Ульмская ночь. Философия случая» (1953).
Пока же Алданов утверждает: «Демократия всё же лучший выход, придуманный человеческой мыслью за три тысячи лет истории». Написано это почти за тридцать лет до знаменитой (хоть и отнюдь не бесспорной) формулы Уинстона Черчилля: «Демократия – худшая форма правления, если не считать всех остальных».
Неприятие Октябрьского переворота и большевистской идеологии на страницах «Армагеддона» не только приводит к изъятию тиража неугодной книги, но и приближает её автора к расставанию с родиной. В апреле 1919 года, транзитом через Одессу, Константинополь и Марсель, Алданов оказывается в Париже.
Искушение историей
Обосновавшись в столице Франции, писатель продолжает свои исторические штудии, учится в Высшей школе социальных и политических наук, издаёт книгу с характерным названием «Две революции: революция французская и революция русская» (1921). Тогда же, в год столетия со дня смерти Наполеона Бонапарта, выходит повесть «Святая Елена, маленький остров» о последних днях французского императора. Эта работа приносит известность Алданову-беллетристу и впоследствии становится завершающим звеном в тетралогии «Мыслитель», включившей также три романа об эпохе Французской революции и наполеоновских войн: «Девятое термидора» (1923), «Чертов мост» (1925) и «Заговор» (1927).
Само название цикла отсылает к химере «Мыслитель», лукаво взирающей на тщету человеческой жизни с вершины Собора Парижской Богоматери. Един конец для всех: и для простых смертных, и для великих людей, поддавшихся на третье дьяволово искушение – посулы земной власти и могущества.
Вот почему у тела покойного Бонапарта звучат строки из самой пессимистичной и, вероятно, наиболее близкой для неверующего Алданова библейской книги – Экклезиаста: «Всему и всем – одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому».
Гайто Газданов писал об Алданове: «Его психология, его личные взгляды выражены в его книгах, и надо сказать, что эти взгляды довольно безотрадные. Пессимизма в нём было больше, чем в любом из его современников». А Борис Зайцев также отмечал: «Внутренний тон всего, что он писал, всегда глубоко-печальный, экклезиастовский».
И всё же в мире случайностей, беспорядочно наслаивающихся и громоздящихся друг на друга, для Алданова важна роль личности, которая вовсе не упорядочивает хаос проносящихся событий, но использует их благоприятную комбинацию и взмывает на гребень непредсказуемого исторического действа. Таков Наполеон, таков и Ленин, «чрезвычайно сильная и очень интересная личность», о которой Алданов пишет большую работу ещё в 1919 году.
«Ни один человек, даже Пётр Великий, не оказал такого влияния на судьбу России. Ни один человек, даже Николай II, не причинил России столько горя», – так начинается этот труд. С разрушительной ролью Ленина писатель не примирится даже перед самой смертью: «…Я его ненавижу, как ненавидел всю жизнь… Того же, что он был выдающийся человек, никогда не отрицал» (1957).
Вообще политический портрет становится одним из жанров, которым Алданов мастерски овладеет. Он напишет очерки о Жозефине Богарне и Мате Хари, Сталине и Луначарском, Ллойд Джордже и Черчилле, Клемансо и Пилсудском, Евно Азефе и Махатме Ганди – и это далеко не полный список.
Композитор и музыкальный критик Леонид Сабанеев, близко знавший Алданова, утверждал: «Во всём он был не поверхностно, не с налёту, а глубоко и тщательно осведомлён. Я думаю, что другого русского писателя с такой эрудицией в стольких областях совершенно разных и не существовало… Не зря он говорил, что треть своей жизни просидел в библиотеках и за чтением книг».
Загадка Толстого
В 1922-1924 годах Алданов живёт в Берлине, где женится на своей двоюродной сестре Татьяне Зайцевой. Там же выходит книга «Загадка Толстого», судьба которой сама по себе весьма любопытна. Она вырастает из литературоведческого труда «Толстой и Роллан», первый том которого издаётся в 1915 году в Париже и привлекает внимание критики и Софьи Андреевны Толстой. А вот рукопись второго тома оказывается утраченной в годы революции, и только в 1923-м Алданов переиздаёт работу, уже без раздела о Ромене Роллане.
«Мы останавливаемся перед неразрешимой проблемой Толстого. Эллин, перешедший в иудейство, или иудей, проживший долгий век эллином, влюблённый в жизнь мизантроп, рационалист, отдавший столько труда критике нечистого разума, гений, рождённый, чтобы быть злым, и ставший нечеловечески добрым, – Лев Толстой стоит перед нами вечной загадкой».
Фигура великого старца из Ясной Поляны настолько восхищала Алданова, что Георгий Адамович подмечал: «Он произносил эти два слова "Лев Николаевич" почти так, как люди верующие говорят "Господь Бог"».
Газданов также уловил в скептике Алданове эту удивительную черту: «Единственный писатель, перед которым он преклонялся, был Лев Толстой. Вся его отрицательная философия, – если так можно сказать, – его вежливо-презрительное отношение ко всему – будь это наука, политика, историософия, литература, – всё это переставало существовать, как только речь заходила о Толстом».
«Иудей, проживший долгий век эллином, влюблённый в жизнь мизантроп, рационалист», – уж не себя ли самого аттестует в этой палитре автор, говоря о Толстом? Алданов, конечно, никогда бы в этом не признался, да это и не нужно. Для писателя, выбравшего своим героем другого писателя, почти самое обычное дело – стать (или пожелать стать) хоть немного на него похожим. При этом, как утверждал Сабанеев, из числа современников для Алданова «высшим авторитетом был Бунин и даже, видимо, просто влиял на его вкусовую установку».
Алданов сошёлся с Буниным во многом на почве почитания Толстого, а также – в схожей ориентации на традиции классической русской литературы. Всё тот же Сабанеев так объяснял творческую «настройку» Алданова:
«Он был пережитком эпохи едва ли не шестидесятых годов прошлого [XIX] века, и его культурный горизонт и идеалы ближе всего идеалам той России – либеральной, но умеренной, культурной и с высокими нравственными устоями, свободомыслящей в области умозрения и политики… Ум Алданова и вся его психика были окрашены в известной степени в старомодные краски: он уже был чужд исканиям символистов».
Восприятие свободы как высшей ценности в пространстве нравственной красоты (по-эллински говоря, «калокагатии») приводит Алданова к отрицанию общественно-политических потрясений: «Война и революция – худшее, что может случиться со свободными народами».
Оспаривая взгляды Алексея Толстого и его «Хождения по мукам», Алданов пишет свою романическую трилогию о судьбах русской интеллигенции в революционные годы: «Ключ» (1929), «Бегство» (1931), «Пещера» (1934).
Загадка Алданова
Мировые «случайности» продолжают преследовать писателя, и в 1940 году, после капитуляции Франции, Алданов покидает оккупированный нацистами Париж и перебирается в Ниццу, а оттуда уезжает в Нью-Йорк. Время за океаном не проходит даром: в 1942 году вместе с Михаилом Цетлиным он учреждает «Новый журнал», ставший литературным преемником парижских «Современных записок». Там же в Америке Алданов работает над самым крупным из своих произведений – «Истоки». Роман впервые выходит в полном объёме уже во Франции, куда автор возвращается в 1947 году.
